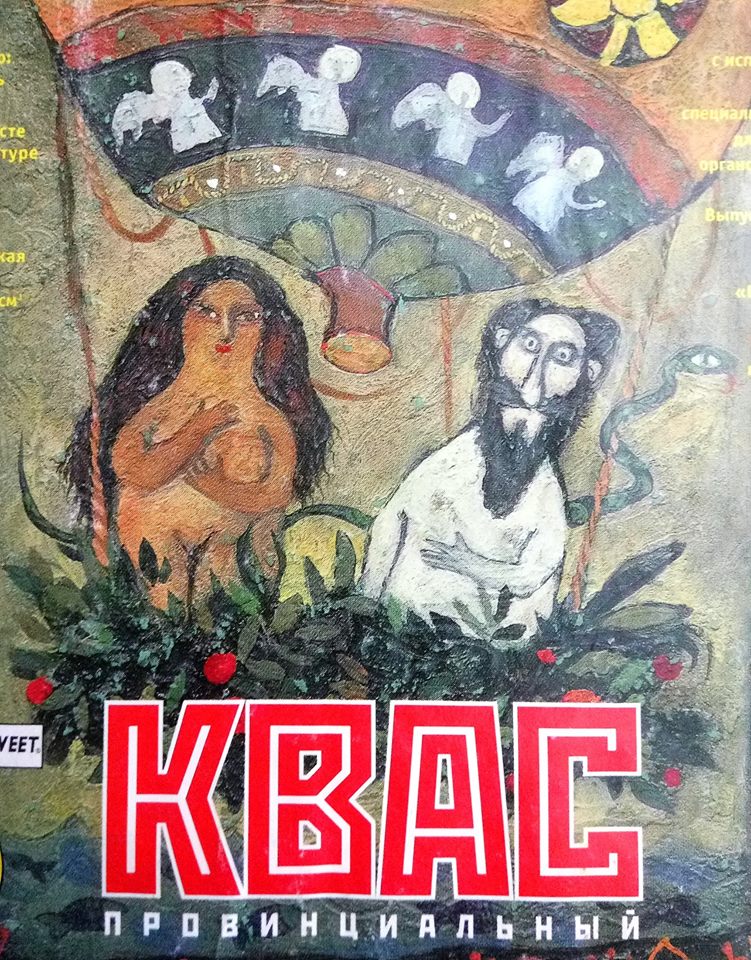Александр Сафонов — на Трёх вокзалах

Александр Сафонов
(Сашка Бор)
03.10.1974 — 16.06.2018
Боже, Боже, как мне надоело каждый день вот так мирно умирать! Боже, как я устал от всего вашего мира! Однажды я получил письмо, оно стало основанием всей моей следующей жизни. Написала мне его Наташа З., стоял 81 год. Она написала мне: «я тебя люблю, встретимся у аптеки?»
С тех пор прошло много, множество лет. Но я так ее и жду у этой дебильной аптеки. Дурак я.
Ещё в ФИНБАНЕ:
«Топос»
На Трех вокзалах — Том 2
Дурацкие стихи
Это последнее Сашино в фб. 15 июня 2018 Написал и умер.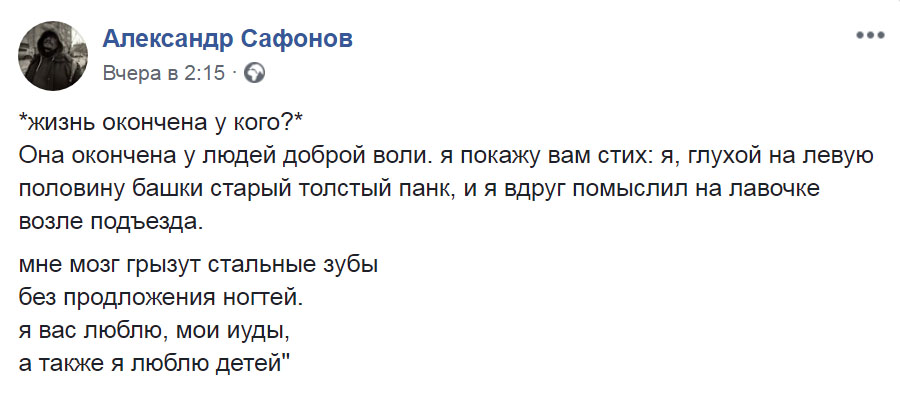
картина: Дмитрий Иконников
Ко мне часто подходят на Трех вокзалах ребята. Один вот только что подошел, трое — на той неделе приходили. Не спитые, не ворюги: я вижу. Обыкновенные мужики, которым жена сказала: «твои вона, бездельник, все заплечные на москве, а у меня — уёбище в кровати! Не дам!!» И он, и они поехали.
Подходит. Не спитой: я хуже выгляжу со своими пункерскими замутами, подходит, руку пожимает. Я наушник из уха вынул, где Нина Симон, и услышал. Я с села Преображенское/Воздвиженка/Лисий хер, я вижу, ты тут уже полгода мимо ходишь! Возьми шнырем хотяб!» Да как я могу? Смотрю: правда путевый мужик, какой он шнырь? В шныри белок берут. Потряс ему руку, говорю: брат, какой ты шнырь? Давно из дома? Оказалось три оттянул себе за кражу из местного сельпо: наудачу участковый ехал на тарацикле с коляской, а он водку уворовал ящик. Участковый милостивый, дал допить всем тем мужикам, а потом забрал этого чувачка.
И вот до слез настоящих жаль: рабочий мужик, не по синьке, не по вене двигается, говна не нюхает — видно! Он говорит: возьми меня, шнырем буду! Да был бы я кто… Обещал спросить, да сердце кроаью обливается. Вон у меня тесть такой же с виду. Ну, ему повезло, он бурильщик, там платят. А сотни мужиков, не пьяниц, не наркотов, ходят и ищут работу… и говорят корректорам: возьми! Возьми шнырем!
Как грустно. Я бы взял его корректором, но он не различает «не» и «ни». Это ничего страшного, правда. Просто у меня за них душа болит. Очень. Будь я рокфеллер, я бы их всех нанял: проституток, мужиков, бомжей, всех. Дал бы им какое-нибудь задание: Молитесь за меня Богу. А я — за вас. И стали бы мы с проститутками молиться вечно и вечно, вечно и вечно, вечно и вечно. И тогда нас всех спасет Бог. Всех. Это я, Саша Сафонов, вам очен ь обещаю. … Очень.
.
Однажды я плакал так, как плачут только покинутые дети. В моих слезах хрустели снежинки. Никто мне не был нужен, а только бы кружиться. В воздухе. Я хотел полететь с сосны и хрустеть снежимками в глазах. Снежимками. А моя прабабушка Мария Феодоровна меня вдруг поймала. Я рассыпался нахер блях, от меня не оставалась НИЧЕГО ВООБЩЕ, а она меня поймала.
И рассказала историю.
Представь, внизу, у Северной Двины, приехали инопланетяне. «Кто?» — «Инопланетные!» — «Баушк, брось !» — «Тебя искали!» — «А маму?» — «Не! Тебя» — «Я-то на что!?» — «Впрягут в колесницу, поедешь!» — «Ба! Я!?» — «Ты!» — «На что!?» — «Корабль им будешь двигать космический!» — «Ёлки ж! Бабушка, Марь-Фёд!»
И показывает пальцем. А там с Северной Двины с поворота Николай Николаич едет, куркуль местный, наш. На таратайке. А у таратайки колёса пижжены. И любой дурка догадается, а он их перекрасил. Колёса размером с трактор, а он едет.
Я прабабушке говорю: «Это ж что!?». А Бабушка отвечает: «Фаэтон».
Вот так в фаэтоне я до сих пор и живу.
.
***
Родился я в 1974 году. Странно, но почему-то в г. Москве. Мама моя совсем северная, Архангельская, оттуда ее корни, но война занесла деда, то есть ее папу, в Оренбургское летное училище, где он и учил курсантиков летать и немцев стрелять. Его отец, то есть мой прадед – священномученик диакон Иоанн. Иван Иванов. Когда к нам на север пришла Советская власть, священника сразу расстреляли, на месте, а он, дедушка, дьякон, за одну ночь написал от руки огромный красный плакат. И написал на нем: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!». И прибил над воротами храма. «Убирай плакат!» — «Не уберу никогда!» И тогда его схватили. Конечно же, его арестовали, отправили в воркутинские лагеря, впрочем это не так далеко оттуда, а в лагерях он умер от туберкулеза, уголовников или, возможно, его расстреляли.
Поэтому мой дедушка, сын-беспризорник отца Ивана, рос на улице: ведь они одни остались. Трое. А жена же священномученика диакона Иоанна, «матушка», моя прабабка Анна, сразу сбежала. Самый старший, то есть родной мой дед, в шесть лет так и пошел по улице с гармошкой. На то и вырастил Мишу-брата, которому было около трех и сестру Лиду – которой было два.
Наступила война, и он оказался в Оренбурге. А бабушка – в Архангельском мед.институте. Но встретились все-таки. Моя бабушка, Ангелина Ивановна, северная, невероятно красивая и строгая женщина, всю войну спасала морячков. А потом, когда война закончилась просто бросила все и поехала «к Вале». Валентин Иванович, так звали моего дедушку. Причем до этого они виделись только в последних классах в школе перед войной и потом даже не переписывались! Это не к знакомому в гости! Ей сказали, что он в Оренбурге, и она поехала.
Поэтому моя мама из Оренбурга, но Архангельская. Просто, с моим папой они встретились уже тут, в Москве, в МГУ. В 16 лет моя мама выкрала паспорт и с подругой тайком уехала в Москву поступать в Университет. И поступила. На физфак!
Мой папа, боевой офицер, военный летчик, воевавший в Афганистане, Камбоджи, Анголе, Мозамбике и Вьетнаме тоже из семьи священников. Мой прадед по отцовской линии, то есть его, моего отца, дедушка был исповедником. Он настоятельствовал в Черкизовском храме Илии Пророка. Он и сейчас там, в Черкизове, на прудах, в могилке за алтарем. Его прямо вместе с матушкой Анной сослали копать Каракумский канал, оставив в Москве без всего всех их деток. Самой старшей, Зине, не считая погибших на фронте, было 15-ть.
Было так: когда на Ленинградской бойне убило Сергея – среднего сына из пяти детей, отец Алексий как раз отслужил литургию только-только. И вдруг что-то его потянуло, он вышел прямо в облачении на улицу и смотрит: Сереженька идет! В шинели, с винтовкой. Это посреди войны в Москве! Отец Алексий кинулся, прям как был, расцеловал его: «Сыночек, сыночек». А тот поулыбался, поклонился, поцеловался и ушел. Это не «глюки» и не «церковное сумасшествие»! Это был мой прадед, отец протоиерей Алексей Соколов – друг «школярский» по семинарии и академии (МДАиС) Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского), далеко не экзальтированный по жизни человек. Патриарх бывал у нас дома, они с отцом Алексием пропускали «по кагорчику», а молоденькой моей бабушке Зине Патриарх целовал обязательно ручку и говорил, что она невероятная красавица.
Дедушка по отцовской линии один-в-один тот самый «Макарыч» из «В бой идут одни старики». Он бомбил Берлин на Ту-2. Потом, к концу войны, его списали, и он стал, как Макарыч, на земле. Он был толстый видавший все мыслимые и немыслимые виды человек. Когда он вернулся с войны, то за этой маленькой Зиной и стал ухлестывать. Но он был летчик, а дядя Сима – брат моей бабушки – инфанта! И он с сорок первого до сорок пятого ногами это прошел. И он летчиков, в общем, ненавидел. Потому что они летали с пушками в железных птицах, а он, солдат, лежал в самой глубокой черной страшной луже и в самом глубоком говне в совестком союзе.
Я его застал в живых. Он потом, вернувшись с войны, до смерти работал в Московской Патриархии. Он наступил на мину в 44-ом. Это мина пехотная, осколочная. Он был весь синий. Как его вытатуировали всего. Осколочки, которые выходили из его лица, тела, рук, ладоней, я складывал в рюмочку.
Но к чему речь: он не мог переносить летчиков. А вернувшись с этой дикой бойни он засёк сестру – мою бабушку, – с летчиком! Минутку, послушайте! Он, синий от осколков пехотинец, которых много миллионов погибло, а он прошел, выжил, выстоял, черт побери!
И он, из госпиталя вернувшись, стал кидаться в него грязью! «Ты летчик? На от пехоты!»
Пока он был жив, он рассказал, как они спали. Спали ор, когда шли. Менялись раз в часть. Пристроятся к телеге, и если один упадет, то остальные его к телеге подтянут.Четыре года!
А я родился в моем мире, в дорогой моей СССР. Я думаю, что это самая лучшая страна в мире, потому что это моя милая-милая РОДИНА, когда я был маленьким. Я мог стрельнуть на улице две копейки и быть уверенным, что мне их дадут.
Окончил школу. Бандитскую школу, на самой-самой окраине: большинство моих друзей так и сидит по лагерям. Ну, а я жил летом больше на севере. Работал там пастухом. По окончании школы, нет, раньше, стал хиппи. Но хиппи – они скушные со своей нескончаемой Умкой.., зато на Арбате… ОЙ, что только не происходило!
Воцерковился же я в конце 80-ых. Сначала-то я пошел к баптистам. Но эти тётки так много, больно, истово и страшно целовались, что я этого не вынес: не мог. Но занесло меня к Меньшиковой башне в Антиохийское подворье. И именно Антиохия и отец Нифонт сделали меня православным человеком. Хотя отца Нифонта семинаристы прозвали «черный ворон». Он однажды ворвался на литургию, кажется уже на Херувимов, в храм Феодора Стратилата и заорал: «Молчать! Дьякон, ты за штат, остальные стоять и даже не моргать от страха!» Поэтому и черный ворон.
Книжек-то не было, кроме как в этих наших уездных книжных магазинах о рабочих и колхозниц. Ходили по рукам бумажки: «Хоба-хоба! Но вернешь в среду!» Ну стану я в среду возвращать!..
Закончил я институт, Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева, поступил в аспирантуру… Потом стал журналистом, хоть и дурацким. Всего около 300 публикаций.
Потом меня сильно закрутило. Но монахи уговорили пойти в богословский институт. В Лавре как раз. И я пошел.
Закончил РПИ Иоанна Богослова с красным дипломом.
Сейчас: катехизатор храма Адриана и Наталии на должности совместителя и кто-то там в гимназии. Но меня, видимо, уволят: я им «не форматный».
Цель жизни: расплакаться. Поклон.
.
«…Эх, а вот постараться бы и дожить до такой умной старости, когда в любом сарае с крестом на крыше и престолом внутри было бы спокойно и хорошо молиться, и уходить из него совершенно не хотелось бы. А уж софрино там картонное на стенах висит или византийского письма потемневшие образы, партес там на клиросе грохочет в двадцать глоток или полтора певчего крюками из угла скулит — всё это, в общем-то, до лампочки. Главное, чтобы спокойно и хорошо».
.
Однажды, очень уже давно, с одним близким мне батюшкой произошла одна поучительная история. Он только-только начал служить, и в него впилась саблезубыми клыками одна прихожанка N., годная ему в бабушки. Она терзала его неимоверно: подлавливала его после службы у храма и рассказывала ему какие-то дикие вещи. Как бывший физик на пенсии, она ему рассказывала о цикле Карно и втором законе Термодинамики, о чудесах Матронушки и в остальном, по мелочи.
Батя выл как Акелла. И он из последних сил пришел ко мне и сказал: «Саша! Помоги!!!!».
И я пришел на встречу с этой N. Батя тотчас свалил, перекрестив меня, а я выслушал Специальную теорию относительности в применении к чинам ангельским и про Божественные пожары. А потом (простите меня, ребята!) сказал ей: «Иди ты в жопу!»…
Вот батя со мной с тех пор сильно и задружил. Ну а что с меня взять-то?..
.
Господи! Награди меня мозгом! Всё остальное может отнять милиция.
Здравствуйте, дорогие мои ребята, с вами снова долгожданная Пионерская зорька. Во-первых, я тут случайно заметил, что Бога от человека отличает одна закономерность: у Бога всегда есть время для человека, а у человека для Бога – не находится. И ты машешь своими этими тремя глупыми человеческими черными пятками перед Богом, танцуя на черном от слез полу, а Он — всегда рядом тутошки с тобой. Он — гораздо ближе, чем это может понять наш с вами, ребят, мурзик, брат, открой очки! У Него всегда есть на тебя время. А ты, дурило? — есть у тебя время на Бога? Вот то-то и оно, что ты его прогаживаешь.
Один старый больной алкоголизмом панк, который каждое утро встречает с ужасом, он поверил в Бога. Ну и в вас. Ребят, в вас. Несите на ваших ленточках что угодно: белые, желто-голубые, черно-красные, хоть фиолетовые. Но никогда не забывайте, что Бог — это ближе, чем обычно. Это то, о чём ты плачешь в свою подушку.
Ладно. Самому душу разодрало.
.
из переписки с А.Бабушкиным
Поэтому христианство — наиболее близкое ко мне верование с эсхатологией, обещающей сохранение личности и тела!!
тело -хрен с ним, а вот личность так-то жалко…)))))
.
*поехали дальше*
«Несколько братьев (монахов), живших на краю Скитской пустыни, обнаружили однажды у себя корзину. В корзине плакал чернокожий младенец, который, несомненно, был подкинут эфиопским караваном, проходившим тут накануне. Растроганные таким непредвиденным подарком небес, братья стали усердно кормить и заботиться о младенце.
Шло время. И вот как-то один из братьев, весьма озабоченный, сказал:
– Нужно, чтобы кто-нибудь из нас выучил эфиопский язык.
– Но почему? — воскликнули изумленные братья.
– Потому что скоро младенцу исполнится год, и он начнет говорить, а никто из нас не знает его языка».
Отменил я занятие у своего ученика: еще не хватало, чтобы я его заразил! Сходил до аптеки. А там такая молоденькая девушка-провизор у кассы стоит, такая тоненькая, что я не удержался и говорю: «Девушка, миленькая, у вас есть что-нибудь от лихорадки Эбола в нос закапать? Замучила же, подлюка такая!»
У девушки глаза вспыхнули неподдельным ужасом, и она выронила из рук маникюрный наборчик, которым до меня за кассой баловалась.
«А глисты, например? — продолжил я, — Они тоже, конечно, совсем не мешают, но я из принципа хочу узнать, что им больше всего не нравится в этой жизни?»…
Ну, потом извинился, конечно, девушка очень красная была, покраснела: дурак я такой дурак! Дала мне от горла лекарств, расплатился я, говорю ей: «Спасибо! Я еще к вам зайду!» — «Лучше не надо…» — отвечает.
А самочувствие и правда говняное: такая усталость, будто я никогда не спал тысячу тысяч лет. Присел же на лавочку во дворе: вдруг дед подходит. Обыкновенный дед, с задоринкой. Сумки рядом со мной свои поставил: ни здрасте, ни до свиданья: нафиг я ему такой нужен? Выудил из рукава бутылку пива: как жахнет пробкой по лавке, лавка аж ходуном подо мной заходила. Пробка — фьють! — и полетела через дорогу к самому подъезду.
Дед бутылку залудил в одно дыхание, посмотрел на меня, как на инвалида самой гадской группы, сумки свои подхватил и дальше пошел быстрым шагом. «Заслужил», — подумал я.
Есть одна очень полезная молитва, именно по-настоящему полезная, как правильное и настоящее лекарство. Звучит она так: «Достойное по делам своим приемлю, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем». Когда я учился на первом курсе первого своего института, я ее, эту молитву, тушью (у брата черчение было с тушью) над своей кроватью на стене написал большиииими буквами.
Смысл у этой молитвы один, и он самый главный: понять, что ты — дурацкий козёл, и помириться с Богом.
Со мной приключались очень удивительные происшествия, очень! Но я всегда помнил, что есть одна такая молитва, которую не от сердца и не прочтешь-то: не получится, не вспомнишь!
Ладно, пошел я горло лечить. Не грустите там!
.
На улице встретился с одноклассником, точнее, мы с ним и в садик в детский вместе ходили, Мишка Х-ов. Ему, этому Мишке, в девяностые какие-то бандиты из ухарства, чтоб над пьяненьким чувачком поиздеваться, пистолет приставили к щеке и, хохоча, выстрелили. Пуля пробила щеку, выставила по пути своего следования все зубы и вышла через рот. И вот теперь Мишка с дыркой в щеке ходит, с воронкой такой… Долго мы с ним сегодня говорили, чуть не час: всё-то всех «наших» вспоминали. Хорошо так с другом детства вдруг повстречаться и поговорить о том, как при Брежневе было, как мы на спор голубей голыми руками ловили, как в «Пекаря» играли во дворе и дрались с «Мазуткой» стенка на стенку…
«Память есть удержание отпечатлений ума, — как объяснял мой любимый свт. Григорий Богослов, — или сохранение воспринятого». А дальше: «Душа сохраняет образы тех вещей, которые постигла и представлением, и мышлением. Тогда говорят, что она помнит…», – так говорил свт. Иоанн Дамаскин, тоже очень хороший.
Святые отцы различали два действия памяти: памятование и воспоминание: «Воспоминание» есть отложение забвения, или возвращение «памятования», потерянного через забвение.
Забвение — это утрата памяти, памятования. Памяти святые отцы придавали «инструментальный» характер, рассматривали ее как «инструмент» ума: «Что зрачок для глаза и произношение слова для языка — то же память для ума». Такие дела, ребята.
.
*так, просто*
Когда за окном начинает темнеть, лучше всего бросить все дела нафиг, потушить свет в комнате и воткнуться в стекло глазами, в вид из окна. Темнеет быстро, но незаметно, прохожие становятся какими-то домашними и продрогшими, и мне их очень жалко делается, небо синеет и синеет, все глубже и глубже, превращая наш двор, куда выходят окна, в какую-то синюю-пресинюю коробку.
В это время раньше, давно, в моем детстве, на севере, моя прабабушка надевала нарядный платок, белый с зелеными березовыми листьями нарисованными и уходила на вечер к подружкам «почаёвничать».
Они, конечно, ставили самовар и доставали бутылочку. Пили горячий чай-кипяток, да крепкий такой, с сахаром и с водочкой! Прямо в стаканы добавляли в дымящиеся. Бабушек это дело тотчас отогревало. И если ты успел (повезло!) незамеченным пробраться в горницу и залезть на печку за шторку, то такого можно было услышать! — ой-ёй! Ни в одной книжке такого не прочитаешь!
Да я практически ничего и не запомнил: у меня вот это чувство, ощущение темной синей комнаты, а электричество же редко-редко включали, синей коробки, где сидят бабушки с лучинкой в щель стола вогнанной, пьют черный чай-кипяток с водочкой и рассказывают о том, что было — мне этого одного даже без смысла хватало. А потом я оказывался уже в кровати: прабабушка меня на руках из избы в избу перенесла спящего.
А рассказывали — вы только представьте себе! — как они нянчили отца Иоанна: мамка-то на работе, а папка на фронте, нашего местного священника, протоиерея, настоятеля храма, и как он от них убегал без штанов с голой задницей в колхозное поле, а они его выманивали, а потом вичкой пороли, чтобы знал.
Рассказывали, как у них голова от любви кружилась: каждой по 90 с лишним лет, каждая схоронила сыновей и мужа своего: не осталось у нас в деревне мужиков вообще, всех поубивало: только треугольники и остались за иконами положенные последние.
Рассказывали, какого Мишку прислали из райцентра в начальники в колхоз. И как они его сначала побивали, бабы-то, но потом жалко стало: у него в Финскую ногу оторвало с «корнем», так стали его молоком отпаивать и груздями с морошкой угощать. А он им на груди плакал.
Все эти истории я, конечно, не запомнил. Помню, как тётя моей прабабушки, моя прапрабабушка доливала себе в стакан из бутылочки и затягивала песню. Медленную и невероятно красивую. Это никакие не «валенки-валенки-не-подшиты-стареньки», медленную грустную северную песню. И все остальные ее подхватывали, и у лучинки огонек дрожал тогда, а я лежал на печке, притянув коленки к подбородку и думал, что ничего на свете не бывает жалостнее и красивее. И так и засыпал.
.
*без ухмылок*
Одна девушка, очень близкий мне человек, каталась на лодочке по реке к югу от Кембриджа, хохотала и стукала себя по голым коленкам — эта река называется «Кам» (типа: «иди сюда, слышь ты…») И вдруг — мамочки мои! — уронила седьмой айфон вниз, за борт, на самое дно! На самое, ребята, дно. И мне звонит из той же самой лодочки наш общий с нею сын Ваня и кричит: папа, что делать!? А у меня, как назло, дожди в Москве, дожди пошли, и, что интересно, зуб вот выпал просто так, никто его не трогал!.. Ну, что я? Я говорю: «Главное: не ныряй! Поздно. Трубу не спасешь, симку тоже!» А маман тем временем затеяла Ване купить водолазный костюм, чтобы он «снырнул». Как, а? Это же, блин, женский ум, но только кого это касается — не обижайтесь! Я зачем это пишу: вы, милые барышни, путешествуйте всегда с кем-то, кто другого пола, у кого с головой грустно, но по особому. С папой, с мужем или с дворецким, в конце концов. А то я представляю: «Итак, в Великобритании разгорелся новый скандал: утопив в Темзе седьмой айфон русская женщина выкинула за борт и сына, снабдив его водолазными ластами. А муж (известный в Западной Сибири барыга и гопник) тут же прилетел в Лондон, отыскал и задушил жену в состоянии полуторанедельного аффекта. Однако и сам потом утопился в той же несчастной Темзе, перекрестившись по-русски и уронив в мутные воды последнюю слезу на прощанье…»
Моя жена вообще на такие дела — умница! Однажды она возвращалась с корпоративной вечеринки своей компании пьяненькая в лютые трали-вали. На такси. Так она села в машину, позвонив мне, что села, кинула мобилу себе на ножки к коленкам, а выключить-то забыла! Ох и наслушался я! Я на другом конце провода сначала орал и визжал, только чтоб сын не испугался, громко хлопал в ладоши, но ничего с другой стороны не сигнализировало мне в обратку. Просто пьяненькая жена таксисту рассказывала какой я на самом деле есть. Да-да.
Мои желания по мере приближения ее к дому меняли свой оттенок. От «Убить, съесть и закопать» до «Влепить оскорбительную затрещину».
Когда ее привезли, таксист тотчас смылся, а жена сказала: «Щас я тебе позвоню… Ой, а он работает!», я, ребята, расцеловал её, все руки поцеловал, каждый палец поцеловал ее, и отнес на руках спать. И перекрестился у икон: «Господи, благодарю Тебя, что Ты такой умный, а такой дурак!»
Потому что я всегда такой бываю, а она — один раз!..
.
Однажды, в прошлой еще жизни, когда я был еще тоненьким и стройным симпатичным юношей с женою-красавицей и ребенком-Ваничкой, мы меняли квартиру на одном конце Москвы на квартиру на другом конце Москвы. И нам наш увалень-риэлтор время от времени показывал «варианты», на которые мы ездили смотреть.
Однажды я поехал посмотреть на «вариант», где меня дружелюбно встретила большая активная семья пушеров и угашенных в катманду наркоманов из Средней Азии, которые на кухне жарили с песнями и нескоординированными плясками просад, в комнате двигались каким-то на вид какао Золотой ярлык из черной закопченой алюминиевой ложки одним бояном по кругу, а в углу в тряпках у них помирала азиатская старушка, которая вопила на ломанном русском мате: «Вызовите … … ско-ру-ю!»
Когда я вежливо с ними расстался и у лифта на обратном пути от всей души плюнул на ботинок нашего дурака-риэлтора, я вышел в красивый московский дворик с деревьями и сел там на пустую лавочку.
Это всё на самом деле было, не подумайте!
Я сел на лавочку, и ко мне вдруг подошла очень симпатичная девушка босая и в одной ночной рубашке, правда сверху была на неё накинута мужская безразмерная куртка с чьего-то рабочего плеча.
А, да! Дело было в середине марта и, в принципе, если захотелось бы, то можно было бы еще запросто с ней сыграть в снежки: снег всё ещё был-лежал подтаявший.
Она сказала мне пьяным языком: «Привет! Купите даме сто грамм, а я вам …!», села рядом и как-то вдруг уютно прижалась ко мне, к руке, вся дрожащая, конечно потому, что замерзла. Я спросил: «Ты откуда такая?» — «Из дома вот сбежала: Федик бьет!» — «А Федик этот у тебя что, дурак, тебя голой-босой на улицу выгонять?» — «Федик хороший, но может убить». Ну, мы с ней посидели, мне стало пора идти, я говорю: «Я пойду, сестрёнк, мне надо!» — «Ну купи мне сто грамм!» — «Нет!» — «Ну, тогда двести!» — «Нет!» — «Ну, тогда поллитру!» — «Нет, сказал же!» — «А я тебе …» — «Нет! Совсем, что ли дура дурная? Как же я тебя трону!?»
И тут эта девушка мне сказала: «Слушай, у тебя есть жена?» — «Есть, да». — «Ты спишь с ней под одеялом, и тебе тепло?» — «Да, бывает, а что?» — «Возьми меня третьей? Я твоей жене ничего не сделаю, я буду тише мышки, я даже ей помогать стану! Просто возьми меня к себе третьей!»
Тут у меня в душе и, главное, в голове, стали происходить… как бы это сказать… некоторые вихри. Это когда знаешь, что «нет», но надо сказать «да».
Сходил, же, оставив ее на лавке в хозяйственный — он совсем напротив лавочки-то этой «нашей» стоял, купил ей старушечьи галоши по щиколодку с мехом внутри, дешевые такие, вы знаете, ребята, страшные как смерть Гитлера, зато ноги не отморозишь. Вернулся, надел на ее уже почти синие ноги, шарфом ее обмотал, говорю: «Я пошел. Сейчас твой Федик уймется — иди к нему обратно!» И сам ушел: надо было.
Стою на той стороне шоссе, жду своего автобуса нужного на остановке на работу в редакцию ехать, смотрю: подошла эта девочка к шоссе, подбородок свой тонкий в мой шарф укутала, руку подняла, остановила вдруг сразу же жигули с номерами 05 и — вжжжжик! — и уехала за МКАД. Я даже руками всплеснуть не успел…
Вот это уже очень давно было: больше десятка лет, а я за неё за ту каждый день так и молюсь, как тогда на остановке. Прошу Бога: «Господи, милый, пожалуйста, сделай так, чтобы у неё тогда всё было бы хорошо!».
.
*по-быстрому*
Вот какую настоящую и глубоко правильную историю вычитал я у дорогой сестрички Юли Девятовой:
Б. Д. Эльконин (о Федоре Ефимовиче Василюке):
«Как-то мы вместе были в Прибалтике и повстречали по пути очень пьяного эстонца. Эстонец указал рукой и таинственно нас предостерёг: «Не ходите туда».
«Почему?» — поинтересовались мы.
«Нет смысла..» — ответил он…»
(via Юля Девятова).
А давным-давно, еще в глубокой моей молодости, когда на земле еще ничего не было, один очень пьяный дядька, взяв моего приятеля за грудки, потому что мы с этим приятелем были волосаты и с виду — вызывающе поизносившись, сказал нам так: «Во-первых, я тут всю жизнь прожи́л, а во-вторых, я тут всю жизнь про́жил!», и дал моему приятелю в морду, чем нас тотчас во всём убедил.
Сейчас закупоривал и заливал сургучом обратно свой чемодан с моими многотонными тетрадками-про-разное-говно, который я накануне отъезда в Тюмень вспарывал.
И тут выпала наклеечка — это, я туго вспомнил, мною сохранена была наклейка с какого-то древнего кваса, которую я отклеил над паром из кипящего чайника, из какого-то древнего города, где я побывал очень молодым и еще вполне здоровым.
На этикетке, конечно же — и это бросается в глаза! —
узнаются Наташа и Мирослав Бакулины Мирослав Бакулин, их лоза, которая во дворе, но изображена в ногах, а из-за их спины выглядывает зеленый и стройный, красивый во всех отношениях мой друг Богомяков В. Г. Vladimir Bogomyakov
Мне кажется так.
.
В конце концов тараканы Мишу чем-то сильно расстроили, не знаю, чай его испоганили или весь сахар съели, он обозлился, пошёл в хозяйственный магазин и купил ядовитый мелок. Купил и написал на стене в своей комнате огромными буквами: «На ложь, на подлость, на обман — на всё способен таракан!». И знаете что? Тараканы ползли по обыкновению по этой самой стене по своим буднишным делам, доходили до этой надписи, читали её внимательно и падали замертво! Вот тогда я и решил, что стану писателем. Сила слова, мда…
.
Отец-протоиерей С.Г. как-то сказал: «Нет, Бог зимы не создавал», когда втянув голову по самые глаза в оградку поднятого у пальто воротника, запирал после всенощной храм-сарайчик, а кругом была ночь, и чёрные деревья с голыми ветками стояли воткнутые в сугробы, и вьюга стучала зубами от холода, и было очень промозгло, грустно и тоскливо
.
…Утром я побежал к нашему автобусному водителю, православному арабу Саиду, палестинцу и крайне весёлому человеку, хорошему и настоящему, совершенно целостному. Прибежал я и, запыхавшись, на чудовищном английском спросил: «А что, Саид, будет если христиане начнут с колоколен, как муэдзины по ночам «Христос воскресе!» в мегафоны вопить?». Он весело рассмеялся, оторвался от этого своего непременного кофе и на чудовищном русском ответил «Зарэжут»
.
«Тогда продолжу. Был винный напиток «Осенний», шел ничего, но от него моему одному другу вырвало с мясом бошку, он своим… своей головой пробил насквозь стекло (двойное) и выкинул туда свою куртку, а потом развернулся и так набил мне морду, что до сих пор у меня остались увечья на лице. В Ярославле мы пили водку, хорошая такая, пушистая, но запивали водой из фонтана, что придавало изюминки. Ну а в Крыму я пел на набережной песенки за горючее. То есть люди покупали и мне наливали, а я пел. Работало круто! Деньги — это бумага… Солнце в стакане: очень приятный напиток! (мы его так называли), Левобережный: ничего, потянет. Но вот Херес… ой, я его так люблю, что могу расплакаться. Нам одна татарочка за то, что мы ей вернули потерянные почти 500 баксов подогнала хересу. Ну херес — это расплакаться и больше не вставать. Я после хересу с женою до утра в палатке … отмечал выпитый херес. Иногда, очень-очень иногда я позволяю купить себе хересу, и у меня наступает праздник. Если есть еще кусочек острого сыра: ой, мамочки мои!».
.
Гулял с дочкой. Села она на качели, и я стал ее качать. Качал-качал, качал-качал, качал-качал, а сам мыслями — вжик! — и уже далеко-предалеко улетел в кудрявые разномастные вселенные. Судьбы мира меня щекочут. Кувыркаюсь я там такой среди сотен зодиаков, то Деву за серебряный сосок ущипну, то у Стрельца стрелу отниму, тоже серебряную: всё у меня хорошо, а тут вдруг: «Папа, папа! Ты чего?» Глянул я: а дочка-то давно уже слезла, давно уже на горке покаталась сто тысяч раз, давно уже и мальчику в глаз засветила (я справлялся у мамаши: надо сказать, за дело; а там, где справедливость, там Бог!). А я стою такой, пустые качели качаю битых полчаса и думаю-думаю, и всех мне вас, ребята, жаль, людей жаль, а особенно — инопланетян: они ж такие страшненькие, Господи Боже! Зеленые такие, худенькие, ни кожи ни рожи! То ноги вдруг у них коричневые с перепонками, а то и еще что-нибудь по-круче на лбу вдруг вырастет.
Качал я пустые качели на мамашин смех на той площадке, а самому-то, ребят, не до смеха: понял, что я ж не качели качал, я сам перед Богом качался: туда-обратно, туда: «Господи, Иисусе!», обратно: «Помилуй же дурочину!». Вот настанет Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа, воскреснем мы, как положено, выдадут нам каждому по качелям, и станем мы пред Богом, пред Его Престолом на качелях качаться: «ближе-дальше, ближе-дальше, ближе-дальше». А если кто пока не умеет сам раскачиваться (в детстве не научился), тому пора приступать! Это просто!
PS: Решил показать вам свою фотокарточку, где я без грима. Вот такой я на самом деле, такой. Проводил вот дочку мою на троллейбус, а там, в троллейбусе на остановке, маман её уже подхватила, и они уехали-укатили. Соничка, конечно, горько плакала, что я тут остался, а она — нет, и её увезли. Что ж поделаешь? Бывает… И в этот момент я сам себя случайно сфотографировал: телефон от нерва вертел в руке. И вот так вышло. Здесь нету привычного для меня фотошопа, ретуши и прочей ерундистики. Чисто я: хоп-па!
.
Позвонил мне один священномонах, попросил помочь ему развесить в трапезной картины, если у меня дрель есть. Я между прочим спрашиваю: «Григория Мясоедова? Огюста Ренуара?» А он горько так отвечает: «Причем тут?.. Жоры Кошкина. Наш прихожанин, раньше художником был… Но это неважно, неважно. Важно вот что: дрель-то у тебя хоть какая-нибудь есть?» Вот мещанство: дрель! Нету у меня дрели, но я отцу ответил, что всё равно приеду, хоть бы и без дрели. «Зачем?» — всё-равно-шным голосом спросил меня батя. «Приклеем, — говорю, — на суперклей. Я по дороге куплю в универсаме: на кассе продается». На том и порешили.
.
*Какой-нибудь Моисей*
Григорий Богослов. Письма.
«Посетив св. Василия в его понтийской пустыне, шутливо описывает оную (после 360 года):
«…Буду же дивиться твоему Понту и понтийскому сумраку, этому жилищу, достойному беглецов, этим висящим над головою гребням гор, и диким зверям, которые испытывают вашу веру, этой лежащей внизу пустыньке, или кротовой норе, с почетными именами: обители, монастыря, училища, этим лесам диких растений, этому венцу стремнистых гор, которым вы не увенчаны, но заперты. Буду дивиться тому, что в меру у вас воздух, и в редкость солнце, которое, как бы сквозь дым, видите вы, понтийские Киммерияне, люди бессолнечные, не на шестимесячную только осужденные ночь, как рассказывают об иных, но даже никогда в жизни не бывающие без тени, люди, у которых целая жизнь — одна длинная ночь, и в полном смысле (скажу словами Писания) сень смертная (Лук. 1, 79.). Хвалю также этот узкий и тесный путь, который, не знают куда ведет, в царство, или в ад, но для тебя пусть ведет он в царство. А что в середине, то не назвать ли мне, если хочешь (только, конечно, не в правду), эдемом и разделяемым в четыре начала источником, из которого напоевается вселенная? Или наименовать сухою и безводною пустыней, которую удобрит какой-нибудь Моисей, жезлом источивший воду из камня? Ибо что не завалено камнями, то изрыто оврагами; а где нет оврагов, там все заросло тернием; и над тернием утес, и на утесе стремнистая и не надежная тропинка, которая ум путника приучает к собранности и упражняет в осторожности. Внизу шумит река; и это у тебя, высокоглаголивый творец новых наименований, это амфиполийский и тихий Стримон, обильный не рыбами, но камнями, не в озеро изливающийся, но увлекаемый в пропасть. Река велика и страшна, заглушает псалмопения обитающих вверху; в сравнении с нею ничего не значат водопады и пороги; столько оглушает вас день и ночь! Она стремительна, не переходима: мутна и негодна для питья; в одном только снисходительна, что не уносит вашей обители, когда горные потоки и ненастья приводят ее в ярость. И вот все, что знаю об этих счастливых островах, или о вас счастливцах. А ты не выхваляй тех луновидных изгибов, которые больше подавляют, нежели ограждают подход в ваше подгорье; не выхваляй этой вершины, висящей над головами, которая жизнь вашу делает Танталовою; не хвали мне этих провевающих ветерков и этой земной прохлады, которые освежают вас, утомленных до омрачения; не хвали и певчих птиц, которые, хотя и воспевают, но голод, хотя порхают, но в пустыне. Никто к вам не заходит; разве для того, говоришь, чтоб погоняться за зверем; присовокупи же к этому: и посмотреть на вас мертвецов».
Вышел на улицу, сел на небольшую лавочку возле самого нашего микрорайонного заповедника, в котором вчера вечером заблудились два китайца (честно-честно! по радио так рассказывали утром, как их полночи с собаками искали, но, тем не менее, нашли: https://rg.ru/…/kitajskie-turisty-zabludilis-v-parke-losiny…). Сел на эту лавочку грустный и, в общем, с не очень хорошим настроением на сердце. Ну и стал читать Григория Богослова, его письма. Наугад, конечно: так интереснее. И вот, наткнулся на письмо, которое любимый мой Григорий в шутку послал своему другу Василию Великому.
Прочитал раз или два, огляделся вокруг: хех, надо же! Всё как у меня вокруг! Ну просто всё как у меня! Вот:
Это всё кругом — жилище, достойное беглецов, с этим висящим над головою гребнем домов-девятиэтажек, с этими дикими зверями, которые испытывают мою веру, с этой лежащей внизу пустыньке, (или это кротовая нора, с почетными именами: школа, армия, институт и так далее?), с этими лесам — прямо перед носом! — диких растений и заблудившихся китайцев, с этим венцом стремнистой (наистремнейшей) Москвы, которым мы все не увенчаны, но заперты. В меру у нас воздуха, и в редкость солнце, которое, как бы сквозь дым, видим мы, Лосиноостровитяне, люди бессолнечные, не на шестимесячную только осужденные ночь, как рассказывают об иных, но даже никогда в жизни не бывающие без тени, люди, у которых целая жизнь — одна длинная ночь, и в полном смысле (скажет Григорий Богослов словами Писания) «сень смертная» (Лук. 1, 79.). Идти домой и работать — это узкий и тесный путь, который, не знаю куда ведет, в царство, или в ад… А что в середине, то не назвать ли мне (только, конечно, не в правду), эдемом и разделяемым в четыре начала источником, из которого напоевается вселенная, потому что там гастроном? Или наименовать сухою и безводною пустыней, которую удобрит какой-нибудь Моисей, жезлом источивший воду из камня? И кто это — «какой-нибудь Моисей»?..
.
*настоящие истории*
Был смешной случай: я был где-то на треть меньше, но всё-таки был, и мы ехали с двумя попами: игуменом и иеромонахом по ростовской трассе. Хулиганы на своих глупых машинках, наверняка ростовчане, решили остановить нас и, обругав, ограбить, но и монахи не лыком шиты! Игумен о.С. сказал мне: Саша, дорогой, ты — самый убедительный, ты будешь штрафник, а мы с о.К. — загрядотрядом будем. Вылезай! И благословил.
Ну, я вылез, хрустнул суставами затекших от сидения в машине крыльев, подмигнул в воздух Торжеству Православия и сказал: «А?»
Бандиты (каждый!) пожали мне руки, сели в свою свиристелку и тотчас смылись. Я удивился: ну, не могу я быть уж таким-то страшным! Обернулся же, и во мне всё осело: стоял такой отец игумен, распахнув шоферскую дверцу, за мной с большой монтировкой в руке, злой, как последний белополяк на свете, и стоял, открыв пассажирскую дверь, белый как снег с Альп иеромонах отец К. с четками в руках, который возвел очи горе и молился в верхние Небеса непрерывно обо всех нас. Могу себе представить, что увидели эти ростовские братки на своих жигулях, мда…
Так что все было хорошо.
Еще есть история о том, как мои трое батьков уплыли в море и больше никогда не возвращались… Но она не смешная, а, пожалуй, удивительная. Вот только представьте себе: вы с тремя попами: иереем, иеромонахом и игуменом приезжаете к морю, закат, вода — как зеркало подогретое. Отцы скидывают с себя лохмотья и со словами: «Саш, мы сейчас, только сплаваем!» уходят в морскую пучину. Навсегда! Я сидел час или полтора на берегу, потом стал немного психовать: солнышко село, стали шастать какие-то бандиты, а попы там, у Понтуса в гостях. Хех.
Через два часа я сам залез в воду попробовать: если она очень холодная, то и движения у братии должны быть замедлены, как у лягушек. Вода оказалась теплой.
Ну и что? Буду я, ага, к милиции бегать: «Попы в море пропали!» Они скажут: «Затонули или не совсем?»… В общем настала ночь и я нашел на заднем сиденье машины иерея N. бутылку самогона. Открыл, выпил глоток, чтобы начать уже что-то делать, и вдруг из моря вышли три попа! И очень меня ругали, что я «отхлебнул самогон». Да если б там героин лежал, я бы и героин двинул бы от невозможности происходящего!
Ну, получил по шеям ото всех трех. Что они все это время делали в морских пучинах — одному Богу известно, но я чуть, ребята, в штаны не наложил. Было подозрение, что это русалки были виноваты: встретились они, но русалок в Черном море мало, и они там и так нарасхват…
Был и еще один случай, как мы с переодетым игуменом пошли проучить сектанта, но это если кому-то интересно, так я не буду: леденящая душу история! Чего мне даром пугать вас?
.
*сегодня утром. бытовое*
В электричке случайно услышал перебранку между лохматым старым мужиком и тоненькой девочкой в белой вязаной шапке. Когда она заходила в тамбур — а народищу-то полно, ну натурально: кильки в банке — не продохнуть! — то в дверях едва-едва, чтобы не выпасть наружу, стоял старый лохматый мужик. Девочка пихнула его хрупким плечом и заголосила: «Хоть бы подвинулся, дай влезть! Стоишь тут как баран!». И влезла в какую-то дырочку между людьми. Лохматый мужик выдохнул: «Ах ты…». На что девица в белой шапочке тотчас сказала, что он козёл. Весь тамбур замер, я закрыл глаза. «Мало вас резали…», — пробормотал лохматый старый мужик и повернулся к окну дальше ехать. «Кого нас, кого нас!?» — завизжала девочка на весь вагон, даже вся аж покраснела.
А тут рядышком стоит тётенька пожилая, добрая такая. В форме железнодорожника – контроллер, наверное, или билетер. И она так тихо, что очень громко в наступившей в тамбуре вдруг тишине сказала ей: «Коз…».
Я открыл глаза, а тамбур захохотал.
.
 Завтра, но только в 2008 умрет мой отец. Я примчусь к маме с папой, но я всё напортил. Я вставил не тот ключ в замочную скважину, и его заклинило. Папа лежит на полу, а с той стороны двери медики и милиция. А я ничего сделать не могу. В конечном итоге мы по телефону вызвали взломщиков, и они болгаркой вырезали замок.
Завтра, но только в 2008 умрет мой отец. Я примчусь к маме с папой, но я всё напортил. Я вставил не тот ключ в замочную скважину, и его заклинило. Папа лежит на полу, а с той стороны двери медики и милиция. А я ничего сделать не могу. В конечном итоге мы по телефону вызвали взломщиков, и они болгаркой вырезали замок.
Мой папа был боевой офицер. Он воевал в Эфиопии, во Вьетнаме, в Афганистане. Однажды он нам, детям, принес два шлема с подбитых американцев. Это было так круто, что до сих пор я не могу найти подходящих слов об этом. Американца сбили на границе, а шлемофоны достались нам, детям. Я целый месяц был в фаворе в школе.
Папа мой был пьющим, но я его всегда навещал, каждый день. Так принято обращаться с папами. Теперь я утратил мысль, что и меня будут навещать мои дети. Ну и ладно, пусть так: заслужил.
Когда папа умер, он лежал в ванной: маме стоило невероятных трудов его оттуда достать. Тогда она позвонила мне, и я примчался на велосипеде
09.09.16
.
Звали её Наташа, и она страдала пороком сердца. Это на севере было дело, в моем детстве. Она мне тоже очень нравилась, но я был пионер, а пионерам любить неположено.
А зачем я про порок-то, дурак, рассказал? И вот она однажды меня увидела, за ручку двери схватилась, и стоит: сердце прижало. И двинуться не может. Пока Ан-2 прилетал, пока её от ручки двери отцепляли, она всё так и стояла, глядя мне в глаза.
А я – дурень, козлина я. Сейчас, через 30 лет, я б её в каждый мизинчик бы расцеловал. А она классная была, да. Её брат, мой друг, Андрюха, сверстник, она-то младше: он дурной был, но замечательный. Северяне все такие: без башки, но по рогам нададим. Вот я про него узнал. Он так сварщик: в Котлас в ПТУ поехал, вернулся в МТС, а что-то не поладилось. И он забухал.
Бухал он сурово, Андрюха-то, все канавы ртом облизал. А сам: розовощекий, белобрысый, мать по деревне орёт: «Андрейко! Оторву, что есть!» А он в канаве…
Наташка та умерла, написала мне только письмо на прощание невероятной красоты. Она написала: «Я тебя люблю, встретимся у аптеки». Аптека была от меня в полутора тысяч километров. Эту девочку я, дебил, буду всегда поминать.
.
*ах, что со мной бывало-то по-настоящему*
Однажды мой отец с сослуживцами перекантовывался по военным делам в Мозамбике. Шли годы застойные, всё у Советского Союза было хорошо, хоть и шла война. Они, лётчики, выпили вкусной местной самогонки, и тут дядя Гриша решил купаться. Местные на ломаном французском его отговаривали, наши заламывали ему руки, но он вырвался, но он залез в воду и поплыл купаться. Ровно через пять минут его съел крокодил. Натурально и полностью съел.
Потом в части, уже у нас, тут, на подмосковном аэродроме, отпевали всею частью часть ремня. Отпели и положили во гроб. Даже в небо пульками стреляли три раза.
А жена: я её помню, я запомнил: она красивая такая женщина. Она плакала даже не из-за того, что муж ее погиб, она плакала: «Как же я людям скажу!?… Спросят: а что с мужем-то!? А я что отвечу: «Да, крокодил съел…»?!»
Смерть во рту крокодила не очень замечательная смерть, я так думаю. Я бы хотел бы помереть во рту жирафов. Они красивые и в пятнышко оба.
Однажды моего отца в Афганистане никак не забирал вертолет. Ну, блин, ну «вот же ж я»! А вертолетов (специально не пишу «вертушек»: нахер это надо) не летит и не летит.
И он, сбитый, ПэЭмом офицерским пуляет во все стороны за каким-то там дурацким камушком и реально думает: «Конец, мне, ребята».
А мы в это время в СССР с двумя братьями в школу ходим, у нас зима, и мы ходим-смеемся и кушаем мамой испеченную шарлотку. Чего-чего, а яблок было тогда – как грязи.
А потом вдруг к отцу с какого-то перепуга из-за левой зеленки примчался Олег Шаховой. Заслуженный до покраснения всех на свете глаз летчик: «Боевой славы» у него так ни одной и не было: груди бы никакой не хватило, да и хулиган он был. Он мотнулся за моим отцом на двушке, на Ми-2. И пока там мой отец пулькал из пистолета, этот Олег прижался к земле и отца подобрал, и они съеб… и они, в общем, сбежали.
Так мой отец остался жив.
Это почему я вспомнил? Потому что в первый путч, в 91 году, я как раз летел на военно-транспорте из Москвы в Куйбышев. И пилотом у нас был тот самый Олег Шаховой. Они с моим батей тотчас набухались в катманду: буквально им хватило минут пять-шесть. И вот самолет летит, на земле путч, летчики валяются в проходе, и всё у меня под контролем. Я даже самолет посадил.
Это настоящие истории из моей всамделишной жизни, не ругайтесь на меня. Поклон вам, ребята.
.
Ну, и конечно же был на Пасхальной службе. Мне было по пасхальному грустно, что дети мои уже наверняка выросли. Мне было по пасхальному неловко, что я вот иду совершенно один недалеко от черной в темноте немой станции, а ноги совершенно не гнутся. Мне было по пасхальному страшно, что меня сейчас арестуют, поскольку в отдалении за мной то и дело шпионил их бобик. Петь пасхальное совершенно не хотелось, и я обычное своё правило читал как-всегдашное, только вот вспомню, что Христос воскрес, так и улыбнусь, вспомню – и улыбнусь, вспомню – и улыбнусь… У подъезда суетилась незнакомая откуда-то собака. Она всё писала и писала на чью-то машину высокую: отбежит и попиисает, отбежит и пописает. Я ей сказал: «Эй, слышь, собака! Христос-то воскрес!» А мне из-под машины ответило: «Во истину воскрес Христос!». Там, оказывается, нищий спал. Такие дела.
.
у меня опять ночью умер друг, кроме Вадима. я не поехал на похороны, потому что друг я плохой, и там вдруг надерусь. А что я? А там скипидаровки по самые ноздри. бедный, бедный я человек, сколько же мне мне хоронить, а самого, сука, не хоронят: устал уже просить. Димку звали Димка, Димастый. Это был человек, который делал слово мясом. Бандюган с 80-х, но не убил НИ ОДНОГО: лично — ни одного, Димастый был классным человеком, и я всегда знал, что он меня поддержит. То есть в случае тёрок я мог позвонить Димастому… Теперь в случае тёрок я лягу, свернусь калачиком-кошкой и там же в углу умру . Димастый был толковым, «правильным», настоящим бандитом, он никогда не делал подлостей, но впрягался всегда сразу. Господи, Иисусе Христе, помилуй моего Димку, я сижу сейчас, слезами обкапанный, и мне так тяжело, что я так, как Димка, не умею быть добрым. за это я отвечу Богу, именно за это.
.
***
Когда я был еще только-только начинающим христианином, мне и повезло, и не повезло одновременно. Первую исповедь свою я провел весь в таких длинных соплях и обильных слезах, что до сих пор помню каждое слово, что я тогда говорил почти дословно. Старенький отец М. под конец сам расплакался, схватил, пригнул мою голову со всей силой к аналою, стукнул лбом и прочитал разрешительную молитву. Но уже через месяц он отошел ко Господу, а меня с другом, таким же как я, кинуло в неофитском поиске «духовника» во все тяжкие.
Протоиерей о. А, духовник одного небольшого монастыря, сказав мне лично: «В следующий раз самым смелым образом расскажешь мне, как ты понимаешь «Отче наш»», тоже вскоре умер. Думаю, в следующий раз – это когда и я помру, и мы встретимся.
Его, покойного отца А., сменил тишайший молодой иеромонах отец С. Он всегда молчал и никогда не давал наставлений, никогда! Иногда молча плакал. Чтобы он сказал что-то вслух – должен был быть случай экстраординарный. И вот у него на исповеди со мной произошло смешное. Я же был «неформал», «панк с Арбата», и мы иногда курили траву. Даже чаще, чем «иногда». И вот каюсь я отцу С. и, в том числе, говорю: «Отче, грешен! Друга одного совратил…» Но не успел договорить, как у бедного худенького иеромонаха глаза сделались огромными и блестящими: «Что? Гомосексуализм?» Теперь глаза округлились и стали блестящими от ужаса у меня: «Нет, отче!!!!! Что Вы!? Травку курить научил!» – «Ну, слава Богу!» – вздохнул отец с очень явным облегчением.
Но и его перевели, потому что в начале перестройки, особенно в женские монастыри, да и в мужские, брали без особой оглядки. А тут молодой иеромонах, красивый и молчит всегда. Не о разврате речь, нет, не дай Бог! Просто сестры его так полюбили именно сестринской своей любовью, что просто постоянно ходили за ним всем скопом по-пятам, жужжали вокруг него как пчёлы, и он не мог, простите, даже в туалет нормально сходить. Наверное, попросился перевода.
После этого, делать нечего, поехал в огромное паломничество. Первой была Оптина, отец игумен С., тогда еще иеромонах. В очереди к нему я стоял со всей своей (нашей) рок-группой. Соло-гитарист долго у него шептался, а потом отец С. громко спросил: «А это кто?», указывая на меня и за мной. «А это ритм-гитарист и вокал стоит, — ответил мой друг, — а за ним барабаны и перкуссия…»
Но в Оптиной мне попался и отец З., который на исповеди (второй раз за мою «практику» такое случилось) колотил меня головой по аналою, но на этот раз достаточно безлюбовно, и кричал, и сказал, что если я не брошу курить, он отлучит меня от причастия. Было и страшно, и смутительно, и, в общем, грустно, обидно и бесцельно. Нас, таких курящих трудников, а мы там на сенокосе еще сена покидали вилами, оказалось двое: я, похожий на девушку с волосами по пояс и толстый добрый дяденька. Мы вышли с ним за ворота, сели на бордюрчик и закурили. А потом пошли на станцию нафиг отсюда ехать, оно все равно по пути…
На остров Залиту к отцу Н. я так и не доехал: наверное, просто не надо было мне туда попадать. Я поехал стопом, но попал на гопников, и только незримая молитва отца Н. залитского спасла меня от смертоубийства. Но к нему я так и не попал.
Потом был отец Г. Он орал на меня, чтобы я убрал руки из-за спины, когда исповедуюсь. А я от волнения всякий раз их заводил, как тот учитель. Его это просто бесило. Наступил период «голодовок», ночных бдений и монашеских келейных правил. Это встревожило моего папу, тогда еще живого, родного, и он отправился к отцу Г. Во время всего разговора отец Г, ел отварную курицу руками. Мой папа был очень разочарован, очень.
Потом был отец Н. Он тоже на меня орал, но мне было уже не так страшно. Он был моложе меня, с жидкой бородкой и замашками на апостольские правила первых христиан.
Зато старенький-старенький отец А., отслуживший почти полвека где-то в Китае в русской миссии и, в конце концов, поставленный настоятелем одного из московских храмов, увидев меня с друзьями, обнял каждого, расцеловал и очень просил приходит когда угодно, в службу или не в службу…
Потом был отец А., старенький тоже протоиерей, который ходил в старомодной советской шляпе и столетнем костюмчике. Я тогда стал увлекаться Лествичником и Сириным, и однажды совершенно случайно мы столкнулись с ним на улице. Он в своей этой шляпе и коричневом костюме с вытертыми локтями благословил меня, а потом порылся в целофановом пакете без одной ручки и достал оттуда «Библию для самых маленьких», вручил мне её и очень радостно и по-доброму подмигнул. Я прямо на первой лавочке опустился, открыл и первое, что прочитал, было: «А» — Ангелы. Ангелы – они хорошие»»
Он тоже умер, хотя служил до самого последнего.
Еще был отец протоиерей В., которому под конец жизни отняли ногу: он был очень большой шутник. Когда он меня видел, а я носил волосы до попы, он высовывал свой седой хвостик волос, и смеясь, кричал: «А у тебя длиннее! А у тебя длиннее!» Однажды, идя по делам своим настоятельским, он увидел моего друга, который в те времена работал в храме сторожем, который сонно – шесть утра! – откалывает ломом лед с лестницы храма: стояла зима, да еще и мороз. Мы не высыпались: я приходил к нему, к другу, в сторжку ночами писать диплом в институт. И вот старенький отец В. вдруг остановился и говорит: «Чего ты его колешь, Сашенька? Ты горячей водой полей!» И Сашенька полил. Это мой друг, да, мы с ним тёзки. Бабушек потом вывозили по травматическим отделениям всего города!
Еще со стареньким отцом В., нашим настоятелем тогда, вышло смешно, когда он вдруг утром приходит в сторожку к Сашеньке и говорит: «Сашенька, меня благочинный вызывает. Зачем ты написал в приходском журнале: «Пилили деревья, погибла ворона»???» Мой друг высокий худой армянин с огромными коричневыми глазами ответил: «Ну, она же погибла!» — «Ладно, Саша, я поехал», — вздохнул отец настоятель…
А еще был архимандрит В., который когда елеопомазывал братию и прихожан, всех нормально помазывал, а меня, когда увидел – по спиральке: опппа! И точку на носу поставил, на самом кончике носа…
Был игумен отец Е. Он когда слушал мою исповедь, то охал и тихим голосом говорил: «Погоди! Я еще и не то как-то натворил!»
Был игумен отец С. Он очень добрый, и говорил мне: «Брат, как ты думаешь, можно выкинуть мусор за гаражи, а не нести три километра до мусорку?», сжимая в руке огромный мешок мусора. Когда я говорил: «Ну-у-у-у, брат…», он говорил тотчас: «Я и сам понимаю! Я просто тебя проверял!» И это было бы обидно, если бы не его задорный, какой-то замечательный смех! Однажды мы с ним травили сектанта – ой это вообще история отдельная! (Кстати, мусор он обратно тогда приволок. Проверяльщик).
А как он меня в стихарь благословил!? А как на амвон проповедь вытолкал говорить! Я был похож, простите, на обосравшуюся сову!..
Поверьте, я еще очень много могу рассказывать про моих хороших отцов! Но!
Почему я в начале в самом написал, что мне «и повезло, и не повезло»? Не повезло, потому что это не был один человек, и никто из них так и не стал мне духовником в настоящем смысле слова: слишком быстро они приходили и уходили.
А повезло, что пройдя всё это, всех этих достойных пастырей и отцов, духовника я нашел себе прямо под боком, просто устав душой и просто однажды столкнувшись лоб в лоб с одним батюшкой. Оказывается, он меня также боялся, как и я его! Это случилось на соседней улице в храме, в двух минутах ходьбы от моего дома. Но ведь встретил замечательного, настоящего, глубоко духовного. Отца. Хоть и хитрого…)
В общем, когда ищешь не экзальтированного и экстравагантного, а настоящего лучшего, то ноги всегда приводят к дому. Поклон.
.
*на парах от огласительных*
Когда ко мне на огласительные беседы приходят те, кто хочет венчаться, я обычно привожу им, на мой взгляд, восхитительное сравнение. Его автор – схимник-афонит, но я уже не помню, говорил ли он это мне устно, или я просто читал. И вот я молодым это сравнение рассказываю. Видели бы вы их лица! А штука в следующем. Когда человек приходит в монастырь послушником, то он трудится-трудится-трудится, но в любой момент может его, свой монастырь, покинуть. Сказать: «Елки зеленые! Да сколько можно!?» И уйти. И это ничего.
Так и муж с женой объявляют помолвку. Не захотела? Разонравился? Ю а велкам. Но в помолвке надо вкалывать как тот послушник: не разгибая спины!
Потом послушника постригают малой схимой. А у мужа с женой – это обручение. Теперь всё, неси свою ношу. И монахи вкалывают где угодно: в курятнике говно выскребают, двор метут, книжки реставрируют. Потому что это – служение Богу. Так и обрученные муж с женою: работают во имя друг дружки и семьи – Малой Церкви.
Но есть великая схима. Это схимники. Они не выполняют послушаний, кроме службы в алтаре. Они уже не служат Богу, они обоживаются! Так и муж с женой получают венец – венчание! Тогда уже никто никому не служит, потому что: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». (Быт. 2, 24).
И это единение – и есть цель венчания, то есть брака. А не служение друг дружке, как «попка-дурак».
Потом я им, кто хочет венчаться и ко мне пришел, рассказываю, на мой взгляд, непостижимое чудо: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». (Быт. 1, 27).
Не «мужчину или женщину», а «мужчину и женщину сотворил их». Вот это и есть человек…
Что-то меня несёт после огласительных бесед, простите меня, мои хорошие. Всё, я умолкаю. Поклон вам всем без разбору, спаси вас Бог!
.
*просто так, всякая чушь*
В те стародавние времена, когда можно было стоять у будки с телефоном-автоматом и спрашивать у прохожих: «У вас двух копеек не найдется?» — и находились они по карманам у случайных дяденек и тетенек, эти две копейки, и отдавались они ими запросто; а когда, ведь, десять прохожих давали по двушке, то можно было купить эскимо по двадцать копеек на вкусной плоской деревянной палочке (я её потом разгрызал — вкусно!) , а с одиннадцатого прохожего уже позвонить маме и сказать, что всё, мол, хорошо, киносеанс только что закончился, фильм очень понравился, иду домой! — в те-то стародавние времена, я сегодня вдруг у станции подумал, жизнь и мир казались вогнутыми, как та линза, как большущая воронка от снаряда или как, не знаю, кратер вулкана. Тогда вполне себе верилось, что весь мир – это суповая тарелка, которая снизу покоится на трех китах, а те – покоятся на трех черепахах, а те, последние, плавают в мировом эфире, с ленцой шевеля ластами.
Потом мы росли, и мир всё больше приобретал форму шара. Ну, в юности этот шар был просто огромный! Больше тысячи солнц! Такой совершенно необъятный шар размером чуть меньше вселенной (если бы он был чуть больше, то что-то тогда бы не сходилось): и Крым, и Ленинград, и Джубга, и Ярославль, и Калуга, и Архангельск, и Резекне с Вильнюсом, и Северодвинск, а где-то там есть еще и Хабаровск с Владивостоком! — да мамочки мои! Неизмеримый не помещающийся в сознание шар: одна Москва чего стоила: из конца в конец поехать в гости — приключений до жопы!
Потом появились жены, семьи и дети, и мир сдулся, он превратился в мир, точно таким размером: где-то с выставочный глобус: бывают такие огромные глобусы зевакам и школьным экскурсиям «на посмотреть», как в планетарии, там еще города диодиками светятся.
Но он не остановился: он, мир, продолжал без ускорения, но уменьшаться. Сейчас мне 41, и мой мир уже размером с шар, на котором танцует девочка на известной картине. Да он и у всех моих сверстников в разы меньше, чем в юности, не говоря уже о детстве, ведь так, ребята?
И с каждым годом он, этот наш шар, уменьшается. И когда он станет размером с кулак… нет, меньше! — размером с теннисный мячик… нет, меньше! — размером с пластмассовый такой, белый, от пинг-понга шарик — вот тогда мы положим его себе в карман, ляжем на кровать и умрём.
Вот о чем я думал сегодня утром. Это у физиков вселенная «расширяется». У нас, ребята, она сужается по-жизни. И это, признаться, хорошо. Это успокаивает… Всё будет хорошо. А нашими белыми шариками мы еще сыграем в пинг-понг на том свете, в Царстве Небесном, ой сыграем! Кстати, я был чемпионом двора по пинг-понгу пару месяцев подряд в детстве: бойтесь меня!
.
Однажды я ездил с попами на море. Это было замечательное путешествие, полное преград и всевозможных опасностей. Со мною в машине поместились целый игумен и еще один замечательный иеромонах. На море нам было здорово. Но отец-игумен меня постоянно подкалывал, что я толстый. Нет-нет, но уколет. Он говорил так: «Препоясайся продуктовой плёнкой и бегай вокруг лимана!». Я, конечно, этого не делал. Зато я подружился с группой олигофренов из дома инвалида. Это такие замечательные ребята были! Я их чуть на руках не носил! У каждого возраст по возрасту – лет по пять-шесть. А так – они большие, под сороковник каждому. Но они же взрослые дети. Именно такими должны быть христиане. Я ходил по дорожке молиться, а за мной они шагали! Да какая тут молитва? Одни слёзы! Утром я иду, вспоминаю слова, а они за мной гуськом! Эх. И вот утром однажды вдруг меня отец-игумен благословляет в стихарь! Мамочки мои! Я вообще в алтаре был только однажды, в начале 70-х и тайком! Ёлки! А он мне пальцы сунул, как кадило подавать, и началась литургия. А храм-то палаточный, брезентовый! Из всех щелей солнце бьет! Олигофрены стоят, милые мои, дорогие. Иеромонах за хор стоит, а служит отец-игумен. И я в стихаре! Ох и литургия была! А особенно как он меня на амвон вытолкал-то, отец игумен С.! И, главное, говорит: «Ой, чуть тебя не забыл!» И вытолкал. Вышел я на амвон, на меня ребята смотрят олигофрены, медсестры с ними. А как раз апостол был «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». И я им и говорю: «Мои хорошие, ребята мои! Так ведь наши тяготы нам и носить! Ты одну тяготу взял, а у тебя две отобрали! Хорошие мои, давайте вы курить бросите? (это меня медсестра попросила сказать). Я такой проповеди никогда не забуду. Потому что у них тяготы – жестокость! Они Богом поцелованы. Мне Сережа и Света (не удивляйтесь, я их поименно каждый день поминаю) говорят: прямо на литургии: мы любим друг друга, а детей нам не дают: выскабливают». Оба стоят детки и глазами хлопают.
И вот поехали мы с попами обратно. А отец-игумен всё меня подкалывает: «Толстый ты человек, толстый!» И вдруг иномарка нас подрезала, а там – бандюги. Тогда отец С. так мне подмигнул: «Выходи! Твоё время!» Вышел я, а они все уехали. Видимо я совсем страшный.
.
Был у меня педагог на первом высшем, как же ж его звали: из головы с годами всё выветривает напрочь. Кажется, Петр Егорович. По «Строительным машинам». Всю войну прошел танкистом, истории нам на лекциях рассказывал: уписаешься!
А одна был история, что я навсегда запомнил. В 45-м уже, где-то под Берлином рота наших солдат шла по аллейке… кустами эдакий коридорчик… А на том конце танк стоит немецкий.
И этот танк шандарахнул пустой болванкой. Людей, роту, срезало пополам как бритвой. Другие наши подоспели, танк сожгли нафиг. И вот Петр Егорович нам рассказывает: «На срез тела смотришь, а он, солдат, под низ теплое белье американское поддел, шерстяное, по Лендлизу… На срезе-то видно!»
Вот, я тогда подумал: и меня однажды срежет пополам, и все моё исподнее будут рассматривать. С тех пор ношу трусы исключительно с рок-гитарами на бортах или с надписью «Сибирь». Последние, сибирские, мне просто так подогнали, но я проникся тематикой…
.
Сегодня все пишут о том, как вдруг «сносят Москву», как «наши ларьки сносят»! Просите, это ВАШИ ларьки!? Это наши, раб.класса ларьки: хотим – поставим, хотим – снесем. Но если так, просто, вот снесли: ну и что же такого? Когда, например, снесли все лабазы, в которых можно было брать ночью «Маккормика» и «Белого орла», то никто из вас, ребята, не жужжал. Когда снесли ларьки с остальным пивом и прочими коктейлями – тоже никто даже не кукарекнул. Когда уничтожили вообще любую остроту ночную, всё нахер вытерли, все либералы сидели и пукали в своих двухэтажных коммуналках-«студиях». Зато почему-то теперь они вдруг как по команде взвыли. Заохали и заахали. Вам-то что, эй, ребята? Вас это вообще никак не касается! Вам кремлёвские пайки как возили, так и будут возить, только название поменялось: с «кремлёвских» на «антикремлёвские». Сидят, вот ведь, и пердят в ненависти к кому угодно у плоских своих мониторов. Ну и снесли эти, к слову, союзпечати, ну и что? Вы что ли в них ходили? Или вы за лишним билетиком к той театральной кассе в миллиардной очереди стояли? Фигу! Вы те самые суки, что орали: «Снести лабазы, чтоб алкаши все с похмелья перемёрли московские!». Ну вот, теперь всё снесли. И снова вам скучно стало, вы снова взвыли: «Москву сносят»! Запомните, пердульки: Москву вы же сами собственными руками и убили: с нашими винными отделами, с пивняками и с сосками, с пирожковыми и рюмочными, с чебуречными, со столовыми, со стояками, с ночными, и подворотни вы все убили! И вот не верю я вам теперь, не верю, ребята.
——
.
Прочитал тут статью о Гробощенкове. Глупый он человек, всё таки. Бутафорный. Это стало ясно, когда он стал вдруг буддизмом увлекаться, давно еще. Но ведь дело в том, что буддизм – это самая страшная на свете религия. Поток дхарм, поток пустоты! Страшно до пяток! Буддизм говорит: нету ничего, что брахма ваша, что дхарма. Что снаружи шарик, что внутри. Зябкая страшная пустота. Листочек с дерева. Он летит пока ветер дует. А ветер – это поток ничего, пустоты. Фиг с ним, с буддизмом, ну увлекся человек, бывает. Но ты дунь в ладошку. Чувствуешь? Это называется жизнью.
Больше всего люблю даже нет, не Саш-баша, даже не Дягилеву. А старого Майка. А еще ДК Жарикова. Он умница и молодец.
Простите, если кого обидел за Гробощенкова, бывает, вылетело. Еще Мамонов, Звуки Му. Когда я лежал в 20-ке с амнезией, то единственное, что я помнил и пел, это «Муха источник заразы, сказал мне один чувак».
У Летова есть песня «Здравствуй, черный понедельник»
Но самый цимес – это Бигимот. Вы когда-нибудь слышали Бигимота «Радость дарить»? Это самая православная панк-группа на свете. Потому что продерает до самого края, до слез. Он пел так, что православные попы жаловались, попы! что ходят и матюкаются. На Малом Вознесении. Эх вы. А вы говорите «Гробощенков».
А еще был Рома Зеленый. Он придумал одну всего песню, одну. Я купил её за батончик «Марса».
.
*Тихо-тихо, ребят! Это просто мысли!*
Милый мой Боже! В этой вечерней, то есть уже ночной темноте, совершенно-совершенно черной, что я сижу на кухне один у окна на табурете, и света, заметь, не зажигаю, сию секунду я прошу Тебя ни о счастье, ни о любви, ни о богатствах и деньгах многомиллионных. Я прошу: умири мою душу. Смири её. Она у меня разорвана в полное безобразие и клочки, метается как ненормальная макака на поводке. Я устал с ней жить. Забери, Господи!
Однажды, в школе еще, один хулиган по прозвищу «Компот» настолько сильно меня достал: он постоянно меня бил, тыркал, шмыркал, фигиркал и высмеивал перед нашими классными девочками, в одну из которых я был очень бесконечно влюблен, в Юлю за соседней партой, напротив, он меня так достал этим, что я – шкандыбарик очкастый – схватил школьный стул, а кто помнит – он достаточно травмоопасен и тяжел – и гонял Компота по школе со стулом наперевес. Он был так удивлен моим поступком, что предложил мне дружбу.
Я эту херотню не принял, дрался с ним за школой до первой крови, но Юля так и не подмигнула мне с соседней парты. А я ж тогда раздобыл себе морской бушлат – цимес! — уже носил шейный платок и слушал Акадаки, ранние, Кримсонов, Гонг, Кэн и ЭлЗэ, помните ведь у Майка: «На плече я ношу сумку, с надписью Эй-си-ди-си»…
Юлю я, кстати, до сих пор люблю и вспоминаю. Она, конечно, дурочка была, свистулька, но очень милая и очень нежная. Пишу серьезно. За таких пушкины дантесов хлопают…
Милый мой Боже! В этой вечерней, то есть уже ночной темноте, совершенно-совершенно черной, что я сижу на кухне один у окна на табурете, и света, заметь, не зажигаю, сию секунду я прошу Тебя ни о счастье, ни о любви, ни о богатствах и деньгах многомиллионных. Я прошу: умири мою душу. Смири её.
.
Вот я вам сейчас рассказ расскажу один. Он – всамделишний, взаправду был такой случай.
Ехал мужичок, Советский Союз еще на дворе стоял, автобусы набитые ходили – всем на работу в контору надо, и мужичку в контору надо. Но не влез: бабы локтями его обратно выпихнули в коричневый от соли и песка сугроб, и ЛиАЗик уехал. А мужичок поднялся, портфель отряхнул, ноги-руки целы – и то хорошо! Стал следующего ждать. А тут к ноге бумажка прилетела, охватила его «Скороход» из войлока и трепещет на ветру на ноябрьском.
Он её пальцами снизу подцепил, смотрит, а это страничка из Евангелия вырвана: кто-то ею, простите, подтерся, когда большую нужду за остановкой правил. В общем, всё там явно: и текст, и пятно от жопы этого чувачка, что гадил за остановкой.
А мужичок тот пошел к Яузе, спустился вниз — плевать, что на работу опоздал! Всё равно уже опоздал! — отмыл листочек от говна, сел на остановке и прочитал. Евангелие от Иоанна, где-то в серединке: «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21).
Почесал мужик голову с залысинами, поехал на Три вокзала, приехал в Загорск и подал прошение в Семинарию поступать. А там «собеседование» же. Заходит он, а там на него попы смотрят: взрослые, страшные, седые. «Чего?» — говорят. А он всё рассказал, как было: что бумажку обосранную нашел, а это – страничка из Евангелия, прочитал он её, и … поверил. И вот комиссия МДАиС — седые отцы-протоиереи, епископ, куча архимандритов! — его приняла на первый курс в семинарии!
Сейчас он уже заслуженнейший на свете протоиерей, посмеивается над собою, но вот такое бывает, да. А какой-то гамадрил мою «Слава Богу» снял! Куда мне теперь деваться!? На лбу фломастером разве что написать несмываемым. Так мне проще жить будет… Такие дела, ребята.
.
*всякая чушь, ерунда и прочее»
Моя милая радость ушла. Она случайно утекла, унеслась с ручьями в водостоки Мирового океана. Это как раньше, в детстве еще, после школы горелую спичку отыскал такой ты под крылечком трудовика-михал-анатолича — он курил много, мы у него даже в седьмом классе сигареты таскали для интереса — и пускаешься ею, спичкой, в ручье, подобранной пускаешься спичкой, наперегонки с чортовыми одноклассниками: чья первая придет до угла-поворота, тот вообще выиграл. Такая радость! Приза-то толком никакого не было: был советский «заварной крем» в пакетике по 20 копеек пакет. Мы его ели тотчас, на лестнице универсама всухую. Было вкусно и очень удивительно… И вот их-то всех, одноклассников-пацанов, проскочили спички «вот! опасный поворот и мотор ревёт!» и так далее, и тому подобное, а твоя — дура горелая, в слив, в решетку, в водосток ухнула-ухнула чёрною горелой своею повесой-головою вниз. И поминай её, как звали.
Вот так и моя радость: радость-спичка: сгинула она к трем часам ночи в водостоке Жестокого вашего, ребята, скучного Мира, канула туда вниз — ууух! — и свисти — не свисти: не вернётся она уже, ей там лучше.
Сделалось мне непроходимо больно везде. Радости нету, канула она, радость, расторгла со мной отношения. А и жизни – жизни тоже, получается, нету. Вы вот можете представить себе жизнь без радости? Нет? А я вам сейчас опишу! Ну, попробую.
«Бога рядом нет – и никогда больше уже не будет! Радости нет никакой: как и не было, так и не будет теперь впредь! Ты, Саша, глупейшее и противнейшее существо на земле, говно с очками, глупый картонный человечек, мармышка на пальце у Бога. В лунке холодно, обжигает водой этой подделку под зелено-золотистого жучка выкрашенную дробину с крючком из поддельной дробининой жопы, ходит этот «жучок, туда-сюда, лед нехотя так над леской расходится… пока не клюнет какой-нибудь рыба-идиот…».
Радость моя пропала, ушла, нету её. Без радости — хоть на луну вой воем грустным и печальным.
Был такой, кстати, ребята, фильм, не помню, как его называли тогда люди. Но не о том речь: найдете, если надо.
Сидит такой дяденька, в штанах, приличный, профессор университета. Полный такой, кушать любит, большой, с расстегнутыми уже даже после некоторого ланча штанами на ту самую верхнюю пуговицу, но с некоторою постоянно звенящей настоящей заподлицой в левом ядовитом прищуренном глазу. Ну, точно как любимый мой Володя Богомяков, тоже профессор.
И он там выкаблучивает одну забавную штучку перед первокурсницами-второкурсницами, англо- и испаноговорящими студентками, то есть девочками совсем в беретиках, времени где-то: начало второго семестра, и пишет размашисто, путая церк.-слав. на доске разноцветными мелками, то красными, то синими, то зелеными, пишет по-русски: «Достоевский Ф. М. Вот, что вам, бляди, надо читать!».
Те, конечно, девочки, зашуршали словарями, заслюнявили со вздохом свои пальцы, листают-листают-листают.
А тот профессор вышел на улицу и лёг головой – кудрявая голова, профессорская седая, это вам не мой «бобрик» — и лёг головою в сливную канализацию в решетку. И лежит. И всё ему совершенно остопиздело.
Я, когда видел этот фильм – он короткометражка – я сначала был в таком удивительном настроении от него: это же точь-в-точь, что я хочу!..
И вот, лежит это профессор головой в сливной канализации, думает о Достоевском, а тут слышит, к нему кто-то подошел. Он голову на локоток эдак приподнял, смотрит: а там чудило такое – с Нижнего Тагила! — клерк обанкротившийся офисный: в глазах красных печаль, руки сцеплены замочком, голос дрожит. И он, клерк, у нашего профессора спрашивает… А! Да! У клерка на шее веревка с камнем надета, топиться идет человек… И он, клерк, спрашивает: «Как пройти к Бруклинскому мосту, вы мне не подскажите?». Профессор же лежит головой в очистках картофеля, плевках чернокожих афроамериканцев, в пустых банках и использованных тампонах, лежит в какой-то однородной вонючей субстанции головой. Он, профессор Русской Литературы, приподнявшись на локте, говорит: «Аэм… Хммм. Щассс… Ща!.. Нет!.. Давайте-ка, я вас щас провожу!» .
И они уходят вместе, держа друг друга под руки…
Боже-Боже! Верни мне радость! Без радости я жить не могу! Впрочем, Богу виднее. Поклон вам, ребята, не обижайте никого из ближних: им вдвое больно! Такие дела…
.
Это простые размышления, не обращайте внимания, я только пришел*
Завтра Троица, завтра праздник. Завтра в некоторых храмах некоторые старушки будут подбирать с пола траву, чтобы потом в минуту духовной слабости или отчаяния — съесть ее. Серьезно. Я где-то читал, один батюшка говорил: «А у меня мои прихожанки уже перешли во вторую, «оральную» стадию существования: раньше они просто всего боялись и из-за всего плакали, а сейчас начали всё есть: вербу в Вербное воскресенье, в Крещение лед собирали с иордани, в Троицу вот траву едят…». Как человек, в некоторой степени сталкивающийся с народными веяниями, скажу, что разделяю оптимизм и задорную веселость этого батюшки. После «орального» периода у них наверняка наступит период «странствий по святыням», мы все всё это проходили когда-то, давным-давно. А потом — потом они вернутся к мужьям или женам и станут хорошими прихожанами. Вот, кстати, о пользе крещения во младенчестве: тогда христиане, развиваясь параллельно самому себе, одновременно со своим собственным внешним развитием вовремя тянут в рот, что плохо лежит, ну, или отправляются в путешествие по святым местам….
.
Вот, о чем я думаю. «На севере нашей родины, в Архангельской области, где у меня прошло детство, где я залезал на высоченную березу в углу у самого забора, смотрел на далекую, сверкающую белым песком, Северную Двину и ждал очередным почтовым Ан-2 мою маму — вот где я сейчас хочу оказаться! Жить там с босыми ногами, бегать тайком от взрослых в дикую тайгу в папиных сапогах и пасти телят за 15 рублей в месяц. И еще съедать верхнюю корочку у хлеба, поджарую самую. И переживать, что дед выпорет за разбитую банку кабачковой икры: не уберег ведь я тогда, грохнул, дурилка, доигрался: сетка сама из рук выскочила!»
.
«на свой дебильный страх и риск».
Я, ребят, в электричке начал писать небольшой рассказ. А, это ерунда, это осталось с позавчера. Я приезжаю и начинаю вбивать некоторые буквы. У меня мильон открыто файлов в ворде: около десяти, и меня это ничуть не расстраивает. Пишу-пишу, как дурак, а потом это снова оказывается позавчера.
Кому бы я правда кинулся в ноги, так это к профессору Б. Профессор Б., я, ребят, не стебусь, он умеет птичку-свиристичку случайно поймать за хвостик и шмякнуть об землю. И, главное, что самое-то главное, он стоит потом над нашей всей пиздобратией, он – и сразу гурьбой, он стоит всей этой гурьбой, а эти, наши, над свиристичкой, стягивают свои бедные шапки!
Кстати, они, бедные шапки, назывались раньше «пидорки». Этот профессор – он человек-анти-мишень. Если ты в него пуляешь какашками, то, что самое удивительное, в ответ летят не заварные пирожные. Нет. Летят смело отмётанные навстречу тоже какашки. Но уже со вкусом лимона. Он молодец. … ну что я снова начинаю. А есть профессор Л. Он мне очень дорог, правда, потому что нехуй вам тут знать, почему. С ним меня однажды связало очень длинное пятичасовое-утреннее утро. Я мёл ему там тогда жуткую предрассветную пиздосрань: я хотел ему понравиться. И не было никакого «а потом». Профессор А.— только что! — сказал в телефон, что его заключили в Серпуховском монастыре и просят золото. Вот я тут сижу, блядь, в трусах перед тоже таким же разутым ноутбуком, а мне звонит профессор, которого держат за деньги в Серпуховском монастыре. Заберите меня туда, ну что вам стоит?
Нельзя бесить не очень образованного человека. Он умеет ответить так, в отличие от образованного, что ты, сука, потом двести пятнадцать с пригорошней лет со внуками и с праправнуками будешь ходить по истлевающему монастырю, этим, сука, микро-осалком свечи подожженному, сидеть, и век думать: думать «а что бля не так»? А всё не так, барышня.
Когда моего прадеда сослали — протоиерея со всей семьей: папой, мамой, старшими братьями, — то моя бабушка осталась 15-летней девочкой на Черкизове. С трехлетнем пацаном Симой. Знаете, пидарасы, что значит быть 15-летней девочкой на Черкизовской горке? На Сокольниках, а? Она только через пять с лишним лет свою ДЕВСТВЕННОСТЬ принесла мужу, деду моему. А ну-ка, давай, попробуй.
Она Симку подняла так, что мурашки. Так брата подняла…
А, да ну что вам говорить. Нужно жить ИДЕЕЙ. То есть БОГОМ. Не идеей и Богом, а ИДЕЕЙ И БОГОМ. Чтобы от одного имени хрустело за ушами. Не от страха, от восхищения. Моей бабушке целовал ручку патриарх Симанский Алексий. А мы всё занимаемся какой-то, простите, херней.
.
Меня что-то серьёзное тяготит внутри души, в самой её сердцевине – будто осколок застрял и звенит в магнитных воротцах таможенного пропуска. Я уже, кажется, несколько раз писал вам, ребята, про моего дядю Симу, Серафима. «Дядя» — он брат моей бабушки, но так как все при нас, детях, его называли «дядя Сима», то и мы его называли «дядя», хотя он нам — дедушка.
Так вот, он был из инфантерии, что ни на есть самой низшей категории рядовой пехоты. Двадцати не было, даже, кажется, семнадцати – а уже на фронте. Он своими собственными ногами из Черкизово с военкомата дошел с винтовкой-трехлинейкой до Вены. Там его и настигла победа. Так вот, он где-то в 42-ом наступил на пехотную мину. Ноги-руки не пообрывало, но всё его тело было как в одной огромной татуировке: лицо, руки, ноги, везде, что видно было сверху из-под майки — всё было синее от «татуировки». Это мельчайшие осколочки железа. Или из чего там у немцев мины были сделаны?
Дядя Сима работал потом всю оставшуюся жизнь в Патриархии в мастерских, уважаемый был человек отцами, хотя и пил. И был почти весь «синий». Осколочки эти микроскопические от мины всё время выходили обратно, бабушка моя — его, дядь-Симы сестра — обязательно собирала их и с таким характерным звяньканьем кидала в отдельную рюмочку в комоде. Рюмочка наполнялась. Я это помню: рюмочка в комоде стоит у бабушки дома, и почти на треть – что-то черно-сизое, такое мелкое в ней лежит…
Дядя Сима, конечно же, звенел бы сейчас во всех этих «рамках», но он не дожил. И, может, и слава Богу.
Я уже вспоминал, но всё равно напишу еще раз. Дядя Сима пришел с войны весь синий от осколков, а сестра, моя бабушка, всё это время была в Москве, тушила зажигательные бомбы и всё такое. Но она как раз к концу войны познакомилась с лётчиком — это мой дедушка — дальняя авиация, такой замечательный лётчик! Причем, боевых вылетов, налёта часов — ахнешь! Сам лично видел летную тетрадь! А дядя Сима — пехотинец. Помню, он рассказывал, как они в наступлении спали: менялись по очереди раз в два или три часа: все идут, но один подходил к телеге, клал голову на по-ученически положенные узелком локти и руки и шел за телегой ногами — и спал…
Да еще и мина: всё лицо раскурочило: «синий человек», рябой весь стал.
А тут лётчик у сестры! Оба-на! И пошел дядя Сима с моим дедом в конфронтацию. В чем она заключалась? Придет лётчик к сестре: в парадной форме, с цветами — лычки голубые, три красных звезды на груди… а дядя Сима наберет грязи из всех луж в Черкизово, и швыряет в лётчика. И кричит: «Что, лётчик? Не по душе? А я её пять лет ртом жрал, пока ты по небу на самолетиках катался!»…
Но всё кончилось благополучно, поскольку вы ж меня читаете: значит, я есть. А раз я есть, значит пехота всё-таки помирилась с авиацией.
И потом была доооолгая история их дружбы: моего деда-летчика и простого рядового инфантерии, синего от осколков. Оба они были глубоко верующими людьми, и именно Христос и Его Церковь их примирила. И в итоге через бабушку появился я…) Это ли не чудо?
Поклон вам, ребята, всё будет хорошо!
.
Полнейшая тишина, в храме реально всего два человека: я и староста. Староста на меня ругается по чем свет стоит, а я от нее убежал. Схватил ключи от колокольни, и уфигачил. Сижу под шпилем и что же? Отец настоятель! Благо он добрый и старый очень сильно. Говорит: мне твоя физия знакомая, а ну-тка подойди! Подхожу, благословляюсь, что ж делать. А он всю войну разведчик был, он меня за шиворот прихватил и говорит: Сашка! Ты че думешь? Я тебя не узнал!? Я ему бух в коленки. А он: старосту видал? Да, говорю, видал. Тогда меня не сдавай! Я на колокольне отосплюсь!
.
Сегодня в пять утра у меня хороший друг умер. Православные, помолитесь о новопреставленном Вадиме, что вам стоит? А Вадиму вы реально поможете своей молитвой.
Вы знаете, я снова вот уже несколько дней как начал писать стихи. Снова, ёлки. И это кажется мне очень тревожным звоночком. Как говорит моя замечательная питерская знакомая Юлия Джулия, ушедшая от меня на время в католичество: «Если Саша Бор начал писать стихи – это очень тревожный звоночек». Но мне просто захотелось неземной красоты. Вы же все прекрасно, ребята, знаете, то такое неземная красота, а я вот — болван — вырос болваном, придурок эдакий, да так, видимо и помру, и ничего такого не узнаю. Вот какая она, эта ваша красота? Красивая? Ведь красивая же! А что при этом поют? Наверное, что-то афонское, но не пантелеимонское в три гортани, а старческое, чтобы непременно такими чуть-чуть надтреснутыми голосами. Вот вы не знаете, живете себе в жополизных мегаполисах, а в Дионисиате между тем живут старички, это у них Дионисиат за дом престарелых.
Они уже не рыпаются никуда, ни в Кивот, ни на небо, они просто приходят в своих выгоревших белых от солнца подрясниках из заплаток из клеенки — клеенки! — на службу и начинают петь старческими голосами литургию. И у меня мгновенно от этого сводит живот. Вы себе, ребят, представить не можете, как это жарит по мозгам! Если бы все знали про Афон: в мире не осталось бы ни одного наркомана. Да дело даже не в этом. Старик так не может любить, у него было всякое: он уже все перелюбил, а ребята-старички своими дребезжащими голосами зажигают во мне веру в Бога, и нет такого дебила на земле, который попробует мне в этом помешать. Если вы, ребята, будете на Афоне: сходите! Помолитесь! Я знаю, о чем говорю. Девушек жалко, конечно, но они там кустарно шлёпают компакты: старики же немощные: одному памперсы нужны, другому зубы вставные….
А Вадим, что умер сегодня, был классным человеком: не из тех, кто кривляется и заявляет, что он никогда на свете не грешил, а тот, который умеет каяться. Когда я четыре года назад случайно забухал, он вдруг приехал ко мне домой, сел среди ночи на мой диван, сел, в общем, и выпорол меня словами так, что я утром даже не думал думать о том, что бывает шампанское. Причем он был сильно зол на меня и сильно обижен. Не потому что я вот такая свинья, а потому что он знает, как это — быть свиньей всякий умеет, но подняться — умеют только отъявленные но прощенные Богом негодяи, как мой милый друг Вадим и я, дебилище.
.
Я так быстро ехал домой! Велик из-под задницы прямо вылетал на проезжую часть, вилял подо мной. вырывался! Я ехал домой так быстро, как умеют ездить только отцы, у которых есть дети. Я так мчался, что в глазах слёзы стыли. Приехал, а никого дома нет, я один. Зря я спешил. Только монах может любить детей так, что зажмуришься, а повторить его любовь не получится. Только тот, кто не знал женщины, определенно точно знает, за что её можно любить. Вот вы смеетесь, а это правда. Когда дома тебя ждет только холодильник, а дети – это всего лишь фотокарточки, тогда только ты и начинаешь понимать, что это за подвиг: быть без них. Я попов много знаю: белых, черных, монахов, игуменов, архимандритов. И я вам скажу: только поп умеет любить человека за то, что человек чего-то случайно накосячил. Мы, в миру, любим за что? За правду и за нашу правду, за наши устои. Нам девушку подавай, которая не просто так, а которая никогда никому не врала, юношу – чтобы денег вагон носил и тоже никому не врал. А попы любят нас за то, что когда ты уже устал строить из себя мальчика-колокольчика из города дзинь-дзинь, ты приходишь к нему: служба уже давно закончилась, треб нету, он сел под звонницей, а ты приходишь и хлопаешь ему по коленке: бать, батинька, прими засранца. Я знал одного игумена. Который был чище младенца. Дай ему волю: он гулить будет с амвона. И когда он тебя исповедует, то только горькие-прегорькие слезы из всех на свете глаз – целые реки текут! Наши попы умеют нас любить. Вот ругают Церковь: такая-сякая. А они нас — все равно любят. Пусть они и с припездью — всякое, конечно, бывает. Я лично знал одного батюшку, который исповедовал, вытирая руки о подрясник от жареной курицы. Прямо за столом. А еще одного батюшку знал – оооо, ребята! Это был старый 80-летний поп, в его глазах плескались океаны. Однажды, в самом конце 80-ых к нему прислали молодого семинариста, и тот его стал у престола мучить: «Ну, кто так служит!? Ну, опять вы сокращаете! Вы вообще не поп!» А отец А. — был под старость Святейшим вызван из Китая. Из КИТАЯ! Он чуть не Иоанна Шанхайского лично знал. И он, старый отец А. говорит этому чувачку: «Брат! Оставь меня. Иначе я тебя стукну». — «Как так стукнете!? ВОЗЛЕ ПРЕСТОЛА!?» — «Бумц!» И слышу, как раз до оглашенных отец А. кричит из алтаря алтарничкам-пацанам: «Ау, ребят! Выносите этого!» И вышел потом на проповедь. А я стою – хиппи из 90-ых, а он обнял меня и говорит: «Приходите, ребят, в храм ко мне! Приходите обязательно!» Обнимает и плачет сам. Он умер потом, его отпевали такие дремучие старцы – вы не представляете! Схимники откуда-то пришли!
Это очень трудно понять. Почти невозможно. Но они нас любят. Поэтому и не спасаются. Почитайте Иоанна Лествичника. Вы готовы мчатся во весь опор на велике с работы, зная, что вас никто дома не ждет? А они – попы – мчатся! Пусть у них иногда не все дома, но они – люди, которые жертвуют своим спасением ради вас. Ради нас.
Старый 90-летний отец Н.: ему запретили из викариатства — указом! — ездить на велосипеде. Он ездил в облачении на велике. Я пришел к нему на исповедь, рыдал, уткнувшись в епитрахиль, он поднял мою голову, посмотрел на меня и сказал: «Лучше, Саш, конфетку сьесть? Да?» Весь Белорусский фронт прошел, разведка. А конфетка лучше!
Отец Вл. старенький был вообще. Выбежал однажды ко мне и как закричит: «Христос воскресе!» Я чуть от страха не обделался.
Отец-игумен Е. 78-лет. Сразу положил мою голову под епитрахиль и говорит оттуда, сверху: брат, Сашкин! Как я грешен! И мне рассказывает свои грехи! Я из под епитрахили чуть не рыдаю: отец! Я виноват! Нет я! Нет я! Нет я!
Я даже разозлился! Выныриваю оттуда, а он — от ужаса плачет, что он там у кого-то записочку не ту взял. Ё-моё!
Жалко, что я не могу стать попом. Я бы точно отдал свою эту уродскую жизнь хотя бы за одного бандита.
А! Вот я вам напоследок! Грузинский священник отец А.! Он вышел на балкон в общаге часа в три-четыре утра. И спел «Святый Боже» на грузинском. Вышли все. Вся общага. Никто не поймет, в чем дело: все плачут. А сверху отец А. Стоит и поет.
.
***
Это не шутки. Когда старенький дедушка игумен Никон (Воробьев) прочитал Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», он сказал: «Так, ёлки-палки, у них там вообще курорт был!» Это ж как у отца Никона было, если ему Солженицын – курорт? А я, кстати, давно подозревал, что все эти «жертвы режима» там, на режиме, и паслись. А людей, между тем, так мучили, что даже плакать потом устанешь – выдохнешься плакать.
Вспоминается мне священномученик отец Серафим (Звездинский). Сейчас я вам, ребята, его фотокарточку покажу, если найду. Сейчас…
Вот!
Его ж урки – как же мучали! Боже, Господи! А он написал в это время на каких-то бумажках обосранных из клозета такие невероятные каноны и акафисты, такие чистые и такие удивительные, что одному моему знакомому отцу-иеромонаху заслуженный его духовник благословил вместо ночного правила эти каноны вычитывать, вместо монашеских трынь-брынь-балалайка.
Я знаю, я сам их читал. Это – невероятно. Потом, когда он, священномученик Серафим, стоял на рассвете в углу у параши, потому что урки несколько месяцев не давали ему ложиться, а кругом витал огромный тяжелый синий дым от махорки, к нему вдруг пришел Христос. Они поздоровались, а через пару часов его расстреляли.
Надо что-то что ли хорошее написать, а то всё грустно как-то у меня выходит. Вот, анекдот вспомнил. Правда, он нехороший. Это его, кажется, наш преподаватель по Догматике рассказывал. А может и не он. Так вот. Попадает человек в рай. Водит его Ангел, показывает всякие сказочно красивые кущи: «Это вот тут – протестанты живут, а вот тут – лютеране, а вот это – католики приземлились, видите домики пряничные? Да… а вот это – адвентисты седьмого дня поселились в палатках…» – «А это – что?» – спрашивает человек и указывает за забор, обнесенный суровой колючей проволокой. А за забором – люди стонут, рыдают, худые все, грустные, Бога зовут и сами себя плётками хлещут. «А, это? – говорит Ангел, – Это православные…» – «А чего же они так мучаются-то!?» – «Дак, они так привыкли, что ж теперь?..»
Поклон вам, ребята, поклон.
.
Ёлки ж, палки! Сейчас по работе вспоминал одну из самых моих любимых святых мучениц — Анисию. Она мне очень-очень близка и любима именно за то, что за ней нету, не стоит за ней этого агиографического и, это часто бывает, сомнительного багажа, как, мол, «рвали ей сосцы крючьями», «варили в раскаленной медной корове» или «выклевывали очи чижами и воронами».
Анисья просто шла себе однажды утром в храм, и ей, конечно же, по дороге попался мудак-солдат. Как же это знакомо! Точь-в-точь со мной такое бывает, когда я в храм иду! Ну, он, солдат этот, конечно, схватил её и попытался сорвать платок с головы, потому что если бы она такая молодая без сопровождения папы-мамы и с непокрытой головой куда-то там шла, то по тем временам она — блудная девка, и можно с ней что хочешь делать, и прочее.
А наша милая отважная Анисия просто плюнула этому солдату в глаза и перекрестилась. А этот козел выхватил свой меч и тотчас её, хорошую, проткнул и зарезал. Как же это знакомо! У меня знакомого друга вот также как-то, когда он на раннюю шел, ножиком пырнули. Нет тут пафоса и фанфар всяких. Умница эта Анисия, храбрая и замечательная христианка.
И что же я тут ниже в житии читаю?
«На Анисью-желудочницу, 12 января, варят свиные желудки и режут гусей. По внутренностям, печени и селезёнке гадают о зиме». Сами вы, сука, желудочники! Гусей они там режут. Эх, сплошное же расстройство…
.
Сейчас я вам, ребята, расскажу одну самую настоящую историю. Она действительно произошла в нашем прошлом веке.
Приехали куда-то в самую жопу Африки католические миссионеры. Мужик с женой и падре там один. Они сначала одну негру убедили, потом две, – а те ж из диких! – ну, а потом и весь поселок уверовал. Стали мессы править, мужик с женою ходят по джунглям, птичек благословляют, падре негров дрессирует: «Самая лучшая смерть на свете – мученическая смерть! Мученики Христовы, за веру пострадавшие – сразу ко Престолу Божьему попадают! Лютые муки принимали наши подвижники без писку, без шума, без пыли…»
Послушали-послушали наши эти негры своих миссионеров, и, предав лютым мучениям – кожу с живых всю снимали, органы отрезали с хохотом, – сожрали всех троих всем племенем.
А когда приехала комиссия разбираться, ментов понаехало со всей Африки, прокуроров всяких, они смотрят: а негры тех ребят портреты в рамочки оформили и молятся им раз в день обязательно.
Менты ж с прокурорами вот и спрашивают: «Это как же так-то!?» А самая старая негра, вся в перьях такая, им и отвечает: «Так они нам проповедовали, что самая славная, славная хорошая и спасительная смерть для христианина – это мученическая смерть, это когда его умучают, ага! И мы ж всем сельсоветом долго не соглашались на сходке-то, не хотели их мучить, дак ведь любим их! – что ж поделать!?
Ну, и потом любовь наша к ребятам, учителям, превозмогла все эти наши прошлые земные интересы: и мы их очень сурово и с радостью умучили. Баба – та вообще мучилась дольше всех: почти три дня без кожи провисела на кресте деревянном, всё-то вздыхала – но женщинам же, мы же знаем, католичество наше велит: женщинам надо гораздо больше времени для их покаяния…»
А потом съели они этих замученных христиан, даже сфинктера завалящего не осталось – кости одни.
Но съели-то они из-за любви к Богу! Они хотели своим учителям вот этим, апостолам-то нового времени, они хотели им самого настоящего счастья! Они, выходит, отправили их в Царствие Небесное, что ли так, да?
Такие дела. Поклон.
.
В один действительно длинный день, когда солнце не встает, а выползает, когда даже коричневые дурацкие воробьи не скачут, а ходят ногами, когда брошенный в урну окурок не летит, а едва-едва кружится и приземляется, когда ветер, который кусает девушек за голые летние пятки, не кусает – не успевает, когда в мире что-то такое жужжит, словно моторчик из детства с батарейкой «Varta», большой и квадратной, когда в этом остановившемся мире наступают каникулы – вот в этот один незапамятно длинный день я и устроил всю эту катавасию. Я решил лечь на площади Трех вокзалов и отдать Богу душу. Совсем не потому, что я не могу умереть дома: нет-нет, дома вполне комфортно помереть. Просто я влюблен в небо над Тремя вокзалами: такого больше нет нигде. Я бывал в Бен-Гурионе и в аэропорту в Салониках, бывал в Турции, бывал, конечно, на всяком севере, но именно вот это мое небо над Тремя вокзалами — обязано меня укрыть. А ко мне вдруг подошла маленькая девочка и обняла за ногу. Маман там чем-то щёлкала, закрутилась, а девочка ускользнула и обняла меня за ногу. И я передумал помирать. Потому что непередаваемо, как хочется быть этим слоном, которого обнимает потерявшаяся девочка. Баобабом, столбом. Что толку, что я лягу и сдохну под этим восхитительным небом над Тремя вокзалами? Никто ведь не придет обниматься с твоим памятником на могилку. А быть живым и чувствовать, что где-то далеко внизу одна крохотная девочка обняла тебя за ногу, потому что потерялась — это, наверное, и есть то самое мое небо. У каждого оно свое. Христос недаром стал человеком: если ты с нею на руках орешь на весь перрон: «Мамочка! Мамочка! Окстись! Я ведь через пять минут уже не смогу дочку-то вернуть: не оторвать будет!» И прибегает эта дурочка, начинает хлопать руками по бедрам, целовать эту малышку, а ты понимаешь, что Христос — это они! Они! Значит, всё недаром.
.
*думаю вот*
В соседнем доме, окно в окно с моим стоит — я уже, кажется, смотрите-ка, год наблюдаю! — ни днем, ни ночью в квартире не тушится свет. Днем его едва видно, но он всё равно горит, ночью видно само собой. Я сначала думал: «Ребенок, может, маленький?» Но нет: весь этот год к подъезду несколько раз в сутки приезжает скорая и днем, и ночью. Если в четыре утра во всем стояке горит только одно окно только одной квартиры, то к кому же приехала скорая? Вот именно! Думаю, там живет старушка. Если бы это был ребенок, его бы давно уже увезли бы в больницу.
И я стал, как увижу скорую, как увижу этот свет в окнах без штор, говорить: «Господи, помилуй!». Ну и хорошо, и ладно.
А сегодня встретил одного бродягу местного: он ко мне на лавочку приземлился, я только правило дочитал и сел спину посидеть: «Разрешите к вам приземлиться?..» Ну, и я у него спросил отчего-то про окошки с вечным светом.
Оказалось, там ребята-алкоголики живут с нашего района, а свет не гасят, потому что темно будет. Это мне очень понравилось, такое объяснение. «А скорая?» — спросил я. «А скорая к нам приезжает, мы ее вызываем, когда кому-то плохо».
«Господи, помилуй!» я теперь буду с удвоенным дерзновением говорить, потому что для скорой тоже, но где же берут терпение врачи?
Я как-то читал (или слышал) — это вообще баян, но я вам все равно, ребята, расскажу! — как одна бабушка буквально затрахала скорую помощь вызовами. Почти каждую ночь она вызывала бригаду с руганью по телефону, что у нее инфаркт, и она умрет, а они не доедут до нее, и их всех посадят к Солженицыну в Воркуту каналы лопатами копать.
Бригады, сами понимаете, разные оказывались: кто ближе или что-то такое. И вот приезжают доктора, взлетают на пятый этаж, входят. Бабушка лежит-помирает на кровати. То-сё, посмотрели её, решили ей поставить укол: перевернули, трусы отогнули, а на заднице у нее зелёнкой характерным врачебным почерком написано: «Бабушка всё п*здит! Поставьте витамин!» И подпись «Бригада такая-то с такой-то станции»…
И началась у них переписка, ребята! Я очень люблю эпистолярный жанр, и мне бы до смерти хотелось узнать, о чем они переписывались на заднице у старушки, но это, увы, неизвестно: врачебная тайна. Всё у них так, у врачей этих: везде тайна! Без лампочки не входить!
Впрочем, я знал одну старушку, звали ее Серафима, она военным хирургом прошла всю войну в Мурманске в госпитале. Ей матросиков привозили без рук, без ног, обожженных, искалеченных — каких только не было! А она никогда ничего такого не рассказывала (это мне моя бабушка рассказывала, ее подруга и тоже врач), смеялась всегда очень весело, а на День Победы надевала военно-морской мундир с наградами: их было совсем не иконостас, но все боевые, потому что юбилейные она не прицепляла из принципа.
Зато у неё топленое молоко выходило лучше всех в деревне у наших бабок! Она в печке топила и меня звала-посылала внучку. Внучка Оля прибегала, звала, я с Олей мчался к ним в гости, и вот это вот в горшке запечённое молоко, его вкус — ой, никогда не забуду!
Господи, давай же, помилуй врачей! Если мне бывает хреново, то каково же им-то бывает, а?
.
Вчера я закопал пятого своего друга. И это совсем не тот случай, когда бы мы все под столом хихикали бы босыми ногами, а они — они бы оказались бы эдакие — хоба! — безмозглые поросята: ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф.
Я правда, без всякой заоблочной пизды, на самом на свете натуральном реале, любил Вадима. А он — первый парень на селе, — единственный, чье мнение было для меня авторитетом. Я мог поступить иначе, по-другому, и так и делал часто, но к Вадиму я всегда прислушивался. А в результате: что вышло?
Что мы с ним поспорили, кто первее в песок? Думаете он? Нет, вчера на кладбище я вдруг, де не я, меня вдруг нахлобучило: он прав. Потому что ты, блядь, Саша, ты сучок — песок и грязь. И дорога тебе туда одна. А Вадим спасся. И в этом я совершенно уверен.
.
Ну, что? Снова я на работе, снова-корова сижу тут пока что совсем один, сибирские наши авторы все, оказывается, в отпуске, поэтому утром ничего нет: ни публикаций, ни новостей, ничего. Да и настроение мое странное какое-то этим утром. Во-первых, конечно, вот что: многие, очень многие люди мне говорят, что когда я начинаю писать стишки, то они пугаются: со мной «снова что-то не так». Да и, вроде, дурацкий совершенно получился стишок, но всё равно мне передается их перманентное беспокойство и недетское волнение. Лучше б я трактористом был: за тракториста чего переживать? Волнений жены за него может собираться в нижних слоях атмосферы только два раза в месяц: в получку и в аванс. Но, даже если и так, то, например, «Беларусь» — старый еще тот, наш, синенький, колёсный — это ж был тракторам трактор, совсем никакие не популярные у всех до сих пор жигули! Даже если тракторист уснет вдруг, случай, за рулем в поле, то, конечно, руль будет биться как извлеченный из реки лосось, и его, тракториста, станет будить, да и трактор, в общем, никуда не денется, если только оврага впереди нет или речки, случай. Лучше б я стал трактористом.
Когда я был маленький, то у нас постоянно трактора ездили мимо дома: и колесные, и гусеничные. МТС тогда еще во всю работали: проблем не было. Хуле ж: Брежнев был.
(Для юной моей молодежи: вообще-то всегда, раньше, до вас, «МТС» значило: «Машинно-тракторная станция», там работали многие папы наших пап, очень многие. Когда началась «Перестройка», то МТС еще немного покукарекали пару-тройку лет, а потом и схлопнулись, и сломились тотчас, как тростинка на ветру. И вот когда появился оператор связи «МТС» — я еще года два при всяком случае вздрагивал: всё-то случайно думал, что речь идет о какой-то большой Машинно-тракторной станции).
Так вот. Гусеничный – это вообще всей детворе ликование! Это ж настоящий танк! Увидим издалека: идет гусеничный! И мы залегали на одном там довольно резком повороте дороги, возле наших соседей, возле их дома пыльная наша дорога давала крепкий поворот, крутой такой — там-то мы и залегали в траве с деревянными гранатами. Причем, гранаты по сараям мы выпиливали, бывало, по весь день, дрова переводили…
И вот идет гусеничный: ой, страшно, ребята! Он же поворачивает на месте рычагами, а не как машина с рулем по дуге. Вот он надвигается-надвигается-надвигается: лязг стоит, траки стучат, мотор воет, клубы дыма, а ты в траве с гранатой. Пусть и деревянной. И остается буквально меньше метра, меньше метра: и он вдруг – хоба! – и разворачивается на 90 градусов, и едет дальше. Вот эти вот подвиги с войны, чтобы под танк лечь: я сам на себе с детства испытал. Страшно так, что обоссышься в первый раз по полной программе, и никто, причем, не засмеется…
И мы потом, поднявшись из травы, швыряли в тракториста деревянными гранатами, как только он отвернет по дороге. И странное дело… хотя нет, нормальное… ни один — ни один! — тракторист нас даже матом не покрыл, даже не обиделся. Они ж все с войны были, наши трактористы, думаю, что танкисты, в основном. Понимали.
Так что стишки вот все эти – это ерунда. Лучше б был я трактористом. Детишек бы с деревянными гранатами прощал… Эх.
.
«Милый мой Бог, милый мой Дух, милое моё То, что меня создало! Держи меня под Своими мышками, чтобы я снова не наворотил дел!», — так думал и лежал в многоэтажке мужичок, которого выгнала в Воронежской области из дома жена со своим прихвостнем, и он поехал в Москву «на удачу».
Лежал и так и думал.
Звали его Женька. Это тот самый мой родной бомжик, которого нашли тем Великим постом умершим в высокоэтажке между этажами.
А история будет о красивом.
Мы однажды с ним на пару сели на лавочке и выпили вина. Никакой водки! Даже не думайте! Я водку ненавижу даже нюхать, это честно и очень давно.
И сидим мы с ним, с Женькой, на лавке у подъезда, а я вина купил хорошего, дорогого, белого Шардоне, как я люблю.
А Женька мне говорит, пьет со мной и говорит: поехали, Саш, ко мне в Воронеж! Бабу мою уже не выгнать с хахолем, но там у меня поп же добрый в селе.
«Что за поп?», — спрашиваю, потому что интерес почти профессиональный.
И Женька мой рассказывает.
Священник по всем углам, по всей своей тму-тараканей собирает урок, зеков, бомжиков, бичев. Любит их так, что на литургии за Царскими вратами о них плачет.
Но спуску тоже не дает. Выпил? — ну, лежи у ворот. Ну, укроет одеялом – из дома своего вынесет плед: лежи!
Но дело всё не в этом. Дело в том, что звали его: отец Олег, и однажды он тоже нажрался. Дал жару.
Пил так, как птицы свистят.
Там всё потухло, и день, и луна. Зажарил отец Олег себе «за штат».
Бомжики-то за ним тянутся, а он и сам уже такой же. Матушка с детьми съехала, владыка даже имени уже слышать не хочет, приход разбежался, всё!
.
*лирики?*
Как больно, как нестрерпимо больно, когда мой младший брат мне говорит, что ты мудак – младший брат! – а ты ведь и действительно и действительно мудак. Нет ничего на свете, нет никого на свете, нет нихера на свете, чтобы я, упав мордой в стол сказал: «Да, я Мудак!» .
Ну просто я так не могу. Когда я работал пастухом, то доярки мне для смеха подослали быка. Бык производил, да. И вот я стою перед ним, и каждая его точечка на каждом из двух его рогов говорит мне: «Пиздец тебе, Саша». Огромный взбесившийся бык, потому что там тёлок течных 30-ьт душ, а хер у него один . И тут я. Мне страшно – до усрачки, но никто кроме меня. «Боря, Боря» — говорю ему я и хватаю его за рога. Вот этот череп, я вам скажу, вы когда-нибудь пробовали пнуть ведро с застывшем цементом?
А тёлочки мои за меня, сопельки, спрятались: им ебаться с таким крокодилом и вовсе не хочется.
Бык как заорет! А я держу. Пальцы будто песочные стали, сыпятся. Но я тёлок своих, что пас все лето, ни одной этому кабану не дам. А там у меня хорошая была, Рыжка. Мы с ней дружили очень. Рогов еще не наросло, а ресницы рыжие. Обычно она ко мне подойдет, руку возьмет вместо титьки и сосет. А если в глаза посмотреть: маму видит. Я её, ребята, только не смейтейсь, очень любил, до слез. И тут она.
Бычара уже не знает, как ему быть: рога, вроде, в плену, а тело на воле! И он, пидарас, на мою Рыжку киданулся! Я человек против быка слабый, у меня его рога только так вылетели! Он вырвался рогами из рук-то, а я ему в горло ногами в резиновых сапогах бью. Бью и бью. Плачу сам вдрызг: ну а как я еще могу тёлочку от быка защитить? А у того яйца размером с грейпфрут, розовые-розовые, даже до неудобного розовые — мне даже стыдно писать об этом сейчас стало.
И влез этот козлина на мою Рыжку. Тут я уже, ребята, голову потерял, выломал дрын с изгороди, — у нас на севере изгородь из жердей, из дрнов, — и как дал ему по яйцам. Он аж взвыл, а я ему между рогов снова треснул, да так что дрын поломался.
Убежал бычара к ручью муди остужать, а Рыжка подошла и меня поцеловала. Не смейтесь-не смейтесь! у неё один глаз размером с яблоко. Она посмотрела и меня поцеловала шершавым-шершавым языком.
А однажды с рыжкой дурь случилась, я понимая что я быка ей не давал, но она мне просто очень симпатичная была. Как дала галопа! Хвост по ветру! А у меня ж другие тёлочки и бычки, что ж я буду за одной по всему заливному лугу гонять? И как я гаркнул! У меня голос хороший, я даже в хоре пел, а тут ка-ак гаркнул: «Стоять, бляха!» Рыжка даже не сообразила, что ее самый добрый пастух зовет. Отвел я её, стреножил. А тут и Боря. Бедная Рыжка, она уже и не знала куда глаза девать.
Потом народились рыжие поросята. С рогами.
Я это к чему вам пишу, вы должны, ребята, знать: любить можно всё: телочку, кошечку, даже скоробея-паука, любить можно даже вшу. Но люди любят людей. И из моей рыжки консерву накрутили банок семь! А то восемь. И ел мою милую Рыжку в шляпе с осоловелом глазом и в брылях завхоза с ма-ка-ро-на-ми. Сука, убью.
Выходит, что любовь это так, это мальчик с девочкой пошли в кусты и трахнулись? Эх вы, я вам больше расскажу. Тогда была начала перестройки, 85-ый, я шел по Карла-Марле — вверх до Пушки гулял. Вдруг из машины выбросили девочку. Голую-преголую. Мне так стало страшно за неё! Я снял с себя штаны, трусы , носки, куртку и шапку…. А она была очумевшая, она даже одеваться не могла. Я надел ей трусы прямо на асфальте, носки, штаны, ботинки свои снял, а ботинки были кубинские-советские! Отвел я ее в подъезд, а меня за голый вид арестовали.
Менты меня одели, побили-побили, и отпустили. А я честно сказать, влюбился в эту девушку, которая безо всего. И срал я пригорком, что её из машины выкинули, и плевать мне было, что она чья-то там проститутка… Просто она была очень красивая. Очень. Прошло лет восемь или десять. Я иду по Твербулю, в костюме и в галстуке, как корреппондент. И вдруг с лавочки кто-то бросается мне наперерез. И целует меня в губы. И обратно ушла.. А я сидел в квадратике песочницы и никак не мог поверить «Она, что ли?» или «не Она».
08.04.16
.
В жизни Саши Сафонова произошла гигантская трещина. Он сразу, за один раз и навсегда потерял жену, дочку, другую дочку и сына. Он ходил расстроенный до утра и выл на деревья, которые были немного похожи на его родных. А утром на дэу-матис примчался отец N. с приятелем Сергеем, и они увезли меня «на разговор». Я молчал: что я могу еще сказать? Я молчал, а в сердце что-то плакало . А Сергей кричал: «Мне не нравится, что ты молчишь!» А я сидел, молчал, смотрел на дно кружки с чаем и говорил про себя «Господи! Господи! Господи! Господи!»
Тогда отец N. и Сергей решили увезти меня в монастырь. Дело в том, дорогие мои ребята, что если я заеду в монастырь, я там и останусь – у меня мечта с детства в монастырь заехать. Ну дак а как же Соничка, как же Ваничка?
И тогда Сергей вдруг сказал, что у меня левый глаз очень красный. В зеркале я пошел-посмотрел – краснющий глаз. Я тер его и трепал, но потом подумал вот так: если я потерял жену, двух дочек, и сына, то и глаз мне и вовсе не за чем.
Я заклеил его изолентой крест-накрест закрасил черным фломастером пару зубов и пошел сдаваться в монастырь. Конечно меня никто туда не пустил. Меня побили и вышвырнули за ограду: «У нас столичный монастырь!».
Любовь – это когда за кого-то сердце щемит. А за меня одно сердце уже отболело, уже там.
Нет-нет, не думайте, я пойду в монастырь.
Просто грустно, потому что я хотел, чтобы было как лучше.
Я поеду на север. Две руки есть, две ноги, один глаз. Встретите одноглазого монаха – это я: плюньте мне в спину.
Осталось три дня.
Однажды я отдыхал на море в палатке, но на соседнем пригорке поселился судья. Настоящий. Квадратную только эту фигню не надевал. А он, видимо, дед. И была с ним внучка. Настоящий лучик. Такая знаете – звенит! И это чмо юридическое ее будило в шесть утра – палатки же, все слышно. Иди в море! Иди в Море! Загонял девочку в море и орал: «Соси носом воду!» Я однажды встретил ее на тропинке одну, я остановил ее и сказал ей: миленькая! я все знаю, я молюсь за тебя. Как она расплакалась мне в руки.. Малыш совсем, лет 8-мь.
Тогда я решил судью убить нахер. А милиции сказать, что его дельфины обглодали. Заготовил палку, лег спать, а ночью мне снится моя бабушка – та самая, чье сердечко закокопано. И говорит: «Санюшка! Не надо! Лучше морду набей»
И вот я я услышал «Иди море соси!» И вспрыгнул – палатку изорвал и пошел судью быть. Но видимо у меня было настроение грустное, потому что со мной увязались панки. Причем не «панки», а самые настоящие панки. Они говорят: «Ты куда? Я: «Судью бить». А Они «о! и мы с тобой!» А там Куба панк был, варил, он мне говорит: Ты молочка припей, и пойдем судью пиздить.
Я выпил молока и увидел длинную немецкую деревню. Домики-старушки. Всё аккуратно. Я лёг на дно моря – панки вытаскивали, и смотрел на небо. А там девчата голышом купались ночью. А звезды – это фонарики пионеров, чтобы подсматривать.
А однажды на трассе мне попался мужик-мудак. А со мной были две девушки. И мужик мудак решил, что он может забрать у меня девок. Тогда я дал ему в лоб. Со всей пионерской силой, а девок задвинул за себя. Он поднялся, и я подумал, что мне пиздец. Но я ему сурово двинул, он минут пять переминался. Потом говорит: «Твоя справа, моя слева».
А тут и вокзал Новгород Великий.
И тут как ливанули у меня слёзы. Вырвал я кресло рыжее на вокзале Новгород Великий и треснул ему по башке. Он ахнул и осел. Девочки плачут. Милиция конечно приближала. Я сказал: я – не мальчик первой, я – не мальчик второй. Просто мне сказали: «Довези». Если вы их до Питера довезете гарантированно – готов сесть. Отпустили.
Однажды в Питере я прогадил всё, что можно, включая шмотник. И стою у Мосбана, а ноябрь, меня колотит, тут бомжик ко мне: «Как звать? Сашкой». Пойдем, завел меня в глубины, там игровые аппараты. Дай десять рублей – уедешь в Москву. Да я говорю у меня только три. Давай. И Начал он кнопки жать – льются рекой деньги. Взяли напиток «Вечерний» — мерзкая дрянь, по вкусу как кофе наоборот.
И тут и мой шестьсот веселый. Хороший бомжик оказался, Юра. Он меня вписал положил на третью полку, проводнику десятку дал, и я вовсе сознание потерял.
Шел я вдоль путей у насыпи и думал: надо мне в монастырь: я некрасивый, очкастый, нестильный, дурило, в общем.
А начинал я пастухом, я пастух. Только коровы огромные, коровы и быки страшные, я телят пас. Подойдет ко мне теленок, вместо рогов две шишечки, возьмет губами аккуратно мою руку, губами и сосет. А я их обнимаю, обнимаю за шею, обнимаю, хоть они и обосранные, кормил их… всё теперь тушенка. Арменаки акопяны сожрали.
Давайте еще историю рассажу, как в живую меня убивали.
Это было на платформе Северянин, я был панк, и у меня на голове была стрижка «таблетка». А поймали меня какие-то блядь сибиряки. И молча стали бить. Били больно очень. А я руку поднял и фак им показываю. Они били-били, потом один самый горилообразный меня схватил за грудки: «Ты че, мы же тебя досмерти же забьем! Убери фак!» — «Не-а, говорю». Как он мне врезал, на черепе трещинка осталась. Ну и валяйся тут! И ушли.
Однажды я спас лошадь. Лошадь звали Цыганкой. Она была дурной кобылой, и когда меня на неё усадили, она понесла меня как автоматический пылесос. Я думал, что я умру. Единственное, что я мог делать,, я шептал ей на ухо: «Цыганка, цыганочка, акстись». И вдруг она упала в овраг, спиной упала: копыта кверху. А мне 12 лет… но я ее вытянул, за копыта. И знаете, когда она поднялась на ноги, она меня лизнула. Языком.
У меня больше не будет ни жены, ни дочек, ни сына…. Плачу…..
А смешного хотите?
Я раньше толстым не был, я раньше был струночкой и веточкой. Думаю, что красивый. И была девочка, замечательная, красивая, у неё такая ещё стрижка ёжиком, очень хорошая девочка. А я панк. Нажрался портвейна упал в прихожей и лежу. А она мне в штаны ручку запустила, и говорит: «Ты не расстраивайся, ты не расстраивайся».
Помните ли вы Моню Цацкеса Знаменосца? «Солдатик, солдатик, трахни меня!»
Вот я вам воща истрию напишу! Была девушка. Она была очень красивой! Меня, журиллцу любила, милая девочка.
А я оказался мудилой.
И вот прижало меня синей уточкой. Помчался к ней домой и говорю: дай похмелиться хоть сколдил ест. А она, ласточка заспанная в ночнушке – жаль мне А я прошу: дай хоть пять рублей.
И она такая ща! Ущла, оделась И говорит: «Ну побежали, хули?» И мы побежали. А там у нас шоссе.
И я бегу-бегу, вижу бетонный заборчик ….. и я думаю: дай перемахну…. оказался это подземный переход – с самой, блин, верхотуры. Я когда летел, я всё о ней, о девочке думал. Она красивая такая, я и ее все таки любил.
Ну, а потом я ёбнулся с некрасивым хрустом на ступеньки. А там какая-то как раз дамочка выходила, я ее увидел в полете, с сиреневыми волосами, ухоженную — что говорить, мальвина. Ввскочил и как говорю: «Дамочка, я черный плащ». Она со страху описалась.
Дама, а описалась. Потом мы пошли за эшвудом. Но я никак не мог понять Такая замеччательная девочка… До сих пор об этом жале.
.
*ой, немножко*
«Какое самое главное событие в моей жизни?» – «Главное событие вашей жизни у вас впереди!» Как бы плохо мы не относились к этому киношному диалогу, но он смотрит в самую точку. У всех у нас самое главное событие нашей жизни – впереди. Мы все умрём. И Летов вот взял, и умер, и Майк умер, и Ельцин умер, и даже Березовский удавился. За наши отмеренные часы нам надо научиться жить с мыслью, что мы все умрём. Это трудно, но можно. Главное: четко отдавать себе отчет в том, что смерть состоится, но она не страшнее хулиганов у ночного: один попс. Главное, что Христос ведь смерть уже победил, сломал вот эти вот ворота и стоит на них. Так что умирать совсем не страшно. Страшно её ожидать. Мы, пустоголовые люди, боимся не событий, а ожидания их. Мы их ждем-ждем-ждем-ждем, мы всю жизнь чего-то ждем. С самого детства. И наши ожидания рано или поздно, увы, но сбываются. Так будет и со смертью. Она за нами придёт – это несомненно. Зато как мы её встретим! Смерть, как и диавол, гордые, поэтому как любой гордый они боятся шуток над ними. Давайте шутить перед смертью, давайте хотя бы улыбаться: ведь так или иначе, но пришли за нами, и мы уже ничего не можем поделать. Разве что священник рядом. Тогда если успеешь – выговори ему всё, что на душе, стань прозрачным стеклышком, тогда смерти скучно будет тебя забирать. Есть и еще более крутое мнение, я читал у одного старца – хоть убейте, не помню, кто это был, помню: грек, и всё! – если приходят твои последние минуты на земле, вспомни, как ты последний раз причащался: Христос всё равно в тебе и с тобой! Вспомни под колесами автомобиля или под поездом, вспомни: тебя посещал Христос, и Он ещё не ушел, нет! Это тебе только кажется, что Он ушел! А Он тут, в тебе, рядом. В своей колючей жизни я схоронил огромное количество друзей, мой синодик в голове скоро лопнет, по швам треснет: столько друзей и подруг я похоронил. Но о каждом из них я вспоминаю: «О! Так он же/она же – причащались вот тогда-то и тогда-то!» Хех, сука-диавол, попробуй теперь отними у них то, что они приняли своим желанием!.. Вот так я думаю. Смерти я совершенно не боюсь, фиг с ней, я боюсь умереть нераскаянным. Великомученица Варвара – вот к ней надо молиться, чтобы не помереть без покаяния и причастия. Был такой случай во время войны: лежит мужик, солдат, раненый в живот, и ему очень, очень, очень хочется пить. И вдруг видит – какая-то женщина ходит по рядам раненых и каждого из ложечки поит. Мужик как заорёт: «Мне! Мне! Сестра – щас подохну!» А она мимо прошла с чашкой, из которой поила, а ему, обернувшись, сказала: ты беги пока, поссикай во двор, ты ж хочешь! Мужик подхватил брюхо и пошел на улицу ссать. Стоит, ссыт, а тут вдруг – хоба! – и прилетела немецкая бомба. И от церкви, в которой был открыт лазарет, осталась только труха – пальцами перебирать. Мужик тот дописал, штаны застегнул и стоит, глаза трёт… Пошел, вписали его в избу, он рассказал про бабу, которая всех из ложечки поила, а ему старики говорят: «Так это была великомученица Варвара! И храм в честь неё был!»
Так или не так было – не знаю. Но умирать всё-таки не страшно, ребята, и вы не бойтесь! Страшно ожидать вот это, дооооолго ждать. Шло бы оно всё на хер! Умрем, ну и умрем, ну и фиг с ним… С нами Бог! Вот такие меня сегодня мысли мучат.
.
.
*правду вам*
«Любовь сама по себе есть величайшее счастье изо всех доступных человеку, но сама по себе она не наслаждение, не удовольствие, не успокоение, а величайшее из обязательств человека, мобилизующее все его мировые задачи как существа посреди мира. Сама о себе любовь говорит: «Приближающийся ко мне приближается к огню; но тот, кто уходит от меня, не достоин жизни».Перифраз этого таков: я — огонь; приближающийся ко мне должен помнить, что может быть опален; но тот, кто, из страха быть опаленным, отдаляется от меня, утрачивает источник жизни. Это древнеалександрийский текст, когда-то меня особенно поразивший лапидарным выражением величайшей правды о том, чем мы живем и чем жив человек. Истинная радость, и счастье, и смысл бытия для человека только в любви; но она страшна, ибо страшно обязывает, как никакая другая из сил мира, и из трусости пред ее обязательствами, велящими умереть за любимых, люди придумывают себе приличные мотивы, чтоб отойти на покой, а любовь заменяют суррогатами, по возможности не обязывающими ни к чему. Придумываются чудодейственные программы с расчетом на фокус, чтобы как-нибудь само собою далось человечеству то, что по существу достижимо лишь силами любви!» (А. А. Ухтомский, 1928 г.)
Это слова, повторю, нейрофизиолога Алексея Алексеевича Ухтомского (1875—1942). Ну и как мы с вами теперь будем жить, ребята?..
.
*мда*
Кукушка из часов на кухне вылезла, покукукала, что нужно, а обратно не пошла! Ёлки-палки! Я впервые такое вижу! Пришлось мне её руками загонять обратно: и ведь на стул залез, думаю: сейчас упаду, сломаю себе шею нахрен, и так с кукушкою в руках Богу душу и отдам на полу, на линолеуме. Приедут санитары, посмотрят: лежит человек с кукушкою в руках. Вот смеху будет, ой-ёй!
Надо отыскать одного отца-монаха. Срочно и обязательно. Батя очень замечательный, очень! Сколько лет прошло с нашего знакомства, а я его без всякого смущения дико люблю! Умница — таких мало! Без зазнайства, без «шаманской болезни» отец! И зовут: отец Иван. Просто и любому понятно. Отец Иван — человек хрупкого и очень тонкого телосложения: его в меня троих таких можно без ущерба напихать. В очках такой в большущих, с непременной хитрой улыбкой, непременной, ребята! И вот история.
Идет он в келлию к себе как-то, а за ним кто-то увязался (это я со слов пересказываю). Шпана, человек пятеро. «Эй, попяра!» — кричат. Ну, он мне дальше говорит: пошел я во двор, резко завернул, потом еще завернул раз: не отстают. Какая-то, думаю, урла. Ну и пришлось мне их сидеть-ждать-пока-приедут-в-милицию-сдавать… «Да как, батя!? Как же ты?» — «Да, Сашк, я в армии в разведбате служил…». Обожглись разбойнички! Ох я и смеялся с рассказа с этого!
Когда я его увижу, этого отца Ивана, я его обязательно обниму, пусть он даже не рыпается. Он, кстати, очень с моим Ваничкой подружился. Оба ж Вани: оба и сидят, разговаривают о чем-то на скамеечке.
Есть и еще один любимый мой отец: отец Евгений. Это гризли в небольшом подряснике. Не в смысле, что кусается, но в смысле, что с ним вместе кабина лифта не едет: перегруз. Он морпехом две Чеченские отвоевал и дал Богу слово: станет, если выживет, попом. И стал.
А есть (перейду на буковки, чтобы непонятнее было, чтобы интрига была) отец N. Отец N на похоронах моего отца вдруг приехал из монастыря (это было реально далеко) и подарил моей заплаканной маме огромную охапку темных бордовых роз, ограменную! Вот я в самой заднице ада окажусь — всё равно его поминать буду! Ну кому, кроме настоящего монаха, это может прийти в голову? Мама в эти цветы и плакала. Но наступила радость. Вдруг. Вы понимаете, о чем я.
Отец Z. Лютая фигура! Он меня два раза побил мордой об аналой. Прямо брал за волосы и: «Хоба!» — и у меня из носу юшка пошла. Я от него бегал, когда трудничал в одном известном монастыре, как от огня! Если мне говорили, что сегодня в скиту исповедует отец Z., я брал косу и вилы,и шел на сенокос. Сдавал до четырех норм в тракторах с прицепом! Однажды, дурак я, дурак, заглянул в подворье этого монастыря уже у нас тут, в Москве: «Ой! Ёлки-зеленые!..» — только и выдохнул. А там мой батя стоит, и меня кулаком подманивает.
Есть такой отец X., помолитесь о нём, ребята. Ему сейчас очень плохо: он потерял матушку и сына, его хибарку подпалили малолетние идиоты, а потом он напился и его один придурок заснял на видеокамеру, и это попало к благочинному. Его запретили. Он больше 20 лет посещал туберкулезных деток в карантине и деток, облученных после — сами понимаете, после чего. Счетчик от него канкан вытанцовывал. Его всего лекарствами обкололи: с пяток до макушки. А он им говорил: «Я поп, и мне бояться нечего». Имени не говорю: «Богу все Свои известны», просто вздохните.
Отцы есть разные, я могу целую книгу написать, честно-честно! Но к одному выводу я строго пришел своей башкой: попа выбирают как невесту. Если вам, дорогие мои, не нравится его морщинка над бровью, его голос или то, что он одет в розовый подрясник: не ходите к нему! Выберите себе человека «вашей крови», как говорил Маугли! Если он строгий, злой, большой или маленький: выбирайте! Это ваше право! А иначе: вы будете скрежетать на батю зубами, он будет скрежетать на вас зубами, и ничем хорошим это не закончится.
.
*чуть-чуть быта*
Я ехал от ученика, замечательного Филиппа, в автобусе и смотрел в окно. Как только начал дождь, а я это дело очень люблю: в окно в дождь смотреть и куда-нибудь ехать, за моей спиной заорала девица. В телефон: «Да! Да! Целую и обнимаю тебя тоже! Да, да! Еду на УЗИ! Иду сегодня по дороге и чувствую, что со мной что-то не то. Ноги не ватные, нет, а сделались будто деревянные! Да-да! Что-то не то! Вот еду на УЗИ!» Ну, во-первых, деревянные ноги: это очень удобно, потому что они никогда не болят и ничем не пахнут. Ну, то есть, пахнут, но свежесрубленной сосной, например. На таких ногах можно даже сплавляться по рекам Сибири! Ну, это ладно. Во-вторых же, когда девочка доорала первому своему «мальчику» по телефону, ей позвонил второй «мальчик». И весь автобус снова узнал про «УЗИ для девочки». Мне пришлось обернуться и поинтересоваться: УЗИ чего именно, какой именно области УЗИ она собирается делать, просто для расширения кругозора. И вот тут она вдруг застеснялась, смутилась и выключила телефон, отвернувшись от меня к окну. И надув губки. Дай ей и её будущему малышу, Господь, здоровья, но мы-то все люди тоже взрослые, чего уж тут стесняться? Раз орешь как недорезанная свинка, то должна понимать, что и мы, попутчики, не лыком шиты! … В общем, я её поздравил и извинился.
Когда делали первое УЗИ при мне в моей жизни, и я увидел свою дочку на мониторе, которая двумя руками с растопыренными пальцами как бы отталкивалась от экрана, я, честно говоря, эту фотокарточу свистнул. Она потом потерялась куда-то, но я-то её помню!
А когда в консультацию ходили с первой женой, я там на стенку полез: хохотал как веселый мамонт. Там плакат висел. Ну вот представьте: консультация, мамочки сидят рядком на лавке, многие уже с животами, очередь у них, а на противоположной стене, на которую они все дружно смотрят, коротая часы до приема, висит плакат. На плакате изображена счастливая седая старушка, обнимающая молодую улыбающуюся женщину за плечи. Надпись под плакатам такая: «»***» — контрацептив номер один во всем мире! Мне посоветовала его моя мама!..»
И вот все смотрят на это дело на стенку и никому дела нет. Я же полез этот плакат в коллекцию себе снимать, но меня медсестры отогнали. Жаль, тогда не было фотоаппаратов в телефонах. Впрочем, и телефонов-то тогда не было…
.
В конце 80-х годов я лежал в больнице с черепно-мозговой травмой, а больница была «свозная», туда доставляли всех бродяг и ненормальных, преступников и бандитов с улиц Москвы. А я был юный мальчик, ну, амнезия: это даже хорошо! И был у нас в отделении таксист. Он попал на таксомоторной Волге, а раньше все такси были Волгами, в аварию. У Волг одна беда: руль так расположен и такого размера, что при столкновении он перебивает позвоночник чуть выше паха.
И этот таксист, молодой в общем-то дядька, ездил к нам в курилку на коляске и все время, постоянно, непрерывно, вообще всегда лазил к себе в штаны и трогал себя там в тренировочных изнутри. Он ничего не чувствовал после аварии ниже пояса, и это его каждую секунду так удивляло, что он никак не мог в это поверить: «А сейчас?.. — думал он, — А сейчас?.. А сейчас?..» И лез в трусы. Надо ли писать, что жена его сразу же бросила, на первом же посещении. Сволочь.
Мне ему так хотелось что-то хорошее сказать, а что тут скажешь? Ничего не скажешь.
А другой случай: когда мы в прекрасном белом соборе крестили вместе с игуменом S. одну женщину 40-ка лет, олигофрена. По умственному развитию она, ее звали Света, была как пятилетняя девочка. Она, пока не началось таинство, бегала по храму, задувала свечки и смеялась: абсолютно непосредственный ребенок.
Так и всё таинство проходило, до тех пор, пока отец S. не спросил у нее: «Отрицаешься ли ты сатаны?..» — «Отрицаюсь!» — сказала Света и заплакала огромными, как вишня слезами! Она вдруг стала нормальной, взрослой женщиной! И отец-игумен убежал в алтарь, а я смотрел глазами-прожекторами на эту нормальную взрослую женщину и не мог проморгаться. А потом — хлоп! — и она снова стала пятилетней девочкой.
Вот такие дела со мной происходили, такие дела.
.
Ночью не спалось, и я время от времени смотрел в окно. Там происходила трагедия: подвыпивший чувачок пытался зайти в подъезд, но подъезд этого не хотел. Чувачок колотил в бронированную железную дверь ногами и руками. И протяжно грустно орал. И я его прекрасно понимаю. Он жал на кнопочки, орал в домофон и снова пинал дверь ногами, руками и грязно ругался. Он стучался в окна первого этажа, но никто не вышел его впустить. Горе его не знало границ, а мне было горько на душе.
И это дело продолжалось где-то три или три с половиной часа: с часу до половины пятого. Потом сердце мое не выдержало, я открыл окно и крикнул ему через деревья и улицу: «Мужик! Ты подъезд-то не перепутал?» Он поднял голову, посмотрел на табличку с номером, крикнул мне: «А-а-а! Спасибо, брат!», делано поклонился и пошел в следующий, уже свой подъезд.
В итоге я почти не спал: так я переживал о судьбе человека. Слава Богу, что обстоятельства сложились такие, что мне сегодня не идти, не читать лекцию по Догматике, а то я начитал бы там!
Однажды маленьким мальчиком я ехал один, без взрослых, на поезде Воркута-Москва к 1-му сентября к школе и перепутал свое купе. Ломился в дверь я очень долго и упорно: думал, что пока я ходил в туалет, она захлопнулась, а у меня просто сил не хватает, и если ее посильнее дёрнуть — она обязательно откроется. В конце концов ее открыли с той стороны взъерошенные и запыхавшиеся дяденька с тетенькой со слезящимися выпученными глазами. Они ненормативно рассказали мне, что мое купе — следующее, и я, глубоко задумавшись, ушел к себе.
Так что всякое бывает!
Вот Ваничка мой, когда еще маленький был, в садик ходил, однажды шел со мной, что-то рассказывал оживленно, потом не глядя взял за руку какого-то чувачиллу, который меня только обогнал и пошел с ним, дальше свирища как птичка. Чувачилла был так удивлен, что не отпрянул, а продолжал движение уже с моим сыном за руку. Пришлось мне крикнуть: «Ау, оба!..» И только тогда они застыли как вкопанные, и этот дядька вернул мне руку сына.
Люди ошибаются, главное не тушеваться и видеть во всем веселость. Вот как отец Павел (Груздев), — да вы читали наверняка, ребята! — идет как-то в ссылке в Казахстане воскресным днем в храм на службу, и вдруг видит: в кустах из его конторы женщина и мужчина знакомые «уединились». Они тоже его увидали, засмущались сразу, а он кричит: «Да ничего, ничего, ребята! Я тоже вот иду…» И руками известный всем взрослым знак показал.
Такие дела. Всё будет хорошо!
.
Ночью не спалось, и я время от времени смотрел в окно. Там происходила трагедия: подвыпивший чувачок пытался зайти в подъезд, но подъезд этого не хотел. Чувачок колотил в бронированную железную дверь ногами и руками. И протяжно грустно орал. И я его прекрасно понимаю. Он жал на кнопочки, орал в домофон и снова пинал дверь ногами, руками и грязно ругался. Он стучался в окна первого этажа, но никто не вышел его впустить. Горе его не знало границ, а мне было горько на душе.
И это дело продолжалось где-то три или три с половиной часа: с часу до половины пятого. Потом сердце мое не выдержало, я открыл окно и крикнул ему через деревья и улицу: «Мужик! Ты подъезд-то не перепутал?» Он поднял голову, посмотрел на табличку с номером, крикнул мне: «А-а-а! Спасибо, брат!», делано поклонился и пошел в следующий, уже свой подъезд.
В итоге я почти не спал: так я переживал о судьбе человека. Слава Богу, что обстоятельства сложились такие, что мне сегодня не идти, не читать лекцию по Догматике, а то я начитал бы там!
Однажды маленьким мальчиком я ехал один, без взрослых, на поезде Воркута-Москва к 1-му сентября к школе и перепутал свое купе. Ломился в дверь я очень долго и упорно: думал, что пока я ходил в туалет, она захлопнулась, а у меня просто сил не хватает, и если ее посильнее дёрнуть — она обязательно откроется. В конце концов ее открыли с той стороны взъерошенные и запыхавшиеся дяденька с тетенькой со слезящимися выпученными глазами. Они ненормативно рассказали мне, что мое купе — следующее, и я, глубоко задумавшись, ушел к себе.
Так что всякое бывает!
Вот Ваничка мой, когда еще маленький был, в садик ходил, однажды шел со мной, что-то рассказывал оживленно, потом не глядя взял за руку какого-то чувачиллу, который меня только обогнал и пошел с ним, дальше свирища как птичка. Чувачилла был так удивлен, что не отпрянул, а продолжал движение уже с моим сыном за руку. Пришлось мне крикнуть: «Ау, оба!..» И только тогда они застыли как вкопанные, и этот дядька вернул мне руку сына.
Люди ошибаются, главное не тушеваться и видеть во всем веселость. Вот как отец Павел (Груздев), — да вы читали наверняка, ребята! — идет как-то в ссылке в Казахстане воскресным днем в храм на службу, и вдруг видит: в кустах из его конторы женщина и мужчина знакомые «уединились». Они тоже его увидали, засмущались сразу, а он кричит: «Да ничего, ничего, ребята! Я тоже вот иду…» И руками известный всем взрослым знак показал.
Такие дела. Всё будет хорошо!