Наум Коржавин — СКВОЗЬ СОБЛАЗНЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
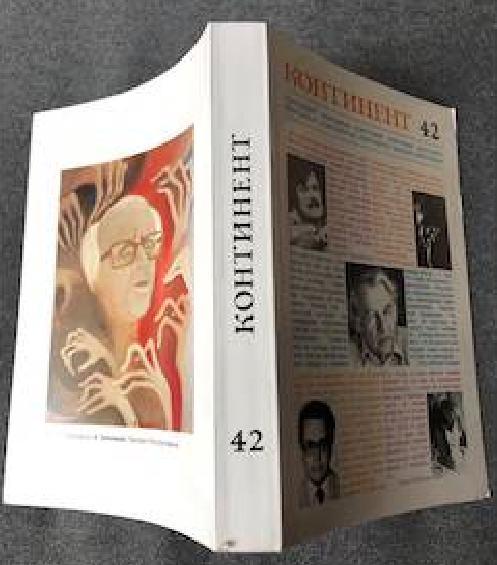
Невозможно говорить о судьбе и поэзии Александра Сопровского, как и о судьбах и поэзии его сверстников, нынешних тридцатилетних, не затронув широкий спектр воздействий тоталитаризма на искусство. Это не так просто. Ибо тоталитаризм воздействует на искусство не только прямо, что очевидно, но и косвенно, что уже не так очевидно. Косвенные последствия — это соблазны, порожденные давлением власти и закрытостью общества. Соблазны эти опять-таки далеко не всегда направлены к оправданию сервилизма и конформизма (таких соблазнов тоже сколько угодно, но речь сейчас не об этом), накладывают они свой отпечаток иногда и на тех, кто так или иначе противопоставляет себя существующему давлению. Но и во втором случае это связано с упрощенным решением ложной, почти неразрешимой духовной ситуации, с построением упрощенной системы ценностных координат для ориентировки. Хотя выглядят эти построения чаще очень сложно и изысканно — в том и соблазн. Это далеко не всегда вина, иногда — только беда, ибо время почти не оставляет другой возможности, жизнь и все ее ценности «не даются», расплываются под руками, воспринимаются как выхолощенная абстракция. И не удивительно, что хочется схватиться за что угодно — лишь бы увидеть в своей жизни и в своем творчестве хоть какую-нибудь ценность и смысл. Легко, например, исходя из того, что искусство связано с вечностью, забыть, что эта вечность может быть увидена только в современности, и начать многозначительно выдавать эту «вечность» километрами, игнорируя эту необходимость увидеть, игнорируя в сущности сам акт творчества. Можно, наоборот, исходя из того, что искусство невозможно без непосредственности, ограничиваться культивированием сиюминутных ощущений самих по себе (а не только в тех случаях, когда через них выражается нечто менее случайное, нечто большее, чем скрыто в сюжете, — откровение поэзии). А раз так, то можно заниматься чем угодно — даже упоенным (а потому и не трагическим) самооплевыванием, смакованием низости и безысходности жизни: противно, но зато, правда, и самовыражение своей неповторимой личности налицо… Сущность ошибки проста. Усвоили, что личность ценна и неповторима сама по себе, что ее самовыражение есть основа творческого процесса, но упустили, что сам факт рождения и наличия физиологических отправлений еще не возводит каждое человеческое существо в ранг личности, тем более личности творческой, поэтической. Соблазны эти действуют не только непосредственно на авторов, но и опосредованно на часть читателей — тоже стремящихся причаститься к высокому без особых усилий, так сказать, получить Царствие Небесное за сходную цену. В том-то и вред соблазна, что он дает иллюзию духовной победы, когда ее нет, и заслоняет подлинные, но труднодоступные вершины, к которым следует стремиться, что он, по существу, лишает человека подлинных духовных достижений и переживаний всего, что может дать ему искусство. Вкус — вовсе не такая случайная и безобидная вещь, как многим кажется, это выражение сущности человека, его представления о жизни и ее ценностях. Или подмена всего этого. Ложный вкус — ложная жизненная ориентация. Разумеется, во все времена встречаются люди, предпочитающие хождение на котурнах и возвышающиеся от него даже в собственных глазах. Ибо их задача — не преодолеть ограниченность времени или бытия вообще, а придать многозначительность и респектабельность своей собственной, прежде всего, душевной, ограниченности. Но в поколении, к которому принадлежит Александр Сопровский, этим соблазнялись и люди, способные на большее. Просто потому, что время, когда они формировались, почти не оставляло им иных выходов. Теперь я говорю «почти», а еще недавно вполне обходился без этого уточнения — ибо в возможности молодых поколений (конечно, в исторические, а не в природные) вообще не верил, считал, что им не на чем формироваться. И думал так я уже довольно давно. Даже столь обрадовавшее меня появление в поэзии Олега Чухонцева и Александра Кушнера уже было для меня неожиданностью. Но это не поколебало моей печальной уверенности — просто оказалось, что смена поколений произошла чуть позже, чем я поначалу предполагал. То, что мне потом приходилось читать (безразлично, в «Днях поэзии» или эмигрантских изданиях), только подтверждало в моих глазах мою правоту. Так называемая «вторая культура» воспринималась и воспринимается мной как «вторичная», подражательная — пусть часто ее авторы подражают не техническим приемам, а побудительным импульсам, представлению о художестве и художнике: подражание ведь плохо не тем, что угадывается оригинал, а отсутствием подлинности. Короче — ничего другого, кроме этой «второй культуры», я от молодого поколения и не ждал. И ошибся. Знакомство мое с творчеством Александра Сопровского и некоторых его сверстников (Бахыта Кенжеева, Вероники Долиной* и др.) и заставило меня ввести в свои рассуждения это «почти».
* Вероника Долина-автор и исполнитель лирических песен. Она,
по-видимому, почти не публикуется, но много выступает и как будто
нисколько не запрещена. Этим я опять хочу напомнить, что суть не в запрещенности.
Русская культура оказалась даже еще более живуча, чем я предполагал. А преодолеть этим молодым людям пришлось многое — всю толщу безвременья. Подумать только, в 1968 году, когда наши танки вторглись в Чехословакию, когда для старших поколений практически было все кончено, Саше Сопровскому только минуло шестнадцать. Для него и его сверстников все только начиналось. Здесь трудно и не совсем уместно говорить о том, что именно наполняло в разные периоды жизнь старших. Пришлось бы начинать с оцепенения сталинщины, а потом подробно рассказывать, как постепенно легализованная вера в «подлинный» и «идейный» коммунизм столь же постепенно уступала в наших сердцах место осознанию иных, неотрывных ценностей, как постепенно становилось ясно, что преступной была не только сталинщина, хотя с ее уникальностью в этом смысле спорить не приходится, но и сама большевистская революция, романтика которой нам — иногда осознанно, иногда нет — противопоставлялась в течение многих лет господству сталинской бессмыслицы и была единственным
духовным достоянием нескольких поколений. Более того, оказывалось, что ее воплощение — «подлинные коммунисты» — ответственны не только за свои собственные невероятные непотребства, но и за воцарение Сталина, навязанного народу именно ими — как в процессе внутрипартийной борьбы, так и в страхе потерять единство своей заговорщицкой террористической партии. То, что это единство потом повернулось против них же самих, подменив и уничтожив их, — ничего не меняет. Это было только просчетом в преступных расчетах, причем таким просчетом, за который расплатились (да и расплачиваются до сих пор) не они одни. Все эти откровения сопровождались надеждами, что Россия постепенно становится «нормально-плохим» государством, озабоченным собственным существованием. В связи с этим на первый план выходили вечные проблемы бытия, духовного наполнения и оправдания жизни человека и общества. Судьба страны, даже судьба и история революции не переставали из-за этого интересовать и волновать нас, не теряли для нас своего значения, но воспринимались и рассматривались в ином освещении — с точки зрения интересов самой жизни, ее богатства и ценности, а не с точки зрения соответствия интересам мифической конечной цели. Я и теперь считаю такое отношение единственно верным и плодотворным для литературы и для культуры вообще. Но все это сопровождалось и оправдывалось надеждами на нормализацию жизни, на ее нормальную трагичность. Собственно, в таком отношении не было ничего особо оригинального, это было подтверждением банальных, не нами открытых истин. Но истин, поставленных под сомнение, а то и как бы вовсе отброшенных не только властью, но и изнасилованным общественным сознанием. Содержанием нашей жизни были не столько сами эти мысли, сколько путь к ним, пафос их восстановления из развалин, по-новому открытое и потому обостренное чувство их необходимости и притягательности. В сущности — это вечное содержание, вечный сюжет искусства — открытие этих вечных банальных истин, выход к ним из каждый раз других исторических обстоятельств, мешающих их постижению. Наше время отличается только тем, что на пути к их постижению возникают помехи, не только создаваемые самой стихией жизни, но и централизованно насаждаемые властью. И если был в нашей жизни период, когда казалось, что эти дополнительные помехи скоро начнут исчезать, то 21 августа 1968 года он кончился, и все связанные с ним расчеты оказались построенными на песке. И как не посочувствовать тем, кто только начинал тогда жить, мыслить и чувствовать… Тем, у кого были надежды, а потом исчезли, было все же легче. Крушение надежд еще отнюдь не означало, что все, открывшееся им в связи с этими надеждами, — т. е. значение неотрывных ценностей и иллюзорность «конечной цели» — потеряло смысл. Более того, для тех, кому он открылся, он мог оставаться мощнейшим творческим импульсом и в эпоху безвременья — успехи «деревенской прозы» говорят об этом достаточно ясно, а это не единственное, что продолжало жить в подцензурной литературе. Речь ведь не о возможности печататься, а о возможности писать. Это не всегда совпадает. В сталинские времена возможности печататься почти не было, но, как известно, большие поэты и прозаики: Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Платонов — продолжали писать, а кроме того начинали всерьез писать и более молодые авторы — хотя далеко не все их имена и произведения дошли до нас. Времена были страшные, но ощущение важности жизни и важности творчества не проходило. И какими-то незримыми нитями оба эти ощущения были связаны между собой — при любых политических взглядах, любой стадии развития общественного самосознания после Сталина, любом отношении к происходящему.
После 21 августа 1968 года (а этой датой только завершился процесс дискредитации надежд на нормальную жизнь) серьезное отношение к жизни — особенно для молодого поколения — стало выглядеть анахронизмом. Молодые люди уже всё знали. Знали, что коммунизм — фикция, что ценности незыблемы, что возможности жизни ограничены. Последнее даже породило целое направление в поэзии, радостно и гордо проникнутое духом смирения. Смирение — высокое и мудрое отношение к бытию, и я ничего против него не имею. Более того, я сам стоял у истоков современного увлечения им и нисколько об этом не жалею. Но, как справедливо отметила в сатирическом стихотворении, опубликованном в «Литгазете», Новелла Матвеева, в поэзии тема смирения интересна только тогда, когда автору есть что в себе смирять и когда то, что он смиряет в себе, достаточно значительно. Тогда стихи, исполненные смирения, напряжены и драматичны, волнующи. Но авторы, высмеянные Новеллой Матвеевой — а таких много не только в «конформистской» (т. е. опубликованной в СССР) литературе, — этот этап пропустили, прямо начали с умудренности. Конечно, они верно понимали, что без ценностей нет искусства, а смирение — ценность. Но одного сознания, что ценности для искусства необходимы, — мало. Произведение искусства только тогда живо, эти ценности только тогда в нем существуют (т. е. воспринимаются остро и непосредственно), когда они в процессе творчества (в том он и состоит) добыты из жизни, отвоеваны у энтропии, у хаоса, у небытия. Как ни крути, а творчество — даже по форме самое шутливое — требует от художника серьезного отношения к жизни, своей и общей, заинтересованности в ней. А это в свою очередь требует хотя бы минимальной веры в свою способность хоть как-то повлиять на ее ход, веры в оправданность своего интереса к ней. Я был уверен, что жизнь не дает ни малейшего основания для такого самоощущения. Тоталитарная власть — это ведь не просто власть — это порядок вещей, имитация жизни. К тому времени, когда новое поколение подросло, этот порядок вещей был полностью дискредитирован. Это понимала вся мыслящая часть общества и ощущали вообще все. Между тем, этот порядок вещей продолжал господствовать, требовать верности и поклонения, возводил это в естественную обязанность, требовал ежедневно хотя бы делать вид, что для тебя это так, — короче, хватал за горло, как мертвый живого. Что оставалось делать? Доказывать, что советская власть никуда не годится? Но кроме того, что это было опасно, это еще означало ломиться в открытую дверь: все это было уже к тому времени передумано, пережито и даже высказано, и вправду превратилось в банальность. Но существовать и держать за горло от этого не перестало. А жить-то ведь чем-то надо. Как тут не ухватиться за те соблазны, как не начать во имя «обобщения» просто игнорировать непреодолимую ситуацию, не начать кокетничать цинизмом, не заняться бессмысленным самовыражением? Я был убежден, что других выходов для этого поколения (я не говорю о политическом диссидентстве) — просто нет. Оказалось- есть.
II
Александр Сопровский обратил на себя мое внимание еще первыми своими стихами, напечатанными в общей с его друзьями подборке «Континента». Правда, внимание неуверенное — стихи могли быть и случайной удачей. Но его статья «Конец прекрасной эпохи» («Континент» №32), а затем уже и большой цикл стихов («Континент» №33) ясно показывали, что удачи эти не случайны, что за всеми удачами и неудачами стоит напряженная и богатая внутренняя жизнь, внутренняя работа, очень серьезная и ответственная, — настоящая. И что поэтому его отношение к поэзии лишено каких бы то ни было следов гениальничанья, еще недавно столь распространенного в «молодой» литературе. Статья эта — яркое тому свидетельство. Она не оставляет сомнения в том, что А. Сопровскому свойственно не только стихийное проявление вкуса (что отнюдь не малость), но и осмысленное понимание его сути. Он этим как бы тоже вырывается из безвременья, противостоит расплывчатости, необязательности и неопределенности его «стиля». Но все же следы кружковости, кружковая логика и амбиции, нет-нет, а дают себя почувствовать в этой статье. Я хочу, чтоб он быстрей от этого освободился, но не сужу его за это. Долгое существование в кружках не может не иметь последствий, но в наши дни это существование в кружках — не вина, а беда. В эти кружки (дружеские, творческие, но никак не политические, как хотелось бы жаждущим деятельности следопытам из ГБ) молодых людей (и отнюдь не из худших) загоняло время. Собственно, такие кружки творческой молодежи возникают всегда, ибо на первых порах творческая молодежь часто нуждается в тесном общении. Отличие современных кружков от обычных только в какой-то их безысходной долговечности — из них не было выхода в литературу. И не только потому, что у каждого из этих молодых людей, вероятно, есть стихи, выходящие за грань допущенного (такие произведения часто есть и у тех, кто в фаворе у властей), а и просто из-за коррупции. «Маститые», сидящие в редсоветах издательств и редколлегиях журналов, руководствуясь нехитрым принципом: «ты меня, а я тебя», печатают только друг друга, благо в СССР заработок писателя зависит от факта издания и от его тиража, а никак не от того, насколько его книгу покупают и читают отдельные граждане. Ясно, что молодые писатели в эту «систему» трудно вписываются и что она тоже порождает у них невеселые мысли и в свою очередь тоже выталкивает их куда-то в сторону — опять-таки в «свой круг». Разумеется, я говорю о писателях, т. е. о людях, мечтающих что-то сделать в литературе, а не просто желающих печататься любой ценой и видящих в этом свое назначение. Но чем бы ни объяснялась эта кружковость, как бы она ни была оправдана, воздействие ее на развитие культуры не может быть только положительным. Она создает кружковую логику, постепенно и кружковую систему ценностей. Самодовольство «кружковых гениев» тоже связано с ней. Вне обмена с жизнью, почему же не быть гением? Тем более, что ты такой хороший и чистый: отвернулся от всякого «официоза» и работаешь лифтером. К тому же и силами не надо ни с кем меряться — в лифте-то. Кроме того, отворачиваясь от «официоза», молодые люди часто отворачиваются вообще от старших, ибо те «не свои», а значит, и от их опыта — иногда ценного, в целом или в части, — от их судьбы: надежд, заблуждений и поражений, от истории… Эта повышенная прокурорская требовательность к другим приводит к снижению требовательности в «своем кругу»: все равно лучше «официоза»… Печать таких представлений и привычек лежит и на статье А. Сопровского, хотя в принципе она, главным образом, против них и направлена. Поэтому она и производит на меня странное впечатление: соглашаясь с ней в целом, я не согласен ни с одним ее определением, ни с одной констатацией. Даже то главное, против чего выступает автор, я не назвал бы, как он, ни иронией, ни паниронией. В иронии всегда есть и некое «положительное начало», она похожа на обманувшуюся любовь и ничего не имеет общего с тем разливанным морем самоупоенного нигилизма, против которого выступает автор и которому по природе дарования, судя по стихам, был чужд всегда. Хоть, может быть, не всегда это так ясно сознавал. Теперь, видимо, накипело. И как бы он ни определял и констатировал, предмет его атаки ощущается весьма ясно, и этой атаке нельзя не сочувствовать. Вообще, в этой статье он во многом идет против «своих». Например, против рассудочной аполитичности, иначе говоря, против игнорирования того, как живется и дышится. Нет, он отнюдь не становится от этого «политиком». Как не были «политиками» Ахматова, Мандельштам и Пастернак, в поэзии которых Александр Сопровский тоже, и вполне справедливо, находит элементы гражданственности. Но отнюдь не той, что мыслит себя важней поэзии. Некрасовские слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — неточны и опрометчивы, поскольку обращены к поэту. А так — безусловно, не все люди обязаны быть поэтами, а гражданами — хотя бы теоретически — все. Но если ты не поэт, то и не надо говорить о тебе в связи с поэзией — только и всего. Но слова эти обращены именно к поэту. Однако А. Сопровский говорит о другой гражданственности — о той, без которой в наше время не смогли обойтись даже Мандельштам и Ахматова, о той гражданственности, без которой невозможно быть никаким, даже самым «лирическим» поэтом. Он не произносит скомпрометированного — особенно в его кругу — слова «гражданственность», но говорит именно о ней. И это очень симптоматично и даже радостно. И то, что он чувствует, плохо укладывается в язык неизжитых им еще, по-видимому, кружковых представлений. Это бунт против кружковой логики, но на ее языке. А иначе — не было бы, как я думаю, никакой необходимости строить эту статью на полемике с М. М. Бахтиным. Вовсе не на Бахтина опирается то, что автору не нравится в «нонконформистской» литературе, даже если кто и прячется за его формулами. И вовсе не так уж анахронично понятие «просто писатель», защищаемое Бахтиным, вовсе не следует отдавать его в полновластное владение имитаторам. Каждый хороший и живой писатель — прежде всего «просто писатель». Конечно, сегодня отношение «просто писателя» и к жизни, и к творчеству несколько иное, чем во времена Толстого. И А. Сопровский прав, когда пишет: «Можно было бы — с чисто культурной точки зрения — счесть эти обстоятельства (речь идет о тотальном давлении. — Н. К.) внешними, но степень этих невзгод такова, — и в этом суть дела, — что они не только пронизывают собой во всех направлениях современный быт, но — в этом заключается принципиальная особенность — посягают на самое душу. И не только твою, а и твоих близких, друзей, единомышленников. Поэтому «отвлечься» от этих обстоятельств означало бы отвлечься от собственной совести». Это абсолютно верно. Но откуда следует, что «просто писатель» должен от всего этого отвлекаться — особенно в таких обстоятельствах? Ведь «отвлечься» в данных обстоятельствах — значило отвлечься не только от совести (кстати, к совести апеллировали и прагматисты шестидесятых годов прошлого века, отрицая, в сущности, искусство), но и вообще от собственного восприятия, от собственной реальности, от себя самого, от всего, без чего просто не будет упомянутого «просто писательства». Ведь спокон веку для того, чтобы быть «просто писателем», надо было быть причастным к чему-то высокому и всеобщему, к красоте, к гармонии, к мировому духу — как хочешь, так и называй. Отсюда и все его внутренние коллизии — коллизии этой причастности в реальной жизни. Творчество — это, конечно, самоутверждение, но самоутверждение не особи, а личности*, человеческого духа.
* Это точное противопоставление терминов «личность» и «особь» взято мной из статьи А. Назарова «Национальное возрождение — насущная необходимость» («Вестник Р.Х.Д.» №135), точной далеко не во всем.
По-видимому, А. Сопровский и сам понимает это: «Это (т. е. то, о чем говорится в предыдущей цитате. — Н. К.) не может не сказаться на внутренних особенностях творчества. Оно с неизбежностью окрашивается в тона бушующих вокруг невзгод. Можно и нужно силою духа отталкиваться от этих условий, но ведь и сама сила духа — она проявляется в этих условиях, по контрасту сними, вопреки им». Все правильно, но ведь это и есть задача «просто писателя» — оставаться самим собой среди всего этого, помнить и проносить свое вопреки всему этому, воспринимая, противостоя, не растворяясь. То, чего требует А. Сопровский, — это и есть «просто литература», но «просто литература» очень непростой эпохи. Мне очень симпатичны поиски и направленность А. Сопровского, его стремление противостоять обстоятельствам самой поэзией, понимание, что иных путей у поэзии нет. Но, приписав все, что он не любит, «просто писательству», он заходит в своей полемике слишком далеко, куда вряд ли хочет зайти: «С интимностью, немыслимой для „просто писателя“, обращается к своей нищенке-подруге Мандельштам:
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин…
Эти стихи невозможно почувствовать с точки зрения «просто литературы», нельзя понять как «текст». Разве в тексте не резанет поначалу дурацкая рифма «посидим-керосин», а под конец не раздражит инфантильной сентиментальностью пожелание «…уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал»?». Не знаю, что подразумевает А. Сопровский под ученым словом «текст». Рассматривают стихотворения (или что угодно) как тексты только различные лингвистические школы. Насколько мне известно, тексты ими не «чувствуются», не «воспринимаются», а только «изучаются». И изучаться в качестве «текста» может что угодно без различия смысла и качества. И независимо от принадлежности к «просто литературе» или какой-либо иной. Понадобится ли им для изучения это стихотворение Мандельштама — это их дело. Мы же можем говорить только о стихотворении, об одном из самых лучших и живых стихотворений в русской поэзии. Вполне возможно, что вне стихотворения рифма «посидим-керосин» может показаться дурацкой, а желание затеряться на вокзале — инфантильным. Просто потому, что стихотворение — организм, все элементы которого органически дополняют и освещают друг друга. Но в полемике с «просто писательством» А. Сопровский забывает об этом. И оказывается, что вообще, если воспринять это стихотворение как произведение «просто литературы», то — «Замкнутая на себя в тексте интонация этих стихов умрет; она строится в расчете на активное сопереживание слушателя, на «узнавание» общей атмосферы — жутко-тревожной атмосферы, охватившей всю страну и сплотившей подспудно лучшую часть ее народа». Я думаю, что А. Сопровский ошибается. Ведь если интонация какого-либо стихотворения прямо или подспудно рассчитана на «узнавание» особых обстоятельств, которые ее породили, то, следовательно, вне этих обстоятельств она не может ни восприниматься, ни вообще существовать. Практически это означает, что чувство, лежащее в основе этого стихотворения, — не воплощено, т. е. задача художника не выполнена. Если стихотворение перестало существовать спустя срок, значит, оно было недоброкачественным с самого начала, а держалось на допингах, таких, как «узнавание» и «сопереживание» (под сопереживанием здесь, по-видимому, понимается сходный опыт, ибо в обычном смысле оно не условие, а результат понимания произведения). Думаю, что подлинное произведение, наоборот, воскрешая высокую духовную коллизию, в значительной степени воскрешает и коллизию душевную, а через нее и обстоятельства, с которыми она органически связана. Но несогласие с теоретическими взглядами автора в данном случае не уменьшает симпатии к тому, чем он озабочен. В том, чем он озабочен, А. Сопровский — прав. Игнорировать современность нелепо, ибо вечность без нее — фикция, а всякая попытка пробиться через современность к вечности — даже если по историческим или личным обстоятельствам это не вполне удается — работа. Что-то она, наверно, дает и современникам (в стремлении к вершине есть уже хотя бы напоминание об ее существовании, т. е. что-то от поэзии, хоть и не настоящая ее победа), но, кроме того, это путь, по которому более удачно потом пройдут другие. В сущности, А. Сопровский защищает подлинность против профанации. Хоть, делая это, старается не отрываться от кружковых представлений. Жаль. Эти представления и комплексы проявились в статье и в том разоблачительном пафосе, с которым он говорит о военном и послевоенном поколениях русской поэзии, в навязчивом стремлении доказать, что они ни в коем случае не дали «бронзового века», как многие полагают. Эта проблема меня не интересует: людей, претендующих на это, я среди своих сверстников не встречал, самому мне тоже не до того — я ведь и от серебряного века не в восторге, на что мне еще и бронзовый. Но думаю, что путь, пройденный моим поколением, требует иного отношения. И уж никак не следует его помещать в узкое пространство между «громким» Евтушенко и «тихим» Куняевым. Ибо именно это поколение проделало обратный путь от прострации сталинщины через восстанавливаемую с трудом большевистскую идейность к нормальным ценностям, к той внутренней свободе, с высоты которой и судит его сегодня столь размашисто А. Сопровский. Я не спорю, сохранять эту свободу в сегодняшних условиях совсем не просто и часто неуютно, но прежде, чем ее сохранять, надо было ее обрести. Ибо она — особенно в наших условиях — не нечто само собой разумеющееся. И вовсе перед нами не стоял простой выбор
между добром и злом, как сейчас, и мы вовсе не выбирали сознательно зло или сервилизм. И даже желание самим стать официозом, о котором столь разоблачительно упоминает автор статьи, — часто вовсе не было сервилизмом, а только одним из наивных заблуждений, на пути если не к истине, то хотя бы к освобождению. И над концом «прекрасной эпохи» не стоит так уж иронизировать. Действительно, был период, когда казалось, что жизнь нормализуется и выходят на авансцену обыкновенные, «вечные» проблемы бытия — по ошибке приоткрылось окошко в вечность, и она вдруг стала осязаемой, реальной. Потом оказалось, что было не до вечности, что душные, хоть и сиюминутные ветры современности быстро захлопнули окошко, мутными тучами заслонили вечность. Но все же то, что мы увидели, осталось с нами и как-то перешло к новым поколениям, которым — к слову сказать — именно из-за этого почти неуместного знания не всегда уютно на этой земле. Но тут уж ничего не поделаешь. Разумеется, я опять таки говорю не о сервилистах — среди нас их тоже было пруд пруди, — не о тех, для кого литература была только способом богатой и светской жизни (в СССР писатели и впрямь нечто вроде сословия), а о тех, кто хотел что-то в ней сделать. Разумеется, ни одно поколение не может решить все вопросы, которые встанут перед следующим, но все же кое-что из сделанного нами новым поколением усвоено, хотя и воспринимается им как нечто, само собой разумеющееся. Между тем, отвоевать эти простые истины у дьявола было ох как непросто. И самое нелепое — это обвинять какое-либо поколение в том, что оно не начало с того, к чему оно пришло в конце и с чего следующее начало. Конечно, не всегда хватало самостоятельности (вся мощь несегодняшней, более молодой тоталитарности старалась не допустить ее), конечно, путались в трех соснах, но,- как мы видим, и свобода мысли не освобождает от этого. Люди, готовые легко свой родной конформизм обменять на чужой, западный, воспринимая кризисные явления как достижения духа, — явное тому доказательство. А их — немало. Тем и ценна статья А. Сопровского, что выступает против «своего», «нонконформистского» конформизма — за возврат к живому восприятию современности, к живому «требованию от бытия смысла и красоты» — короче, к живому творчеству.
III
Впрочем, знакомство с его стихами убеждает в том, что сам он от этого живого творчества не уходил никогда — во всяком случае, очень давно, во все периоды, доступные нашему наблюдению. Но это отнюдь не значит, что весь его путь состоит из удач. И дело совсем не в том, что ничей путь в литературе и в жизни не бывает отмечен одними удачами — речь идет о неудачах не случайных, а обусловленных ситуацией. И не о частностях исполнения. Хотя и тогда бывает, что в хорошем и точном стихотворении вдруг встречается абсолютно не соответствующее его уровню неточное, размашисто-«поэтичное» слово. А такое встречается. Вот, например, первое четверостишие одного хорошего стихотворения:
Душа, отстойник боли,
С похмелья поутру брезглива и строга.
Теперь не до зимы. Знать не по доброй воле
Застали нас врасплох ноябрьские снега.
О чьей «доброй воле» идет речь — о «нашей» (т. е ., автора и его друзей) или снегов? По «нашей» застать нас же врасплох физически невозможно, а насчет воли снегов тоже все выглядит странно. По точному смыслу снега застали нас врасплох недобровольно — вроде хотели предупредить о себе, да не смогли. Я не иронизирую над «волей снегов» — в лирических стихах она вполне возможна. Но в четверостишии и намека нет на внутреннюю драму снегов. Это «нам» не до зимы, а не им. Конечно, можно как-то догадаться, что речь идет здесь вообще не о чьей-либо добровольности, а просто о некой воле, недоброй по отношению к «нам». Но поскольку смысл устойчивого словосочетания «по доброй воле» здесь почему-то игнорируется, сила «удара» ослабляется, точное движение стихотворения разбивается, оно расплывается, по-пустому озадачивает. А ведь так легко было поправить. Для примера хотя бы так — заменив утверждение вопросом: «По чьей недоброй воле / Застали нас врасплох ноябрьские снега?» — (конечно, я здесь не даю советов, а просто пытаюсь точней определить характер неточности). Впрочем, неточное словоупотребление не соответствует характеру дарования и творчества А. Сопровского. Неточности у него потому так и выбиваются из строя, что этот строй существует. Но они вполне соответствуют духу безвременья, тому расплывчатому и необязательному самоощущению и самосознанию, которые с этим безвременьем связаны. Такая «поэтика» встречается, конечно, и в другие времена, но только в эпохи безвременья она начинает занимать господствующее положение. Такие огрехи говорят не столько о поэте Сопровском (о нем речь впереди), сколько об обстановке, в которой он живет. Неужто не нашлось никого, кто счел бы нужным сделать это бесспорное замечание? Ведь этот огрех так легко устраним. И ведь касается это замечание не основ творчества, а только того, что А. Т. Твардовский называл «малыми секретами мастерства». Могли б это замечание сделать и старшие — в Москве достаточно опытных литераторов, способных на это, — но, видимо, А. Сопровский и его друзья начисто игнорируют их как «официоз». И ровесники не сделали — не до того им, видно, было. Но все это больше относится к условиям жизни А. Сопровского, чем к его творчеству. Неудачи А. Сопровского, о которых шла речь раньше (и о которых стоит говорить только для того, чтоб лучше понять его путь к удачам, верней к победам), связаны отнюдь не с «малыми секретами» — с ними, несмотря на некоторую недисциплинированность, у молодого поколения как раз все в порядке, — а с более серьезными причинами. И дело тут не в огрехах, а во внутренней незавершенности. Не в том, что возникающая интонация пропадает, а в том, что она провисает из-за того, что ей нет надлежащего эмоционального обеспечения. И не потому вовсе, что автору недостает таланта или личности, что в стихах «нет чувства», а потому что эти чувства не обретают крылатости (символисты говорили: «полетности») по, как говорят марксисты, «объективным условиям». В том и состоит заслуга А. Сопровского (как и некоторых его ровесников), что он эти условия преодолевает. Но это очень трудно — погрузиться в духоту современности и все-таки выплыть к вечному небу. Гораздо проще (и «поэтичней») парить под этим небом, ни во что не погружаясь — незаметно и красиво минуя самый процесс творчества. Или, наоборот, — вовсе не вырываться из этой духоты, а гнить в ней, тыча всем в нос соответствующие ароматы, как доказательство собственной смелости и правдивости. Конечно, и эти дороги не ведут в СССР к внешнему успеху (особенно вторая), но к некоторому, обманному самоудовлетворению они все же ведут. Тем более, что по слухам (в общем, ложным) на передовом и свободном Западе такое искусство в чести. И то, что такие, как А. Сопровский, выбрали другой путь, меня очень радует. Конечно, не поэты выбирают пути, а пути — поэтов. Но поэты в иные эпохи могут и не распознать своих путей, поверить не себе, а глушению (впрочем, может, это говорит о том, что они изначально не настоящие — кто знает?). Но с Сопровским этого не произошло. Имитацией творчества он никогда не занимался. Конечно, и правильно выбранная (или выбравшая) дорога не спасает от неудач. Но неудачи такого рода — в отличие от других — не бессмысленны. Они все равно — проделанная работа, накопленный опыт «эстетического освоения действительности». По этому пути так или иначе все равно пройдут другие, и им твой опыт, как он ни индивидуален, пригодится. Такое творчество — штурм высоты, которую взять необходимо, но не удалось, а удалось только закрепиться на склоне. Это порыв в правильном направлении, но недостаточный для преодоления плотного сопротивления ситуации («материала»?). Порыв этот поэтический, но недостаточно реализованный. Для тех, кто рядом, он может выглядеть и реализованным, удовлетворять потребность в поэзии — но это пока длится «узнавание сопережитого» (выразимся так). Взять высоту нужно (искусство требует побед полных и окончательных), но закрепившийся на склонах высоты все же тоже что-то если не сделал, то делал. Как, например, А. Сопровский в приводимом стихотворении:
Жизнь обрела привычные черты,
Что было нужно — за день перебрала.
Застольный шум, а посредине — ты:
Слегка царишь, но выглядишь устало.
Следующие четыре строки мы временно пропустим, течения это не нарушит. Дальше:
О, Господи, как фантастичен быт!
Искривлены смеющиеся лица.
Кто с кем тут рядом и зачем сидит,
На что озлоблен и чего боится?
Хозяюшка, отсюда не взлетишь.
Оскалит рот смеющаяся вечность.
Погасишь свет и ясно различишь
За окнами таящуюся нечисть.
И вправду мир покажется тюрьмой,
Дыханье — счастьем, и прогулка — волей.
Что с нами происходит, Боже мой,
На этом самом жутком из застолий.
Март. Ночь. Москва. Гостеприимный дом.
Отменный спирт расходится по кругу.
Хозяйка, слушай, а за что мы пьем,
Зачем мы здесь и — кто мы все друг другу?..
На время оборву цитату. Нравятся ли мне эти строки? Пожалуй, — несмотря на все, сказанное выше, — да. Они несут напряжение, выразительны, чувствуется, чем автор взволнован, и это волнение для нас оправдано. Ощущение усталости и пустоты, усталости от пустоты, незаконности и неоправданности такого существования — вещь, может быть, и неоригинальная после Блока, но ведь любовь и смерть — вещи тоже не слишком оригинальные, однако трогают. Это пустота сегодняшней грозной повседневности: то, что внутри гостеприимного дома, вполне дополняется и определяется тем, что таится за окном. Мрак за окном лишает смысла и противопоставленный ему «круг друзей». Дружить почти не для чего, нечем скреплять дружбу — смысл общения потерян. Все это чувствуется, этому сочувствуешь (только вот излишне называть это застолье «жутким», и без этого слова ясно, что там не хорошо). Возможно, во всем этом есть и некая толика поэзии, в самом неприятии такого положения, в том, что стоит за ним, но этого еще недостаточно, чтоб отлиться в форму, начать существовать отдельно от ситуации. Какая-то точка обзора нужна для этого, расположенная чуть выше этой ситуации, эмоциональный выход на иной уровень. Какое-то движение в этом направлении нарастает, но не разряжается. Поэтому мы больше сочувствуем (тому, что происходит с другими и что узнаем, поскольку осведомлены), чем сами чувствуем, чем это нам самим нужно — особенно, если мы вне этой ситуации. Впрочем, стихотворение еще не кончено, может, цепь еще замкнется и разрядка впереди?
Пускай хоть выпьет каждый за свое
Под общий звон фужеров или рюмок.
Я пью за волчье сладкое житье,
За свет звезды над участью угрюмой.
Хозяюшка! За звучным шагом — шаг.
Земля — за нас. Она спружинит мягко.
И каждый дом — по крайности очаг.
И смертный мир — не больше, чем времянка.
Вроде интонация развивается естественно, вроде фразы соответствуют нужной тональности, но слова вдруг становятся приблизительными, чересчур общепоэтичными.
Почему вдруг понадобилось при таком разобщении, чтоб «хоть каждый выпил за свое»? Только для того, чтоб потом сказать, что «я пью за волчье сладкое житье», и «свет звезды над участью угрюмой»? Т. е. за то же одиночество и разобщенность? Так ведь это уже есть — чего за это пить? И почему это вообще опоэтизировано — только потому, что «за… шагом шаг» мы движемся к смерти, что «смертный мир — не больше, чем времянка»? Т. е. потому, что не стоит беспокоиться? Но ведь все стихотворение очень беспокоится, и вряд ли бы А. Сопровский хотел концом отменить это волнение. И претензии мои вовсе не к пессимизму, не к «содержанию». Трагическое отчаянье тоже может быть сутью стихотворения, более того, ощущение этой трагедии есть в предыдущих строках, но вся беда в том, что в этих последних она разряжается чисто риторически без всякой органической связи с предыдущим, что у автора здесь не хватает сил пробить стены той ситуации, в которую он погружен, что не за что схватиться. И он «пробивает» ее искусственной приподнятостью тона. Непреодоленность ситуации особенно четко видна, если вернуться к началу стихотворения, к тому второму четверостишию, которое мы пропустили:
Накрытый стол немало обещал.
Но разговор не ладился, как будто
Какой-то сговор вас отягощал,
Исподтишка встревая поминутно.
Это четверостишие и впрямь лишнее, оно только замедляет развитие стихотворения излишней детализацией. Я охотно верю, что действительно в этой обстановке было вроде нечто отягощавшего душу сговора и что от этого разговор не клеился. Но что эта деталь обстановки, верней, деталь восприятия этой обстановки, деталь переживания — добавляет ко всему сказанному? Зачем мне погружаться в ее глубокомыслие? Ведь не ясно мне все равно, что это за сговор, и не очень нужно это знать в данном случае. Но автор настолько погружен в ситуацию, что эта деталь выглядит для него очень многозначительной. Автор ведь не манерный — на самом деле выглядит. И все потому, что переживание не окончательно превратилось в замысел. Стихотворению это не нужно, но самому автору, по-видимому, нужно, он об это бьется как об стенку. И пробивается. Правда, в других стихах:
Земли осенней черные пласты
Еще не разворочены дождями.
Но знаю я и, верно, знаешь ты,
Каким ветрам орудовать над нами,
Еще пылят сентябрьские пути,
Еще звенит колодцами деревня.
Будь проклят день и час, когда…
Прости,
Благословись, возлюбленное время.
Другого нет. И если разрешат,
Я все скажу, что ночь наворковала,
Пока в дремоте граждане лежат
На папертях Московского вокзала.
Пока еще не холодно. Пока
К себе берет нас камень постепенно.
Будь проклят!..
Не поднимется рука.
Родное время, будь благословенно.
Свистками черни воздух потрясен.
Смешна любовь, и ненависти — мало.
Но кто бы знал, что людям тех времен
Благословенья лишь и не хватало…
Это стихотворение интересно прежде всего тем, что в нем автор открыто сталкивается лоб в лоб — с тем, на что наталкивается его судьба и творчество, — сталкивается, вступает в единоборство и побеждает, т. е. создает произведение искусства. Говоря о победе, я не хочу сказать, что это стихотворение относится к лучшим у Сопровского, что оно совершенно, безупречно или полностью выражено. Совсем нет. К сожалению, точные строки в нем чередуются со «среднепоэтичными», приблизительными. К ним я отношу даже последние две строчки. Но, не будучи совершенным и вполне выраженным, оно, в отличие от предыдущего, все же, если можно так выразиться, «вполне замысленное», т. е. такое, где чувства и переживания автора отлились в нечто существующее уже без непосредственной связи с ним, в некий сгусток воли, в волевое целое, в единый образ, в живой организм, где каждый элемент должен точно соответствовать своему месту и роли. Но — опять-таки, именно поэтому — и неточность многих строк ощущается острей. Чувствуется, что они заменяют единственно необходимые, которые читатель смутно предчувствует, ибо они заданы всем ходом стихотворения. Чувствуется не только тогда, когда стихотворение отходит от самого себя, когда строки не о том, но и когда они о том, но не то. Дело в том, что «благословенья» в этом стихотворении не «не хватало», а «не хватает». Неожиданный уход от «состояния» к остраненной философичности здесь неоправдан, ибо нет в нем «людей тех времен», а есть «мы», если и не вовсе «я». Это отнюдь не кому-то, а герою-автору не хватает уверенности в том, что все координаты, необходимые для нормального существования, — прочны, «благословлены». Я отнюдь не враг философичности или обобщающих фраз, вовсе не считаю, что они — всегда проза, но с ними — впрочем, как и со всякими другими — следует обращаться осторожно. Здесь ход стихотворения требует иной — по тону и духу — разрядки. А так — получается нечто вроде пересказа того, что должно было здесь быть сказано. Но сама эта заданность, само то, что мы ее ощущаем, говорит об определенности и некоторой все же и выраженности замысла — пусть и в недостаточно точном исполнении (кстати, только в таких случаях и серьезны разговоры о частностях исполнения). Здесь, по всей вероятности, нужен был другой ход (обычно говорят: «прием», но, по-моему, это неточное слово, предполагающее свободу выбора, зависящую от ловкости рук, а не угадывание единственно точного течения), но речь сейчас у нас вообще не о частностях исполнения. Я просто счел своим долгом отметить, что они не всегда соответствуют сути, но говорить мне сейчас хочется о сути, которая в данном случае так или иначе все равно выражена — несмотря на эти частности. А сущность этого драматического стихотворения — в драме смирения. Да, именно того смирения, о котором уже шла речь и которое еще недавно подминало под себя стихи многих — молодых и старых, маститых и немаститых, конформистских и нонконформистских — поэтов. И никому особой радости не приносило. Однако это стихотворение А. Сопровского отличается от большинства подобных произведений — и, прежде всего, драматизмом. Смирение дается его герою не легко, а может быть, и совсем не дается, может быть, это только жажда смирения — кто знает? Но все, что происходит в стихотворении — подлинно. Тяга к смирению, пронизывающая его, основана не на том, что это вообще — мудрость или что у Пушкина это когда-то хорошо получалось, а на жизненном опыте, на вынесенном из него ощущений, что иначе сегодня очень легко забыть, что жизнь, какая б она ни была — все равно великая удача, и задохнуться от ярости, лишить смысла собственное существование и творчество. Время тяжелое, страшное, отвратительное, но для современника — единственное. В стихотворении оба эти начала — ощущение тяжести и ощущение единственности (а значит, и смирение) — живут одновременно и составляют одно целое. Это жажда высокого. А в поэзии жажда высокого (а такое смирение — безусловно высокое отношение к жизни) равносильна его достижению — конечно, если это подлинная потребность, а не котурны. Кстати, поэтическая форма и есть фиксация такого достижения, его воплощение. И когда я не верил в возможности новых поколений, я как раз в это и не верил — в то, что ощущение легшей на них тяжести и прелести жизни им удастся свести в одно, ощутить себя в вечности, подняться до формы. Однако, как мы видим даже на примере этого стихотворения, отнюдь не лучшего в творчестве А. Сопровского — это им иногда удается. Я не сразу коснулся лучших стихов этого поэта (из-за которых я собственно и стал писать эту статью) и говорил даже об его неудачах не из стремления к объективности (пишу не монографию), а только потому, что по этим не лучшим стихам ясней видно, как трудно и через что именно продирается сегодня молодой поэт к поэзии. Но он продирается. И иногда то, через что он продирается (что я считал непроходимым для лучей поэзии лесом), вдруг само оказывается предметом высокой поэзии:
Воздух нечист, и расстроено время.
На рубежах ледяного апреля
Рвется судьбы перетертая нить.
Вот уж четырежды похолодало,
Только и этого холода мало,
Чтобы горячку души остудить.
Нет ни покоя, ни воли, ни света.
Я проживаю в беспамятстве где-то.
Веку не ровня, держусь на весу.
Пасмурны днесь очертания мира…
Только объедки с умолкшего пира,
Да тишина в обнаженном лесу.
Так горевать не пристало поэту.
Но за весну беспощадную эту
Капли дождя, словно капли свинца,
Плотно сгущенный бессолнечный воздух,
Горечь ночей, ледяных и беззвездных —
Пей до конца… Допивай до конца…
В сущности, это стихотворение очень по духу традиционное для русской поэзии. Осенние раздумья о жизни, осеннее мудрое примирение с ней. Поразительно только то, что эти осенние раздумья связаны здесь не с осенью, а с весной. И от этого острей и ощутимей какая-то общая тяжесть и вроде бы безысходность ситуации — в природе и в душе. Если сам воздух нечист и расстроено само время, то не удивительно, что нить судьбы рвется и на рубежах апреля — особенно если апрель ледяной, а нить — перетерта. Все разорвано и спутано. Однако говорится об этом таким тоном, таким медленным размером, как будто это просто бытовые подробности, как будто в этом ничего необычного. Просто условия жизни. А необычно — все. Просто мы привыкли и живем. Все тяжело, но «.. .так горевать не пристало поэту». Это уже не одергиванье самого себя, как в предыдущем стихотворении, это просто обретенное душевное знание. И это знание незримо и спокойно присутствует во всем стихотворении — с самого начала. «Так» тосковать «не пристало», и «так» стихотворение не тоскует. Оно тоскует иначе. И дышит. Может быть, не легко, но ровно и уверенно дышит. Оно живет (в тех условиях, где, как я полагал, никакое подлинное стихотворение жить не может). Конечно, «пасмурны днесь очертания мира». Конечно, от пира прошлых веков (или лет?) остались одни объедки, и все еще может случиться — и с автором, и с его страной, — но жизнь уже состоялась, душа полностью обрела и отстояла себя, осознала мир и себя в нем, а от этого — сквозь всю эту свинцовую тяжесть — радость существования в этом мире. Радость хотя бы от самой возможности осознавать и не принимать эту обстановку. В таком неприятии ситуации и проявляется то приятие жизни, то «требование от бытия смысла и красоты», без которого занятие искусством превращается в пустой ритуал, лишенный сущности и смысла. Конечно, «капли дождя словно капли свинца» — совсем не то, что пушкинское «печаль моя светла», но все-таки это уже не просто знание, что свет необходим, а обнаружение его в неприглядной действительности и в самом себе, нечто такое, что и за что следует «пить до конца, допивать до конца… » «Порой опять гармонией упьюсь…», — как говорил Пушкин. Вот и упивается гармонией соответственно «поре» А. Сопровский — просто пора нынче совсем другая.
Похолодание прошьет роскошный май
И зелень по чертам фасадов.
Душа прояснится… Как хочешь, понимай
Игру сердечных перепадов.
А время спряталось… Исчезло без следа,
Как мокрой осенью безлистой.
И сердце падает… Как будто есть куда,
Как бы в колодец — чистый-чистый.
Уж тут и впрямь «ничего нет» — ни протеста, ни отстаивания себя, ни даже попытки осмотреться и разобраться, — только едва уловимое настроение, только, так сказать, существование в поэзии. Но ведь настроения не достаточно для такого существования, в чем же дело? Правда, передано это настроение точно и тонко. Но ведь и это еще не все. Да и всегда можно спросить: из чего это видно? И на этот вопрос тоже, как всегда, трудно будет ответить. Можно, конечно, указать на ту симметричность в строении обоих четверостиший, которая мастерски выдержана в стихотворении: первые две строки — констатация, первая половина третьей — реакция на эту констатацию, а дальше после цезуры — возвращение к реальности на новом «витке спирали». Но само по себе это говорит только о том, что обычно называется «мастерством». Любое строение четверостишия, любое употребление цезуры — вещь при старании общедоступная. Надо еще, чтобы всё это было уместно. А определение уместности того или иного хода зависит от определения сути и внутренней задачи произведения, т. е. от того «секрета прелести», о котором Пастернак по другому, правда, случаю сказал, что он «разгадке жизни равносилен». В конечном счете, прелесть стихотворения раскрывается только самим стихотворением, и дублировать этот процесс невозможно и незачем… Для суждения о стихотворении остается только одно — восприятие. Культура и опыт только влияют на восприятие, но не заменяют его. Восприятие — дело ненадежное, — оно зависит не только от индивидуума, но и от его состояния, — и, тем не менее, это единственная база для наших суждений. Даже о качестве средств выражения мы не можем ничего сказать, игнорируя восприятие, даже о том, действительно ли они средства именно выражения, а не, допустим, украшения или литературного ритуала. Так что, говоря об этом стихотворении, буду продолжать основываться на собственном восприятии. Тем более, что, на мой взгляд и вкус, это стихотворение вполне заслуживает, чтоб его воспринимали. Оно вознаграждает за то, что втягивает в себя. В этом собственно и задача произведения искусства — втягивать в себя и вознаграждать за это. Вознаграждать тоже. Ибо даже втягивать можно иногда научиться — например, имитацией напряженности стиха, имитацией экспрессии. Втянешься — а никакой радости. Впрочем, чем-чем, а имитацией у Сопровского и не пахнет-нет ее ни в его удачах, ни в неудачах. Однако, простое стихотворение, о котором идет речь, написано на самом деле довольно сложно. Хотя поначалу оно выглядит простой реакцией на несколько неожиданное, даже обескураживающее, но в принципе обыкновенное событие в природе: цветущий май вдруг оказался прошит похолоданием (не морозом, губящим всякое цветение, не холодом даже, а похолоданием). Но от этого душа вроде бы не омрачилась, а наоборот, прояснилась (с ударением на втором слоге, на «ясно»). Вроде бы неожиданно — по привычной логике она вроде должна бы была смутиться, растеряться. Но почему-то такой переход не воспринимается как странный и нелогичный. И ведь не только потому, что «здоровью моему полезен русский холод», хотя то, что стоит за этими пушкинскими строчками, живет и действует на душу и поныне. Нет, не потому. Той радостной легкости, которая слышится в этой строке, у Сопровского нет и в помине. Но из-за чего-то же мы воспринимаем такой переход как совершенно естественный. Это что-то выражается во всем, что определяет характер нашего чтения (выбор слов, фонетика, размер), самим дыханием стиха и его течением. Но прямо это стихотворение вовсе не пытается ничего объяснить. Так и говорит о «игре» своих «сердечных» перепадов: «Как хочешь, понимай…» Впрочем, понимания этого не требуется для понимания стихотворения. Можно его понять и полюбить, даже не задумавшись, почему этот странный переход не кажется странным. Все равно ясно, что раз «душа прояснилась», следовательно, среди «роскошного мая» она не была особенно ясной, и отсюда — все последующее. Между тем, объяснение тому, что мы принимаем этот переход как естественный, оказывается самым простым. Происходит (при начальных попытках анализа, а не при восприятии) путаница времен. Поскольку второе, завершающее, более сильное четверостишие написано в настоящем времени, будущее время, в котором написано первое четверостишие, как бы исчезает. И кажется (во всяком случае мне казалось), что событие, о котором говорит стихотворение, и реакция на него относятся к моменту, когда пишется это стихотворение. Между тем, для автора (т. е. для стихотворения) — это время будущее, воображаемое. Настоящее же время этого стихотворения (когда мы читаем это стихотворение, мы погружаемся именно в него) другое. Это время, располагающее к мечте о таком будущем. Это то смутное состояние, которое располагает к тому, чтоб мечтать о том, чтоб душа прояснилась. Состояние стихотворения — это смута души и жажда просвета. Поэтому выражение «Душа прояснится» не может быть неожиданным, оно главное. Остальное — только мечтательные условия осуществления этого главного. Тому состоянию, в котором находится автор, более гармонирует осень, чем весна (как и в ранее цитированном). В ней, мокрой и безлистой, в которой даже время «прячется», «исчезает без следа» (а чего хорошего можно от него дождаться?), в которой естественность умирания неразрывна с естественностью надежды, — в ней гораздо больше общего с состоянием автора, с реальностью его жизни, чем в «роскошном мае». В ней можно снова обрести реальную связь с окружающим, даже слиться с ним — даже если это чревато смертью: «И сердце падает… как бы в колодец чистый-чистый». Но это стремление не к смерти, а к чистоте и истинности — даже если это связано со смертью, которая тоже здесь вовсе не воспринимается как несуществование. Но фраза о падающем сердце не была бы столь действенной, если б в ее середину не врезалось отрезвляющее замечание «как будто есть куда». Некуда, но хочется. Нет, это не согласие на смерть, это только жажда чистоты и боль от сознания ее недостижимости, невоплотимости. Это щемящее ощущение и есть победа поэзии — выход к вечности. То, что должно было заслонять поэзию от глаз — бесприютность, ненадежность окружающей и собственной жизни, непроглядность общего положения, — таким образом было само превращено в поэзию. Каким-то образом автор нашел среди трясины, где находился, точку опоры и обзора, давшую ему чувство простора и перспективы — без чего никакого дыхания в поэзии быть не может. Что тут помогло в этом — религиозное сознание, поддержка друзей, просто сила естественного желания жить и утвердиться или все это вместе, — сказать трудно. Но факт остается фактом: Александр Сопровский и часть его сверстников не пожелали быть списанными со счетов истории и нашли в себе для этого силы. Жизнь, как уже говорилось, богаче предвзятых представлений о ней. Победа их не была легкой и не привела к легкому (под «легким» я разумею нормально-тяжелую судьбу поэта). Специфическую тяжесть их времени невозможно сбросить, она всегда давит нас. Но вот что странно: стихи эти вовсе не погибают под этой непосильной ношей, а несут ее на себе — пусть даже не очень легко, но все же вполне плавно. И никак это не мешает высокой приподнятости тона лучших из них.
На Крещенье выдан нам был февраль
Баснословный — ветреный, ледяной,
И мело с утра, затмевая даль
Непроглядной сумеречной пеленой.
А встряхнуться вдруг, да накрыть на стол!
А не сыщешь повода — что за труд?
Нынче дворник Виктор так чисто мел,
Как уже не часто у нас метут.
Так давай не будем судить о том,
Чего сами толком не разберем,
А нальем и выпьем за этот дом
Оттого, что нам неприютно в нем.
Киркегор неправ. У него поэт
Гонит бесов силою бесовской —
И других забот у поэта нет,
Как послушно следовать за судьбой.
Да хотя расклад такой и знаком,
Но поэту стоит раскрыть окно —
И стакана звон, и судьбы закон,
И метели мгла для него — одно.
И когда, обиженный, как Иов,
Он заводит шарманку своих речей, —
Это горше меди колоколов,
Обвинительных актов погорячей.
И в метели зримо: сколь век ни лих,
Как ни тщится бесов поднять на щит, —
Вот, Господь рассеет советы их,
По земле без счета их расточит.
А кому — ни зги в ледяной пыли,
Кому речи горькие — чересчур…
Так давайте выпьем за соль земли,
За высоколобый ее прищур.
И стоит в ушах бесприютный шум —
Даже в ласковом, так сказать, плену…
Я прибавлю: выпьем за женский ум,
За его открытость и глубину.
И, дневных забот обрывая нить,
Покачнешься, двинешься, поплывешь!
А за круг друзей мы не станем пить,
Потому что круг наш и так хорош.
В сновиденье лапы раскинет ель.
Воцарится месяц над головой.
И со скрипом — по снегу — сквозь метель —
Понесутся сани на волчий вой.
Это стихотворение уже однажды было напечатано в эмиграции («Континент» №33), но я счел своим долгом привести его текст полностью. Уж слишком полно выражает оно все, к чему пришел А. Сопровский: его боль и его победу. Победу, конечно, только в духовно-эстетическом смысле — ситуация, которая встает за стихотворением, далека от победной. Это, скорей, выражаясь словами Пастернака, «пир Платона во время чумы». (Конечно, слово «Платон» надо понимать иносказательно — впрочем, как и у Пастернака, среди героев его стихотворения тоже вроде особых Платонов не было.) Интересно, что это та же ситуация, что и в процитированном раньше стихотворении А. Сопровского о пире. Но как непохожи эти стихотворения. Изменилась не ситуация — атмосфера на втором пиру столь же тяжела, как на первом. А вот атмосфера самого стихотворения изменилась — стала легче. Изменилось восприятие. Теперь эта ситуация не заслоняет автору мир, не побуждает его углубляться в странное выяснение отношений с другими участниками этого невеселого пира, а позволяет ему увидеть саму эту ситуацию на фоне мира и судьбы, как и надлежит поэту. Для этого надо почувствовать себя наравне с этими неуловимыми субстанциями, вырасти, возмужать. Второе стихотворение — особенно в сравнении с первым, «схожим», показывает, что такое возмужание произошло. Благодаря чему самоощущение этого стихотворения и дотягивает до уровня трагического — трагического противостояния. И связано в нем это самоощущение с образом метели. Метель метет все время, вокруг всего стихотворения. Вокруг дома, где происходит пир и где героям-неприютно. Но в отличие от предыдущего стихотворения, здесь ясно, что «неприютно» им вовсе не потому, что им что-то не нравится в самом доме или в хозяевах его (к тому и другому стихотворение относится вполне дружелюбно). Неприютно же им в доме потому, что неприютно везде, что им вообще «бесприютно»: «И стоит в ушах бесприютный шум / Даже в ласковом, так сказать, плену…». Бесприютность эта как-то тоже связана с образом метели, и мысль эта приобретает какой-то космический характер. Но, тем не менее, она нисколько не аллегорична. Это самая настоящая метель. Просто, как во всяком подлинном произведении, она живет здесь не сама по себе, а в восприятии автора, навевая ему все, что как-то связано с его состоянием, со всем, чем он озабочен, что знает, что вынес, потерял, сберег, на что надеется. Так что не удивительно, что из этой метели возникают традиционные для нее с пушкинских времен бесы, вернее, мысль о них; разумеется, во вполне современной интерпретации: «.. .сколь век ни лих, как ни тщится бесов поднять на щит». Но в метели этой не только безвидность и мгла, есть еще и нечто мобилизующее — бодрящий, что ли, холод? В ней и надежда — сквозь нее видится, как в конце концов поступит Господь с этими бесами. И вообще весь приподнятый тон стихотворения тоже непостижимым образом связан с ее присутствием. И все главное для творчества А. Сопровского — культ дружества, причастности, женственности, духовности, — все это становится живым и достоверным именно через эту метель, в связи с ней. Это реальное переживание, а не система взглядов. Это совсем не значит, что все реалии я воспринимаю так же, как и автор. Например, — точно знаю, что плохо метут улицы не только «у нас»: в гор. Брайтон (часть Бостона), штат Массачузетс, где я теперь живу, снег с тротуаров вообще почти никогда не убирается. Тем не менее не только стихи в целом, но и строки о дворнике Викторе мне очень нравятся. Видно, дело не в «узнавании» все же, а в общем контексте. Так же меня никак не раздражают строки о Кьеркегоре, хотя согласен я не с автором, а с Кьеркегором. Я действительно уверен, что у поэта нет других, во всяком случае, более важных забот, «чем послушно следовать за судьбой». Кстати, я отчасти за то и уважаю А. Сопровского, что он, судя по всему, всю жизнь именно этим и занимался. И стоило ему это очень дорого (послушание-то это ведь не начальству, а судьбе!). Весь вопрос, что называть судьбой поэта. Но это уже опять спор о «просто писательстве». Здесь он неуместен. Внутренняя сущность этих строк, то, что автор утверждает поэтически — радость освобожденного духа, — шире, богаче и важней его умственных взглядов. Этим и «звенит» это четверостишие. Да и все стихотворение. А в принципе, и все творчество А. Сопровского.
Разумеется, невозможно в одной статье коснуться всех стихов А. Сопровского. Даже всех хороших его стихов. Даже всех сторон его творчества. Надеюсь, что о нем еще будут писать немало, может, и я когда-нибудь напишу. Но для меня сейчас важно вовсе не подробно осветить его творчество, а просто дать почувствовать, что вопреки всему такое творчество существует и что оно — поэзия, что, как говорится, — жив курилка! Для меня это первая ласточка, первый ставший мне известным поэт нового поколения, который вызвал к себе мое серьезное отношение. И через которого мне приоткрылась дорога к другим, не всегда строго нонконформистским, но всегда не особенно благополучной судьбы молодым поэтам. О которых тоже следует писать. Но размышления о них уже выходят за границы моей сегодняшней темы.

