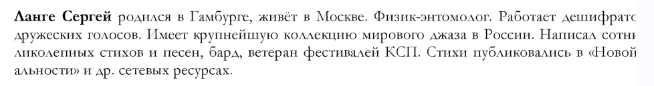Сергей Ланге

Сергей Ланге
Томск, Москва
.
.
* * *
Человек в большинстве скорее дурак, чем сволочь, —
щука к нему приплывает, русская печь катает,
гремя амуницией; женится он на жабе, а когда наступает полночь,
превращается в нетопыря и, как во сне, летает;
только видно же — ищет чего-то, не спит,
глаз инфракрасное отражает.
И портит если не кровь, то нервы соседям по коммунальным
услугам. Лучше бы уж был сволочью — ведал бы, что творит,
только однажды в полете проснется, столкнувшись c зеркальным
облаком, а оно человечком побрезгует, лишь дела невеселые отразит,
да и грохнется всеми косточками летун, свистнет рак, а напишут: «Радикулит».
Sic, говорите, gloria. Хрен с ней, с глорией, если трафик такой и такой транзит…
.
.
* * *
Расскажи, что там носят у вас в раю,
как там режут хлеб, наливают воду,
что поют, а лучше — что не поют,
и бывают ли, скажем, новые годы
или нет — года, или вовсе их нет,
что там сыплется с елки — неужто хвоя,
и действительно ли негасим тот свет,
если вдруг погасить пожелают двое
этот самый свет на двадцать минут.
Да, конечно, знаю — не изгоняют.
«Не поют» — понятно, а что поют?
И играют на чем, если вдруг играют?
Эко вышло длинно. Молчи-молчи.
Я тут мимо шел — перепутал двери:.
бюрократы, визы, анкеты, ключи;
говорят, мол, верю всякому зверю.
Вот мое число, дальше тишина,
вот вода в вино, ты ходи, а песню
допоют другие, когда вина
наваяет новый какой кудесник.
Как просил — по счетчику. Все, привет.
Вот за это облако и направо.
Кстати, на, возьми. Негасимый свет.
Извини, последний и без оправы.
29.03.11
.
.
* * *
Мы не стали умней от прочитанных книг,
как не стало светлей от электрификации;
расставание длится — ах, если бы дни!
эра светлой мечты стала эрой прострации;
мы куда-то брели
в летаргическом сне
и в проломах зрачков
не читалось сомнения…
Свет в конце коридора…
Решетка в окне…
Кто из нас приведет приговор
в исполнение?
1990
***
В провинции, где холодно и душно,
и радио пророчит: «Пятьдесят…»,
стуча зубами, тычься непослушной
рукой в заледенелый автомат,
чтоб застрелиться, или мерзлый номер
набрав, услышать медленное: «Да», —
в провинции, где этой стужи кроме
бывают и покруче холода,
поняв, что кольцевую упразднили,
и не добраться до конца ни в жисть,
пляши гопак на собственной могиле,
ловя огонь зеленый, и держись
за воздух, становящийся кристаллом,
спекающийся в синий монолит;
стуча зубами, мерзлые вокзалы
Господь от посетителей хранит;
и поезда, приваренные к рельсам,
отправлены не будут до весны,
сознаньем угасающим согрейся —
того, что видишь медленные сны,
чей ритм неотвратим и неотвязен,
как отраженья в пыльных зеркалах
купе; проснувшись, не находишь связи
с тускнеющей реальностью стекла,
с холодными и тусклыми глазами
пустых недружелюбных городов,
похожих, как матрешки, на вокзале
торгующие с рук, как строй ментов,
таких же серых, как стена завода,
что выпускает этот лед и снег;
и пробужденье станет переходом
из яви в явь, поскольку в прошлом сне
был этот город переименован,
а телефонный номер отключен,
но ты ошибся сном, и бестолково
скрипишь в чужом замке своим ключом.
13—16.02.98
.
.
***
как ты могла и действительно как смогла
действительно жить обитать среди вот этих всех
а так как-то и душу насаживала на вертела
наматывала на веретёнца нанизывала на смех
тонкий вроде синтетической нити как ты могла а так
я говорит и теперь так вот да ещё и не так могу
дальше слёзы битые зеркала станционный шлак
креозотом пахнет я и теперь не выдержу убегу
стану летать по кругу вроде лошади цирковой
потом ходить по канату паззлом стану битым стеклом цветным
ещё кем-нибудь что-нибудь пока не погасят свет не зайдут за мной
под музыку растрёпанную прощаемся не придут значит идти самой
только страшно леса горят духота медленная дымом стелется торфяным
.
![]() ***
***
Ты — памятник пламени. Пленная память
в полынное поле выходит и плачет,
степной полустанок курится росою,
роняет прохладные бусы на плечи
задумчивый шум тополей колокольных, —
ресниц полусонной листвы трепетанье,
сплетенье пластинчатых, тонких, слоистых
браслетов-теней с теплым пеплом тумана, —
пастель — полутон — полумгла — полулепет, —
как женщины сон на пороге пустыни…
То пленная память подспудным полетом —
пернатое облачко, снежная стрелка, —
пытается петь в глубине эмпиреев,
и голос несется неясно откуда,
а голову вскинешь — лишь крылья увидишь,
лишь птицу да облако в розовой стыни…
И слова ловец, словно лев за оленем —
на шелковый шепот серебряной сени
листвы тополиной — все выше и выше —
на флейтовый лепет — хрустальный, прозрачный —
о чем бы, скажи мне? — все выше и выше —
в предчувствии вечном нечаянной ласки,
на бархатный ропот виолы, —
о чем же?…
1993
.
.
«Переведи меня через майдан…»
(В. Коротич)
Переведи меня через майдан,
на счёт в швейцарском банке, на китайский,
в иную ипостась, в иное время,
как стрелки у карманного Биг-Бена,
переведи хотя б через границу, —
я здесь застрял, как будто рыбья кость
в гортани коллективной, и народы
империи постиг глубинный кашель…
Врача им всем, а мне — перебежать
пространство, что простреливает снайпер
с соседней крыши, скрыться в подворотне
и сделаться невидимым. Кобзарь,
торгующий вразнос своим товаром,
бежал вчера от стражей беспорядка,
и не смотри, что слеп, — не удалось
не то, чтобы догнать, но — пристрелить, —
такие кренделя писал, болезный,
что ихняя овчарка не снесла
позора и на месте околела,
а он лабает на другом майдане;
что до меня — я был переведён
в другое отделенье, где врачи
самозабвенно били в барабаны,
звенели в колокольчики, трясли
пацификами, но зато кормили
и выпускали погулять.
И всё же,
переведи меня через майдан!
19—21.04.97
.
.
* * *
Спой мне песню о том, как здравствует и прощает,
сагу толкни, как найден-потерян последний ключ.
Я навсегда отравлен вечнозелёным чаем,
он почернел внутри, стал, как антрацит, горюч.
Нас настигает зима, даже когда в июле,
даже когда показалось, что полушарие поменял.
В праздники ощущаешь особо: тебя надули.
Пусть не тебя. Хорошо, пусть одного меня.
6.01.16
.
.
ВЕЧЕРНЯЯ ИНФЛЮЭНЦА
Луковое ли твоё поле,
магнитное ли, да хоть какое, —
явится к тебе Оле-Лукойе —
сказку расскажет не о любви, так о боли,
зонтик раскроет — чёрный, будто полярной ночью
белоснежная тундра, словно все кошки серы.
Смотришь в окно — там выпала атмосфера,
сверхпроводимость послали вечерней почтой
куда подальше. Горчичная ли твоя лира,
луковая ли, Оле ли твой Лукойе, —
всё в градациях серого, словно кошки ночной порою,
сказка его зависит лишь от крепости литра:
принял на грудь, и к завтрему ли, к обеду
сказка твоя скалится и шипит, пенится и в полёт,
Это вечерняя инфлюэнца с субботы на прошлую среду
шлёт эсэмэску. Уже и не просят — она всё шлёт.
13.01.16
.
.
***
Как хорошо, что кончились слова
и звук воспринимается, как синий,
а свет похож на скорлупы отвар
яичной — вечно шебуршит в корзине;
Держатель Акций возжелал осла,
вола или другого крокодила;
вот в пищеводе ёлка проросла
и серые гирлянды запалила,
вот женщина, оставив Новый год
на сладкое, бегом бежит за сплином,
нам перейдёт дорогу чёрный кот,
нам повезёт в ходьбе по магазинам —
спортивно-прикладной; как из ведра,
снегурок невостребованных трибы
идут-бредут под хмурое ура
неверующим детям на потребу.
Спасибо за бесцельные труды,
за вместо фейерверка кольца дыма.
Нам Дед Мороз подаст стакан воды
с нерастворимой цифрою сладимой
на тусклом дне, где снулая Москва
величие меняет на конфеты.
Как хорошо, что кончились слова.
Спасибо, что остались сигареты.
18.12.15
.
.
***
Это людям кажется, что волки тоскуют,
а волки просто так поют.
Между медвежьей нежностью
и волчьей тоской
он строил лодку,
чтобы уплыть на тот берег,
даже понимая,
что того берега нет, —
сразу за окном начинался край света
и никак не кончался.
Так и жил слоном в посудном магазине —
самым грациозным слоном на свете;
спал в хрустальной вазе,
словно колибри в чаше цветка, —
в самой большой хрустальной вазе на свете;
по утрам играл зубочистками гимны
на коньячных бокалах,
вечером протирал богемское стекло
и строил аккорды сухими пальцами.
Это людям кажется,
что нет ничего страшнее одиночества,
и нужно спасаться,
непременно нужно спасаться,
но у него никто не покупал посуду,
и вряд ли стоит жалеть об этом.
Однажды я зашел к нему,
и, выглянув в окно,
увидел окаменевшие следы весел,
блестящие на сколах.
2.12.08
.
.
***
Нас забыли вычеркнуть из похоронных списков,
в какие ещё внесены, мы и сами не помним толком.
Если лисий хвост — близко гурия ли, вовсе уж одалиска
одолела вконец, но рай не положен съеденным серым волком.
Заболел серый волк и помер от несваренья,
ибо желудок требует не души, но живой свинины.
Бог — защитник всего живого — мух смахивает с варенья.
Вот и нас смахнул. Такие, брат, весёлые именины.
26.11.15
.
.
***
Прощай, виниловое детство
и tripple D спектральный свет!
От нас останется в наследство
лишь фенобарбитальный бред,
да пара кубиков покоя
в крови, свернувшейся к утру…
Блажен и счастия достоин
сумевший выжить на миру;
а мы успешно подавились
непропеченным тестом снов,
и богоносец точит вилы
и призывает колдунов.
Рыбак в песок закинет невод —
наловит виртуальных рыб,
стрижиный трал протравит небо.
В посюсторонние миры
мы по привычке ускользнули —
сколь из окошек ни кричи,
обед простынет, дуры-пули,
изрикошетив кирпичи,
уснут в земле, в которой нашим
костям, похоже, не истлеть, —
мы эмигрировали в кашель
пластинок, в гул магнитных лент…
Поди, сыщи теперь в пророке
отчизны резы и черты,
когда кольцо твоей дороги
врастает в небо немоты.
3—4.11.97
.
.
АННА АХМАТОВА
Наброс (Зачёркнуто)*
Когда б вы знали, из какого сора,
а выражаясь проще, из говна,
растут стихи отсюда до забора
(зачёркнуто)
не ведая позора,
считая стыд уделом писуна
(слово хорошее, но означает, кажется, другое. Проверить!).
Писатель — как он слышит, так и пишет,
и только поздней ночью иногда
в горячке белой стряхивает мышек,
остаток дней сгорая со стыда.
1940
*Булат Окуджава, прочтя набросок, позаимствовал первый стих второго катрена, в результате чего, скорее всего, была написана известная песня про бутылку.
(27.10.15)
.
.
***
переходи на визг и вискас
с курлы и скажем гули-гули
журавль ушёл не слишком низко
к дождю который вновь продули
и снег которого не будет
а будет чёрная зараза
землёй мороженые люди
пройдут и обратятся в стразы
их слёзы небо им платочком
пусть теребят пока не вечер
и ветер не дошёл до точки
возврата задувая свечи
покуда префикс не в пассиве
балконом правь на полумесяц
переходи на что просили
измерив и уравновесив
и словно с мостика вечерний
футбол оглядывай бесстрастно
пейзаж оглаживай меж серым
и жёлто-красным.
30.11.14
.
.
* * *
В ночь с Хэллоуина на Ивана Купалу
святочная вода в проруби закипала,
выходил из той проруби страшный Лук-Пырей —
с одной стороны монголо-татарин, с другой — непало-еврей.
Гой, говорит, еси, кто еще, говорит, не помер,
я, говорит, ваш гейм, который давно уже овер,
я, говорит, царевич, звали меня Иван,
я вас качал на руках, покуда был разливан,
покуда ходил на змия, пока становился змеем,
спали вы в седельной суме моей, ни о чем не жалея,
пока я искал свое чудо, пока летело на блюдо,
сам я теперь и есть недреманное Чудо-Юдо,
сам я себя и съем, все просто — жуй да глотай,
сам себе и устрою чудоюденфрай.
А по блюду катится яблоко — все в первородной шерсти,
вкусом горько-соленое и блестит, как поддельный перстень.
В ночь с Ивана Купалы на святой Хэллоуин
духи спящих вод боролись с демонами тихих долин,
храп стоял в полнеба, свист лежал в полземли,
выходили из всех морей затонувшие корабли,
нарисуй, говорили, нас, покуда не видит глаз,
покуда последняя краска на свете не пресеклась,
потом отдали швартовы из высушенной травы,
канули в свою глубину, как за рыбой морские львы.
А по блюду — синее яблоко, не было синей никогда,
Если попросишь — покажет, если запомнишь — беда.
30.10.13
.
.
* * *
Так долго, брат мой, медленно и долго,
так дольник превращается в долину,
так никуда и не впадает Волга,
перерождаясь медленно в машину,
и поглощает нефть, как мы — спиртное,
и дышит серой, и буксует в луже…
Остановись, мгновенье, ты — дурное,
но дальше, вижу, будет много хуже.
14.11.03
.
.
ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ
В парнокопытных рощах деррида
с деревьев осыпается колбасных
бесшумно, и вечерняя звезда
как вобла залежалая, прекрасна,
зане ее не видно. Скотовод
ведет скота, как посуху рейсфедер,
и неустанно мельтешенье вод,
и бедер бег, что, право, твой бегбедер.
Я выкину в окно последний том
«Записок открывателя консервов»,
всю жизнь я выпиваю не о том,
зато прекрасно обхожусь без нервов
и печени, я почки распродал —
пусть мучается тот, кто их получит,
но эта вот вечерняя звезда…
Нет, верно, все же та. На всякий случай.
30.10.13
.
.
ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ
Вот грязная правда.
Она всегда была таковой.
И кто сказал, что нужно ее говорить всегда?
И о том, что отчим умер от лечебного голодания,
отделив картофель от говядины.
И о том, что мать вязала носки и свитера —
у нее был к тому таланты,
а потом занялась самолечением
и теперь она в самолечебнице.
У нее страшное заболевание —
она хочет быть не хуже других.
Отец, если он вообще был,
бил ребенка электрическим шнуром за то,
что тот не спал днем,
а пытался разговаривать сам с собой.
Отец был лирик,
но прикидывался физиком, —
общий удел шестидесятников.
Все они очень хорошие люди,
всем им что-то надо,
вот и ходят друг за другом,
и отбирают друг у друга любимые игрушки,
потому что любимая игрушка одного
автоматически становится любимой игрушкой другого.
И всегда не хватает самой малости,
но если посмотреть под ноги,
там лежит монета.
Только вот никто никогда никуда не смотрит.
Осталась жива прабабка,
но он ее толком никогда не видел,
хоть и жил в соседней комнате.
Разум ее помутнен, но не настолько,
чтобы не осознавать изъяна.
Двадцать пять лет она не может умереть,
потому что сердце здоровое и все органы в порядке.
Если бы не лишний вес…
А дети, с которыми он играл,
если он когда-то играл
и если он когда-то был ребенком,
выросли и спились.
Все поголовно,
никто не ушел обиженным.
Водянка,
волчанка,
разные там членистоногие и слизистые,
разные там утки медицинские с яблоками,
судно «Титаник» — все в огнях,
но заполнено нечистотами настолько,
что не может уйти на дно
даже ради Оскара.
Настоящие корабли тонут в полной тьме.
Настоящие космонавты умирают быстро,
если их корабль разгерметизирован.
Они даже не успевают как следует надышаться вакуумом.
Больше всего на свете он ненавидит
музыку по радио
и книги на развалах,
театр и кинематограф,
дающую руку
и отнимающую руку,
никогда не дает денег
нищим и уличным артистам,
никогда не участвует в драках и спорах,
потому что не о чем спорить и не за что драться.
А когда автомобиль вылетел с поворота
и переехал совершенно чужого
пожилого мужчину
и двух маленьких девочек,
он сказал богу: отдохни.
Ты слишком много трудился всю эту неделю,
тебе пора получать пенсию
по нетрудоспособности
со всеми причитающимися надбавками.
И добрые люди говорили ему:
ты не прав.
И он отвечал им:
да, я не прав.
Но если хочешь по-настоящему соврать,
клянись говорить правду,
только правду,
ничего, кроме правды.
3.10.07
.
.
* * *
Двадцать восемь лет проживая в Москве,
сорок два из них обретался в подземке,
от его стояния на голове
укрепляли стенки воздушные замки,
ну а те, которые из песка,
становились паром и отлетали.
Как столица мира ни глубока,
но его, похоже, и тут достали
и, сорвавшись с места, он был таков, —
каковым ему быть-то еще, скажите?
Вот и числится нынче в стране дураков
неизвестный солдат, занебесный житель
и, воздвигнув памятник сам себе,
где он изображает морского зверя,
гомонит печально о суке-судьбе,
в которую вряд ли верит.
1.11.13
.
.
* * *
Мне трудно говорить о вашем, когда не видно моего,
деля любовь на хриплый кашель, на ноль, на больше ничего,
и распоследнюю краюху с самим собой — на три и шесть,
тягучий спирт заката нюхать — не пить, трепать рассвета шерсть
и гладить против, и, ворчанье услышав, руки опустить,
мне трудно приходить врачами, пожарными, из горсети,
начспасом и владельцем тени, но принуждают и клянут,
когда опаздываю в темень хоть на одну из всех минут,
когда дорога звонче стали и глаже зеркала зимой.
А вы, скажите, не устали? А я, скажу, глухонемой,
я разучаюсь спать и видеть чужие взбалмошные сны.
Не тормошите, не зовите пропавших в спячке до весны
медведей перелетных стаю, сосущих лапы налету,
теперь и я меж них летаю, я к вам сегодня не приду,
и завтра, и, возможно, после, и, вероятно, никогда.
И сон, и путаются мысли в опавших грустных проводах.
Я слон, забывший о саванне, с никчемным грузом на спине,
почти невидимый словами, оставлен в новогоднем сне
совсем ничьем и черно-белом, и насмерть вбит в его пробелы.
1.11.07
.
.
* * *
Мазай и зайцы — день чудеcный.
Еще ты дремлешь, друг прелестный,
а он уже вовсю гребет.
Разуй сомкнуты негой зенки!
Толкают зайцы под коленки,
дрожит притопленный вельбот.
Вечор — ты помнишь? — было сухо,
Мазай — ни рыла и ни уха
и зайцы спали в купинах
секвой, хвощей и криптомерий…
Ах няня, ты мне не поверишь —
здесь нынче зыбь и глубина.
Очнись, зараза — Темза в холле!
А не велеть ли Сэму, что ли,
моторный катер запустить?..
Под голубыми небесами
над затопленными лесами —
допустим, к Яру — покутить.
около 1824. Санктъ-Петербургъ.
или 2004(?). Praha.
(3.10.06)
.
.
* * *
Розовый, нет — апельсиновый, нет, как пионерский галстук.
Остановись, подумай, выкури сигарету.
Памятник в центре площади почёсывает затылок,
задумался, как и ты, опоздавший к нужному светофору, —
вероятно, о том, кому он был тут поставлен.
О чём тут думать? Себе же и был поставлен.
Боже, как надоело гонять голубей с макушки!
Скульптору строгий выговор за отсутствие верной шляпы.
Слава богу, в карман не забыл положить сигареты и зажигалку.
Жёлтый, нет — золотой, нет, совершенно зелёный.
Переходи, не бойся, тебя не тронут машины.
Нет никаких машин — ни здесь, ни в иных пространствах.
Просто иди себе, твоя откроет правую дверцу.
Абсолютно зелёный. Нет пиков ни в синем, ни в красном.
Включит музыку — ты сам выбирал треки.
Только назови адрес — автопилот разберётся.
Телекинез, телепатия, телепортация — список можно продолжить.
В мирах немагических умения эти довольно редки —
не чаще редкоземельных и рассеянных элементов,
потому и пользуйся, если дано, без опаски:
кто в подобное в здравом уме поверит?
Ты же вот не веришь ни в магию, ни в инопланетных монстров,
ни даже в дружественный разум, уже спешащий на помощь, —
правда, он не в курсе, кому, и так ли нужна эта самая помощь,
когда голубой, фиолетовый. Нет, пусть будет насыщенный синий.
Фиолетовый, если ты выбрался в стратосферу.
На этот сигнал светофора переходят космос —
все оттенки чёрного с редким цветным вкрапленьем.
Задержи дыханье. Одним удаются стихи, другим картины, а третьим
вовсе не удаётся, хотя порой воздаётся, —
да, я заметил, что не всегда по вере
и точно не по делам.
Снова горит зелёный.
30.09.15
.
.
* * *
Я заболел искусством быть другим,
и вот оно несёт меня по кругу
из точки «финиш» в точку «хоть куда».
Рождение случилось хоть куда:
я был китом, а стал левиафаном,
служил котом — назначен кошаком —
найдите десять корневых отличий,
и вам положена медаль «За Всё».
Очередной рекой идя по кругу
(Течение то вверх, то вниз, то вовсе
уж вбок), не удивляюсь — устаю,
верней, не уставал бы удивляться,
но есть предел насыщенности сред,
и данная — уже одни кристаллы.
Они скрипят, как шестерни в часах,
но маятника не предусмотрели
для тиканья хотя бы.
Вот такая
теперь болезнь,
и перевоплотиться
намного проще, чем стоять на месте,
уныло созерцая, как однажды
(похоже, было) сакура цвела.
Давай пройдём по этим лепесткам
босыми загрубевшими ступнями,
впитаем бывший цвет и бывший запах.
Там — где-то — ждут (мы обещали в гости
зайти), но кем окажемся за дверью?..
25.09.15
.
.
***
Ты поди, покури, потому что вот есть мастера
на все руки, пустые, как сгнивший орех в ноябре.
Колоти в скорлупу — слышен отзвук пуховой подушки.
Да, такие пустые, как комната. Видишь, оттуда выносят
табурет предпоследний и микроволновую печь
и с улыбкою масляной материальной культуры
погружают во чрево разбухшее грузовика.
Где-то там их покой. Это яблоко… Нет, эта завязь была
изначально червива, и вот говорю: не касайся.
Ты поди, покури. Называться поэтом смешно,
непотребство какое-то слышится в слове «художник».
Я всегда опечатывался, словно клавиатура
не желала, а, может быть, и не могла извлекать
этот звук, получалось «ходужник», «худужник», «ходыжник»…
Ты поди, покури или выпей покрепче чего.
Можно вовсе без слов, оставаясь при этом тянуть
на какой-то неслышимой ноте, почти инфразвук
или ультра- — не важно, не помню, но лишь ощущенье,
лишь гармоники. Брось. Этот призвук не должно ни видеть,
ни, тем более, слышать, терпеть же возможности нет.
Так пилот на остатках бензина, так муха в сиропе…
Что-то новое? Нет. Что-то из постоянных рефренов.
Так читают часы. Замолчи, не желаю терпеть
неотвязную мать бесполезного в целом ученья.
Выключаю тебя, повернув напоследок рубильник.
Говорю: есть в отсутствии слова не глупый обет,
но потерянный рай, где забыли о скрипках и арфах,
да и слава богам, да и ты не забудь сигареты.
И пойди, покури. Или выпей покрепче чего.
4.09.14
.
.
* * *
Вот когда он прорыл туннель от Лондона до Бомбея,
его сочли врагом четырёх или даже семи народов
и расстреляли, но как-то ласково и робея,
впрочем, не до конца. Ушёл огородами под прикрытием корнеплодов,
катался на лифте от Ханоя до Лиссабона,
потом переплыл Каракумы на паруснике «Товарищ», —
расстреляли снова, формально всё было вполне законно,
но три четверти мира утопло в воде потопищ, огне пожарищ.
Говорят, государство прочего непотребства превыше,
роль же личности в истории сводится к пьянству и прочему траху.
Я бы и рад поверить, но где-то на четырёхскатной крыше
мира сидит — ни фига не бог, но нагоняет страху.
Вот и он теперь покоряет полюс на ретро-автомобиле,
жарит в огне торфяных пожаров шашлык и люля-кебабы
расстреляют, конечно, но пули не до конца отлили,
и не видно того конца, а в механику верю слабо,
и механику. У него что ни час — то осечка, то торсионы,
то песок в барабане, то сахар в бензонасосе;
электрик, опять же, запил, и бесхозные электроны
не находят ядра, потому их вечно куда-то уносит.
Вот сижу как обычно у фанзы своей четырёхэтажной,
собираю камни, но их почему-то не девять, а ровно восемь,
с половиной. Вижу — он на лифте опять катается, так вальяжно
развалившись в креслах, — ну, заплывай, будешь нежданным гостем,
напою, как водится, чаем «Железная дева»,
но созвездия на ремонте — не покажу, хоть тресни,
докажу, что слева направо не то же, что справа налево
и отправлю твой лифт по кругу вперёд и с песней,
от которой легко на сердце, но пухнут уши.
Вот он снова изобретает велосипед, покоряя нечто,
порой выводит из моря птичек или зверушек…
Бог, говорят, любит троицу, и любовь его бесконечна.
Это такой трюизм. Ты меня не слушай.
2.09.15
.
.
* * *
На станциях метро торгуют чечевицей
и джинсами вразвес, и памятью вразнос.
Вообрази себя большой зелёной птицей,
похожей на созревший медный купорос.
Меж линий A и B начертана кривая
не здесь и не сейчас придуманной реки.
Все едут лишь по кольцам, не осознавая,
что именно она скрепит материки.
Меж линий C и D встречаются созвездья,
но реже, чем когда ты смотришь в небеса,
и радио поёт последние известья:
до четырёх шагов осталось два часа.
Проходит пять минут, что менее, чем много.
Вообрази себя собою, но другим.
В полупустом метро случайно хлопнешь грога,
и радио вещает полуночный гимн.
Его и не узнать. В такой аранжировке
лишь глупая звезда падёт от ЛСД,
но Юрий Левитан читает остановки,
вагоны говорят навстречу той звезде.
Вот кофий разнесли, шербет и мармелады,
случайный журналист придумывает взгляд,
и лучше засыпать под грохот канонады,
чем вовсе не уснуть под треск ночных цикад.
11.09.14
.
.
* * *
То ли песен петь, то ли спать ложиться.
Небо, помноженное на фактор птицы,
человечий или любой другой,
сердится и стучит ногой,
говорит: идите, пока не сдуло.
Нас не любят женщины и акулы:
первым страшно, вторые желают топиться.
Говорит и показывает столица
мира, вываренного до студня.
Заходите к нам, трудовые будни,
Боевые праздники, баю-бай,
неприученный к холоду, — засыпай
до последнего волокна и капли.
Утро вечера — так и разложит грабли —
мудреней, а я бы сказал, мудрёней, —
то ли петь вприсядку с какой матрёной,
то ль по-волчьи в пляс, чтоб луна закачалась.
На колу мочало, давай с начала:
то ли в сон залечь до начала спячки,
то ли детям раздать последние спички,
перемножая огонь на воду
деля на портящуюся погоду.
Это осень — любимое время суток,
это вечные шесть или сколько соток,
это тянется тощий строй к электричке,
говорит Москва — больше по привычке,
по инерции, по забытым лекалам.
Смерть к тебе не придёт. Говорит, устала
зачищать по колосу чисто поле,
и забудь, наконец, про своё «доколе».
22.08.14
.
.
* * *
Мой брюхоногий склизкий ангел
с пучками щупальцев из глаз,
давай с тобой рванём по штанге,
как по полста в последний раз,
по паре сот блинов навесим
на подходящи дерева,
чтоб средь окрестных мракобесий
истошно заорать: Москва!
Люблю тебя, как агнец синий,
готовый сдаться на шашлык!
И нам плевать на ассасинов,
мы вырвем грешный их язык,
пустив его на заливное.
Пусть курят гадкий свой гашиш,
пока мы ходим редким строем
меж сладострастных крыс и мыш.
Ты помнишь, солнце в полнакала
Воняло, будто керосин,
когда из окон вылетало
пятьсот взлохмаченных фемин,
всех прочих крыша приманила
шуршаньем битых черепиц,
им — порожденьям крокодила —
уж не услышать звон яиц,
а мы с тобой, как два дебила,
верней, один, но на троих,
эпическую кликнем силу,
чтоб находил почаще стих,
и где-то за стеной Кавказа,
прогнав взашей его пашей,
употребим четыре таза
отжатых в уксусе ушей.
21.08.14
.
.
* * *
Да кому он нужен — твой вечный бой,
и кому он страшен — твой смертный вой.
запирает выстрел на крюк петля.
Собирай игрушки, иди гуляй
без руля, ветрил, без примет и схем.
Колобок, колобок, я тебя не съем —
несъедобен зане, зачерствел совсем.
29.03.09
.
.
* * *
мы немцы мы смертники в нас поселились ветра
каким языком ни шурши хоть шершавым хоть липким
одна немота протекает в ушные улитки
что носят в карманах дома вероятно пора
дома уносить мы на всех языках немчура
нас выгнали в холод затем что не ведали слов
способных мосты перекинуть и сети наладить
и печь растопить и бездомную кошку погладить
зачем ей слова если руки для всяких котов
чтоб шерсть ворошить и топорщить усы на параде
играли солдатиков после играли войну
и знали что строить дома бесполезная трата
времен а не времени так и остались квадрата
никчемных расчерченных улиц в тетрадном плену
все переженились и дети отходят ко сну
от смешанных браков от смеси наречий чужих
лови астану если спутник не сбили с орбиты
мы русские русские прокляты либо убиты
как в книжке и пусть их оставьте в покое ножи
и сталь не исправит и кровь не расколет гранита
22.05.08
.
.
***
Человек состоит из отдельных семечек и шелухи,
как мухи отдельны, котлеты — там паче
отдельны, отвратительные его стихи
многозначат.
Как-то он был сочинитель песен, но не свезло —
ветер спел ли, спер это счастье и вывернулся наизнанку,
китайским зонтиком, однако же, всем назло
теперь бубнит спозаранку
сей бред дидактический. Этот ужасный звук
выносить, что сор из куля в рогожу.
А еще был он доктор всяческих там наук,
но не вышла рожа
ни замуж, ни невтерпеж, ни в пир, ни в мир, и смерть его на миру
была красна вроде вареного ракообразного под светлое пиво.
Наука же не умерла, как, скажем, весь не умру,
живет и здравствует, волосата и некрасива.
Так что пой, мой барабан, трелью-дрелью своей, соловей,
замазывай веселое граффити на расстрельной стенке!
А мы такие членораздельные, что когда придет непонятных кровей
правитель-кроитель-крователь, ему не слизать даже пенки.
Мама здесь мыла раму, и мыло ее живет,
буква «рь» нарисована на трех из пяти углов квадратуры круга,
а человек все равно состоит из хватающихся за живот
восклицаний типа «давайте же условимся любить друг или друга».
23.05.08
.
.
* * *
Меня белило забелило,
меня томило утомило,
черна погонная верста,
сума бездонная пуста.
Над пирогами другоряди
брело светило на ночь глядя
и прищемило красный хвост,
и заплутало между звезд.
Так ищут дерево медведи,
не меда ради, но молвы,
так просыпаются соседи
с больной лохматой головы
под крик немого петуха,
и свет рисуют в два штриха.
Гляди, оптический обман
становится кирпичной правью,
и в безоконные дома
рубашкой пасмурной заправлен
калечный полдень, и гранит
паленым сахаром горит.
Меня любила не любила,
меня убила не убила,
хвалила втемную, черня,
хранила в холод от огня,
и проволочная стерня
шипя, кусала и змеила,
и ржавый дым плясал, звеня.
Не будь тебя, я был бы лесом.
Как я уйду, ты станешь лёссом.
Вода закрыта на засов
и состоит из голосов,
из светляков смешных расцветок,
из неразборчивых заметок
на тему «как впадать в скалу»,
и озеро храпит в углу.
22.08.07
.
.
* * *
Бегущие на живца говорят: прости,
мы знаем, кто есть приманка в ловчей сети,
но также мы знаем, какое затем посмертье;
и даже если выпадешь из сетей,
в окошко вылетишь — там золотой лиходей, —
не всякую каплю вдруг обогнешь, поверьте.
И дальше все то же, но медленней и в горсти
холодной; рискует сердце удар пропустить,
за ним — другой, и вот уже нет охоты
ни просыпаться, ни видеть цветные сны,
наверное, мы не для этого рождены,
а сказку делает былью пусть вовсе кто-то.
Итак, мы неспешно впадаем в полярный круг,
песком сквозь пальцы, течем из озябших рук,
дробимся луной, становясь полотном дорожным
мельчайшего света на неразменной воде,
что не отмечена вовсе никем и нигде,
и лоций нет, и полеты здесь невозможны.
И мы для полета, как лезвия для любви;
танцуй на поющей нити, ловца зови,
а хочешь — лети, куда не жалко трудиться, —
похоже, он сам заблудился в своих сетях,
похоже, он сам теперь у себя в гостях
вздремнуть прилег — его уже не добудиться.
16.06.12
.
.
* * *
только не говори
что у тебя болит душа
душа это кость
длиной двадцать двадцать пять сантиметров
в нее еще можно свистнуть
если правильно проделать дырочку
только не говори
что болит голова
голова это кость
диаметром двадцать двадцать пять сантиметров
иногда полая
иногда из цельного куска
там нечему болеть
а вам девушка очень повезло
слава богу что хотя бы с этим
только не говорите никому
примут не за того парня
примут оприходуют
после сами смеяться будете
только не говори
что болит
иначе придут и вылечат
и кто с тобой таким будет играть
29.06.09
.
.
* * *
не было кроме пустой любви как пустой орех
даже червям от ореха того не досталось ни капли ядра
все расщепилось пришел добрый бог велел поделить на всех
вот и делили с утра подмосковные вечера
запевали этот запой длится уже века
как в забой уходили вечер противоестественно перетекал в рассвет
а на том берегу стояла такая тоска
смертная даже смерть пряталась от нее в туалет
а мы-то все думаем кто это там уснул
не достучаться спешащему по нужде
вот и очередь номерки на руках почетный кругом караул
по нечетным же бес в ведре лампочки в бороде
бесу тому старше мира тесно ему в костях
вот и точится изнутри словно сочится вода
просыпаешься в рифму словно в чужих гостях
не было ничего и видимо навсегда
23.04.12
.
.
* * *
Капля никотина, убей лошадь,
что ночами ходит по нашей крыше!
Что она тут думает, что цирковая,
ни себя, ни времени не узнавая?
Что гремит подковами по черепице?
Оттого, наверное, всем не спится,
что идет не град, но время дурное,
что железо с неба — не дождь стеною,
что течет, опять же, не время — место,
жареный петух взлетает с насеста
и подливой радужной окропляет
всех, кто спать не может ли, не желает,
радужная пленка на вод трети.
То не ветер ветку, но ветвь — ветер.
14.04.11
.
.
ПАРОВОЗИКИ
Черные, белые, полосатые паровозики
лежат на спинках, греют чугунные пузики,
вверх колесами, трубы в разные стороны.
Им, вероятно, здорово.
А потом они как застучат молотками,
как зачирикают, заскребут коготками,
дым завьют треугольными кольцами,
засверкают сверкалками, забарабанят пальцами.
Над их домом теперь вечерняя радуга —
лайм и ваниль, кюрасао, патока,
всякое разное неопределенного цвета,
ожидание лета.
Черные, белые, прочие полосатые
паровозики пробегают — небедные, небогатые,
пароходики пролетают, колеса крутятся,
на ужин у них заводная курица,
водка-гриль и штаны с лампасами,
если бы мы были не папуасами,
не пели, как президенты, под фонограмму,
тоже были бы тама.
10.05.10
.
.
* * *
Учили на бога — не вышел бог.
Учили на зверя — не доучили.
Экзамены сдал. Что мог — превозмог.
Теперь — проживает в Центральном Чили,
в дыре с гордым именем Вилья Т. Шмидт,
среди виноградников и овечек,
но мяса не ест, не пьет, не шумит
без дела. И праведников тошнит:
ах как это не по-человечьи —
не пить вина и не бить стекла,
не думать о жизни, что истекла,
не мудрствовать и не просить пощады
у бога-у зверя. Не вышел бог,
и зверь — не случился. Что мог — превозмог.
Не выгорело — и не надо.
6.04.06
.
.
* * *
мать ее звали волга волга
отца ее звали газ
веселящий и жила она долго долго
как не живут у нас
говорила глупости понемногу
творила глупей того
как-то незваной явилась к богу
не было дома его
и дома не было дерево позвала
дерево не пришло
глина ей воды не дала
облако не принесло
огня плюнула развернулась ушла обратно
небо месила курс норд-ост
стала сама себе неприятна
словно кто наступил на хвост
деньги пускала в рост убытки
одни да ночами вой
отца ее звали крейсер прыткий
мать черной вдовой
она же имя свое не помнит
закопала где-то в саду
говорят искали нашли лишь камни
и голос чужой во льду
25.03—1.04.09
.
.
* * *
те что ни капли не пили умерли как могли
не курившие конопли косяком сошли в сумасшедший дом
ни разу не воевавшие на земле взрывают воздушные корабли
чтобы в небо пешком с превеликим тупым трудом
говорят среди нас живет отвернувшийся навсегда
не сумевший дать чтобы сумели взять не наша беда
живем в лесу мухомору молимся по прибору
колесо фортуны зовем колесом сансары
один пытается ставить на камень гору
вверх ногами другой аж на лоб выползают фары
катит камень в гору смешно до колик
ты будешь пусси-кет я белый кролик
с розовыми глазами розовыми ушами розовыми мечтами
камень свистит с горы пирамида стремится хотя бы на бок
завалиться рак на горе сердце его не камень
но свистнет как футбольный судья так и надо
всем будет красная наконец отправимся в раздевалку
почти не больно даже почти не жалко
15—17.04.10
.
.
* * *
Заспиртованной розе снится жареный соловей,
и она постоянно облизывается во сне;
анонимный безбожник мечтает вот о какой траве,
иногда о транкве, видит слова на кирпичной стене;
соловей ревет, как коломенский патефон,
роза пахнет мощнее выхлопа белых портвейнов Крыма,
но когда ты вламываешься в этот сон,
все почему-то проходят мимо,
и не можешь прочесть даже этих слов,
вероятно, ты обладатель премии за прозрачность;
«мене, текел, фарос», — начинается будь здоров —
непреложно и однозначно.
Очередная радость, спи без передних ног, —
задних не дали и даже родить забыли,
но ведь и у тебя есть какой-нибудь бог,
вот хоть этот, слепленный из дворовой пыли.
В пять утра, выходя покурить на пустой балкон,
ощущаешь медленное перетеканье в банку
соленого красного и зеленого, будучи удивлен,
выворачиваешься наизнанку,
с той изнанки дома похожи на выцветшее желе,
на жареных ножках буша спешит планктон,
у солнца четыре ноги, протянутые к земле,
у земли есть пушистый хвост, и ты это именно он.
Сам собой помавай, поплывешь, как красный трамвай, —
известное дело, земля стоит на четырех трамваях,
вернее, на остановке, растет как трава,
даже если не поливают.
15.04.11
.
.
* * *
Ели мороженое. Любили детей и собак,
правда, собак — чуть больше, правда, детей — много меньше.
Творили историю. когда наступал полумрак —
зажигали свет. Но женщины не любили мужчин, мужчины — женщин.
Жили так долго, что не хватит слов — описать
такую долгую жизнь. Спали в одной постели,
поскольку собаки, дети, прочая благодать,
поскольку надо же где-то (и с кем-то) спать, в самом деле.
Праздновали. Пели песни. Любовную лирику твердили как «Отче наш»,
впрочем, про «Отче наш» — ничего не знаю, поверьте.
Более — ничего не случалось. Даже ГБ не взяла их на карандаш.
Труднее всего рассказывать о нелюбви и бессмертии.
7.04.06
.
.
ШАХМАТЫ
Анастаксенья ходит диплодоком,
ее звезда глядит нетрезвым оком,
ее рука река и далека,
вослед лямур, смешной и беспощадный,
а впереди, в пустом саду прохладном
ревут лучи и волны маяка.
Идет-бредет несчастная элита,
в подвалах течь и крыша не прикрыта,
начинка прочь ушла из пирога,
а за душою пешки или шашки,
а оператор не дает отмашки —
и вся-то недолга его нога,
и меховые горные вершины,
рейсфедера не хватит и рейсшины,
чтоб стартовать с безвидной ноты «ля»,
а небо одиноко и скрипуче,
и город крив, и памятники пучит,
и чучела накличут короля.
Возьми себя за каменное нечто,
изобрази из глины человечка,
бесчеловечного, как в общем и вослед, —
он будет жить с е2 на е4,
он будет спать, порхая по квартире,
забыв, зачем горит на кухне свет.
17.04.08
.
.
* * *
Жил у меня на винчестере царь Кощей —
стер я его, осталось одно бессмертье.
Кушали чай с профессором кислых щей,
мир подготовив к очередной оферте,
да не случилось, пришел Мамелюк-Уллы —
много страшней Джоконды и с ятаганом,
выпил весь спирт, зубами стесал углы
и удалился чай допивать к цыганам.
Это такие люди без гор и рек,
слово их по рублю, молчанье за треху.
Жил у меня на компьютере имярек,
помер, когда случайно назвали Лехой.
В небе предвечном незаходящий топор,
правда, порою может упасть некстати.
Я от греха подальше построил забор —
горизонтальней любой многоспальной кровати, —
можете заходить, даже если на всех не хватит.
1.04.09
.
.
* * *
«Домового ли хоронят, / ведьму ль замуж выдают…»
Пушкин
«Жук-буржуй и жук-рабочий / гибнут в классовой борьбе»
Олейников
«Разум, бедный мой воитель, / Ты уснул бы до утра».
Заболоцкий
«Хорошо бы собаку купить»
Бунин.
По железной шерсти гладя
попугая ли, слона,
что ты грезишь, на ночь глядя,
будто боцман с бодуна? —
то ли куры строят куры,
то ли, утку вынося,
утопил анчоус хмурый
в формалине порося, —
в карася не обращённый,
в черепаховом пенсне,
весь в пуху, как кот учёный
ходит по цепи во сне
сей продукт эпохи свальной
меж клопами и людьми.
Растопи-ка лучше в спальной
инкунабулой камин,
умостись в скрипучем кресле,
пусть пригреется у ног
постаревший и облезлый
семирукий осьминог, —
он служил ещё полякам
у истоков belle époque,
был за то посажен на кол,
только весь с него утёк,
злому Карле под Полтавой,
дяде Джо в Караганде.
Всё пройдёт, и даже слава,
растворяется в воде.
Хорошо б ещё собаку
не купить, так просто съесть,
только нынешний оракул
на дурную падок лесть
и неточен в предсказаньях.
Не печалься, свет в окне.
Нешто где-нибудь в Казани
выпал прошлогодний снег
или вдруг угодник дамский
прибыл в неурочный час
и его поступок хамский
вас от лютой смерти спас?
Да и бог с ней, с этой смертью, —
всем когда-нибудь туда.
За окошком ветер вертит
корабли и поезда.
Вот такое оригами,
откровенно говоря,
пироги у нас с глазами
в первой трети ноября
и грибы у нас с подглядом,
но они ушли в запой.
Плакать, милая, не надо,
Эдду Старшую воспой,
в деревянной кацавейке
встреть на станции меня,
где на каменной скамейке
сплю уже четыре дня.
Не грусти, моя отрада,
в антрацитовом пласте!
Вот он я — твоя награда
с погремушкой на хвосте.
13.02.15
.
.
* * *
человек человеку товарищ и брат
говорил со стены мне черный квадрат
начиная от злости краснеть
и белел так словно клыки волков
будто волосы выцветших стариков
серебром обращалась медь
человек человеку типун на язык
отвечал я как отвечать привык
диплодок и соборный вой
там за линией фронта тоже живут
но страшнее яви их сны наяву
и привой поедает подвой
там за линией фронта жил один бес
по пятам таскался железный лес
все труха и ржа до корней
но покуда скрипит на походе рать
нас учили словом одним играть
а случилось жить в тишине
человек человеку лезвие влет
дребезжит динамик коли не врет
я же режу ему провода
а на станции мга лишь дымная мгла
кем ты мне была если выжить смогла
впрочем не была никогда
закипало медленно и лило
покрывало красное протекло
угловатыми каплями вод
лучший угол в мире где тебя нет
я молчал и слушал как на обед
колоннада нестройно идет
их посадят на вертел загонят в фольгу
человек человеку соль на снегу
если ты различаешь цвета
отличи от мрамора доломит
нас не то хранит чему плач в зенит
древесина в форме креста
открестился плюнул пошел домой
там за линией фронта лютой зимой
завывало чему немота
много больше пристала но этот рык
так отчаянно напоминал язык
что искрили в зубах провода
23.04.09
.
.
* * *
… И собственность на средства производства
возникла как-то вдруг, сама собой,
но прежде отвалилось государство.
О нет, я что-то путаю! сперва
была монархия, потом — еда.
(Или еда, а после — за культуру).
Итак, сначала: тело, погружаясь,
куда — не помню, — кажется, в песок,
выталкивает столько, сколько может,
порою больше собственного веса.
Чего? Песка. Да нет, песок — в часах,
да, прежде и превыше — механизм,
но он и стал песком, теперь течет,
а здесь — вода, монархия и средства,
к примеру, достиженья производства
на душу потребленья населенья
средств производства и его предметов
не только группы А, но группы Б
(возможно, ситуации).
Да что я?!..
Сначала и четырехстопным ямбом,
а можно — пятистопным, и хореем…
Каюр кормил собак, а мама мыла раму
(определенно, это не хорей).
Вначале было слово и оно
витало, нет — безвидно и сухое,
как та вода, в которой, погрузившись,
мы отделяем тело от не-тела,
и что-то там еще про день и ночь,
про эврику, про отраженный луч,
про гадов, рыб, креветок, пиво… Кстати
и виски. Нет, со льдом, но без воды —
в нее как раз мы что-то погрузили, —
сасими (нет, не принято. Сашими.)
от суси поминутно отделяя.
Вначале было, а затем — не стало.
Ну, то есть, эмиграция, скитанья,
Шанхай, кафешантаны, то да се,
шалтай-болтай, Петрополь, паутина,
сплошные тараканы в голове,
скорей всего, подцеплены в Гонконге,
в дурном отеле. Можно было лучше
найти, но денег не было тогда
и собственность на средства… Потребленья?
Ну да, потом — монархия, кадеты,
нет, октябристы, кончилась еда,
свобода, слово, вроде, тоже
закончилось, или свобода слова,
но все куда-то шли, потом казаки
(или киргизы), помнится, палили
по воробьям, — да нет, по чем попало,
как водится, упало производство,
с конвейера сошел с ума последний
нето монарх, нето какой другой —
он называл еще себя гарантом,
но вышел срок, в ремонте отказали,
не согласились даже за пиастры
(или дублоны? Что у них в ходу?),
дым повалил, шумела ночь, камыш
деревья гнул, как мыши на крупу
церковные сходились, осеняя
(озеленяя) красною звездой…
Ну, значит, так: он влез на броневик,
лицо его сияло государством,
но как-то беспричинно и нечетко,
и было про войну, потом — не вспомнить, —
гражданскую… За право гражданина
на человека. Словом, тот, с ключами,
их не впустил, потом спустили трап
до самого огня и все пошли
куда-то, но за дымом только слышно,
и дым был бел, и яблоками пахло,
и дышится легко, хотя дышать
теперь не нужно. Вспомнил. Это средство
передвиженья называлось «лодка»,
и все взошли на борт. Или взойдут.
Или взойдем.
И места хватит всем.
14.04.07
.
.
ВИРУС
Он был повеса и помера,
он был пожара и потопа,
он был поноса и потравы,
но все же помер и — постскриптум:
мы всех учуявших учуем,
мы всех увидевших увидим,
мы всех услышавших услышим,
мы всех унюхавших унюшим,
а не унюшим, так придушим,
а не придушим — хрен бы с ними,
не хрен, так редька, — тоже в кассу.
А в кассе пыль и денег нету,
а в кассе злой кассир мятется,
ну, то есть, квасит по-кассирски.
Непохмеленные народы
тупы, опасны, агрессивны,
но апатичны в то же время;
похоже, это, все же, вирус
неустановленной природы.
Природоведы бьют тревогу,
экологи слегка икают,
электорат идет по пиву…
Похоже, это — вправду вирус.
Один бухой электорашка
устроил выборы и вборы,
в бору беря бромид барбоса,
но всяк барбос есть гранд в хотеле,
но всякий гранд есть лорд с лорнетом,
и тот лорнет — такой гляделка,
в который ни фига не видно.
однако, ежели устроить,
однако, ежели усилить,
однако, такоже, утроить,
то на троих как раз и хватит,
но вирус-то каков! — бушует,
как шуба в буше и без башни,
но кто усилил и утроил,
им кость слоновая — не за фиг, —
они уже в кустах и дремлют,
хотя уж это точно, — вирус.
29.03.04
.
.
* * *
Пропало мясо с книжных полок,
исчез стиральный порошок
из бензобака, лишь осколок
луны пристанище нашёл
в пустой кастрюле, где солили
незамутнённый шоколад,
да неприкаянный промилле
дорический терзает лад,
в его глазах такая мука,
что даже мёртвый возопит;
из кучи пемзы и бамбука
растёт торгпред и неликвид
врождённый, как по расписанью,
хронический, как по часам,
он важно шевелит усами,
хотя откуда быть усам
у помещённых в санаторий
для эстетических калек?
Из всех случившихся историй
я помню только мокрый снег
в две тысячи втором, в июне,
и, может быть, ещё грозу
в начале мая. Гений сплюнет,
а я на базу отвезу
и обменяю семь на восемь
по курсу колбасы к рублю.
Какая нынче длится осень —
как в бок торпеда кораблю!
Прощай, который дохлый помер
в компостной куче важных слов,
в сверкающем металлоломе
найдётся мясо для козлов,
а для козлиц — парфюм и шуба,
хотя они и так в меху.
Пусть Хали-Гали Шуба-Дуба
за вас замолвит наверху,
а мне пора, задраив люки,
из биосферы в хроноклазм.
Ревут несметные науки
и крошки сыплются из глаз.
08.02.15