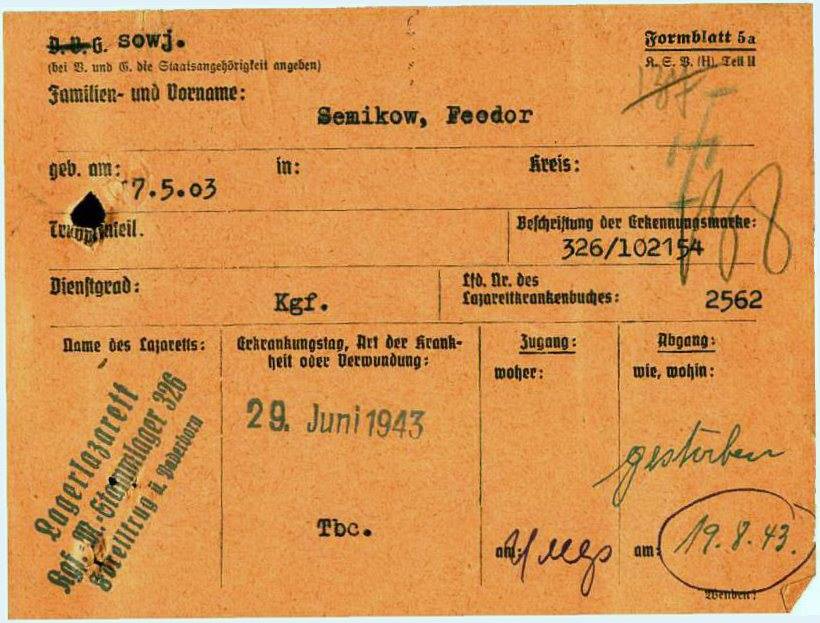Владимир Липилин — Том 4

Владимир Липилин
1974, Краснослободск, Мордовия
Живет в Москве
Прозаик, журналист
Работал собкором в журнале «Огонёк», газете «Гудок».
В настоящее время в:
«Русский Пионер»
«ОДНАКО»
«Православие и мир»
#
Фотоработы Владимира в ФИНБАНЕ
facebook
.
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 1
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 2
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 3

подсунули воспоминание. девять лет прошло. всего- то. а вернуться туда уже невозможно. кошка Юрий Николаича… он специально для нее картошку жарит, мышей ей ловит, а когда уезжает из деревни, насыпает по амбарам- сараям корму сухого и фотографирует на память… каждый раз, говорит, навсегда прощаемся. и тем радостнее встреча. Юрий Николаич давным-давно понял секрет любви человеческой: надо реже встречаться. а к кошкам, утверждал, это совершенно не относится. «Когда у тебя появляется кошка — все остальные кажутся некрасивыми», — писал я девять лет назад. эх, Юрка! всегда знал, что будет именно так, что будем вспоминать потом мелочи и сопли будут наматываться на кулак, и будут мешать нам произнести то, что в минуты радости хотели

Ностальгия
Мы прилетели в предгорья Кавказа и долго ехали по серпантинам. Оператор Бахтияр умирал за это время три раза. Ну, по крайней мере, обещал и произносил вполголоса «Щас сдохну».
Накануне он словно великий египтятнин отмечал день рождение кота (два дня), как сын гор — свадьбу лучшего друга (четверо суток), и его отнюдь не останавливало, что друг живет давно в Израиле, ну и приезд дагестанских родственников (всю прошедшую ночь, так принято).
Он сидел, откинувшись на заднем сиденье и то и дело прикладывал ко лбу запотевшую бутыль минералки. Минералка оставляла на лбу сочувственные влажные поцелуи.
Таксист почему-то считал своим долгом нас приободрить, настроение у него было хорошее и полный рот невысказанного.
«Путин то, Путин се. Карачи нахальные и душные, а черкесы – ну, красавцы я тебе говорю, все до одного.»
В какой-то момент Бахтияр наклонился к нему между сиденьями и тихо спросил:
-Извините, а у вас здесь ослов е..ут?
— Я? Нет, — испугался таксист, — и крепче вцепился в баранку.
Всю оставшуюся дорогу он молчал, смотрел на древние зеленые горы, которые, что бы ни случилось – лень, парень бросил или наоборот, денег нет – не забывают расцвесть.
Баха дремал.
Гостиницу мы выбрали заранее, точнее, выбрал напарник.
-Ты не представляешь, какие это прекрасные люди – муж с женой – Тофик и Марина, сто лет в гостеприимном бизнесе. Сказали, не приеду, обидятся, яйца отрежут. А еще обещали по старинному рецепту голову барана приготовить. Я куплю. И ты попробуешь, брат, и поймешь, что такое по-настоящему вкусно.
— А ум будет? – говорю.
— Кто?
— Ум бараний будет?
Он сообразил, рассмеялся:
— Целая палата номер шесть. Я тебе говорю. И вообще – где ты видел голову без мозгов?
— Много раз!
— Ай, красавчик, — хлопнул он меня по плечу. — Люблю твой юмор. Все будет, женщины будут, глаза будут, щеки будут. Жди.
— Какие женщины?
— Какие, какие, живые, — хохотал он.
Тофик и Марина вышли встречать нас, как звезд сериала. Вернее, Бахтияра, как мы его звали, Баху. Ну, и меня заодно.
Поселили нас в роскошных номерах по соседству, в каждом жилище – две комнаты с хрустальными люстрами, с балкона вид на буковые рощи, в которых парил прошедший дождь и радостно, как это принято на Кавказе, пели птицы.
Целый день мы снимали людей в горном ауле, математичку школы, которую украли в прошлом году. Самыми интересными вышли синхроны, которые сразу было понятно, не войдут в репортаж.
— Погоня была? – со знанием дела спросил Бахтияр.
— Конечно, — ответила красивая математичка. – Отец на лошадях братьев выслал. И стрельнул им в след для скорости. Случайно патроны перепутал и одному брату чуть-чуть над седлом взял. А в патроне была не соль, а дробь. Они дальше не поехали. Ножиком из попы дроби выковыривали. К фельдшерше стыдно было идти. А мы ждали их ждали в шашлычной, и вина напились.
Орел парил. Реки шумели. С вершины одной горы подозрительным взглядом провожала нас сторожевая каменная башня, пока ее не заслонила другая гора.
Вечером наполнил ванну, только погрузился, слышу за стеной голоса.
— Ноги, ноги, шире.
Подумал йога или просто вечерняя зарядка.
Дальше был плеск воды и стоны хозяйки.
Было неловко, вылез, ушел в дальнюю комнату.
А там, за стенкой, Баха назвал проституток, но не для того, о чем можно сразу подумать. Баха играл с ними в карты и в города.
-Тебе на опять на «а» золотце, — слышал я его голос.
На мгновение возникала пауза, а потом раздавался женский утробный бас.
— Ардженикидзе!
И дикое ржание.
Чуть позже я вышел на балкон и не смог увернуться, я увидел этих жриц любви, они курили. Две были обычные, типичные, а третья выше даже меня, комковатая тушь «Ленинград» на ресницах, вытянутое лицо, все это напоминало певца Сергея Пенкина.
— Володя, — выпустив струю дыма в какое-то созвездие, сказала она. – Вы почему к нам не идете? Мы как раз сейчас будем пульку расписывать.
И опять заржала.
— Не, — говорю, — я не умею.
-Так и знала, — сообщила она тем двоим, тоже отравляющим воздух, -женатый.
Написал Бахе сообщение «Ты уверен, что это женщины?». Он не ответил. Я включил телевизор и уснул.
Утром из соседнего окна под задорные крики летели какие-то чемоданы, пиджаки, остроносые туфли.
— Тофик стоял внизу и ловил это добро, приговаривая:
— Радость моя и сладость. Белая моя госпожа. Не смотрел я на ее задницу, просто сосиски отнес.
— Замолчи свой рот, — кричала Марина.
Увидев меня, она приветливо улыбнулась.
— Приходите на завтрак.
А Тофик с добром, как бродячий пес, поплелся куда-то.
По всей видимости, за день они как-то налаживали отношения и вечером опять в ванной Тофик рычал.
— Царица моя. Мед сердца моего. Прямо съел бы тебя всю.
А голову они все-таки приготовили. На вечере были все. И дамы, с которыми Баха играл в города, и старик в лыжной шапочке с юной блондинкой, и другие дамы в вечерних платьях с мужиками в рубаха с коротким рукавом.
Дымилась баранина. Звучала лезгинка. Тофик выкидывал ноги вперед, ходил на носочках, и поочередно закладывал в ритме за спину руки. Марина тростниковой лодочкой бесшумно плыла по кругу, а в конце Тофик, почти сев на шпагат, поднял с пола губами, брошенный ею платок.
Мы вышли с Бахой к роще покурить. Сотни, тысячи жуков-светляков, летали, перемигивались, посылали друг другу какие-то сигналы, которые человек никогда не поймет.
— Скажи, итальянцы? — произнес Баха, разглядывая огонек сигареты.
— Итальянцы.
— Не, Марина с Тофиком живут как итальянцы, ну подичее маленько, зато тем и интереснее.
— Эт ты по Родине просто тоскуешь. Когда-то же и ты жил в горах.
— Да, слишком поздно родился только. Раньше я бы с юности был занят настоящим делом, кого-нибудь пас бы на лошадях, или лошадей бы выращивал, разбоями бы на дорогах занимался. А сейчас вот уехал в Москву. И че?
— Человеком стал.
— Да каким человеком?
— Слушай, но никто ж не неволил.
— В том-то и фишка. Никто. Стадный инстинкт. Там лучше. Все как в фильме ужасов. Думаешь, побуду немного в этом стаде, где подонковская насмешка получает в тыщу раз больше лайков, чем добрый юмор. Правда, на словах все за добро, правду, нравственность. Ну, про лайки эт я так, для наглядности. А потом вот так однажды откроешь рот, а из тебя такое польется. Ни хера себе! — подумаешь. А уже поздно. Сердце захвачено.
— Ладно, — говорю, — че начинаешь-то? Нормально ж общались.
— Ну, да. Мы не любим грустных тем. Все на позитиве.
— Да не в этом дело. Почему-то у людей, живущих в стране Россия, такие разговоры возникают только по-пьяни. Но они ж потом – как сон, как утренний туман. Пойдем, покажу тебе, как умею лезгинку танцевать.
— Точно? Умеешь?
— Увидишь.
Танцы были в самом разгаре, воздух медленно наполнялся предчувствием драки, но драться было некому.
В предгорья спустился туман. Мы до утра подпевали каким-то песням, из которых знали хорошо, если только куплет. Утром вынесли на веранду кофе перед отъездом на самолет. Белая войлочная пелена застилала предгорья. Под ногами путался почти квадратный щенок. Баха взял его на руки и протер сырое от влаги пластиковое кресло. Щенок же подумал, что с ним так играют – лизал ладони, урчал, тявкал и радовался.
А через год Баха иммигрировал в Канаду.

Временами я ненавидел его за дебильные выходки и злые шутки. И клялся, что больше никогда, никогда вообще не нажму зеленую кнопку, если там будет светиться «Кемаев». Но, конечно, это было смешно. Если Юрий Николаевич появлялся в чьей-то жизни, то он появлялся в ней навсегда.
Нет, он-то спокойно мог без тебя где-то существовать, писать в контакте «шизофренические» посты, собирать грибы и ягоды. Не хватало его тебе. Как хорошей книги, как некоего арт-хаусного кино. Юра был и есть Художник. Причем, не только по работе. Любой банальный, повседневный случай он облекал в сюжет. А если этому сюжету не хватало драматургии или финала, он либо становился этой драматургией сам, либо шел пешком за кульминацией ночью, допустим в Пензятку. Или из Нагорного Шенино ехал на своей Ниве, у которой на кочках спинки сиденьев складывались так внезапно, что казалось- ты катапультировался. Он всегда эти сюжеты завершал. И каждый раз все было не предзадано, а творилось здесь и сейчас.
-Юрий Николаич, а где соль?
— Соль в свинье, свинья в избе. А вокруг еще куча таких же свиней.
Входишь в дом, там люди за столом, а солонка – действительно фарфоровая свинья, вмещающая в себя пачку соли.
— А чего у тебя такой высокий туалет?
— Не высокий, а двухэтажный.
— В смысле?
Ну, на втором этаже женский будет, на первом мужской, а между ними дырка.
О нем невозможно было не рассказывать и не писать. В некоторых моих текстах Юры хватало даже на двух совершенно противоположных персонажей. Но всякий раз оставалось ощущение, что Кемаев все равно больше и неразгаданнее, чем они.
Однажды мы с ним говорили про вчерашний день.
Была весна, таял снег, солнце припекало, он сидел за уличным столом в Нагорном Шенино, а я вытаскивал из доски гвозди. Не помню, зачем.
— Володь, а ты когда-нибудь задумывался про день, когда тебя не станет?
— Ну, если только утром иногда, после поездок сюда.
— Да я не про это. Просто интересно вот. Какая будет погода? Среда это будет или понедельник? Представляешь, дни пойдут дальше, а для тебя отсчитывать они будут совершенно другое. Все есть, а тебя нет. Чудо же. На которое всем насрать.
— Че эт тебя плющит, Юрий Николаич?
— Просто задумался. Дочерей жалко. А вас-то, гадов, я сразу забуду. Всех. Там другие заботы будут, другие измерения ценностей. Вот ты же уезжаешь в командировки и тебе там ни до чего. Так и там.
Хорошей командировки, Юра! Прости за все. Увидимся как-нибудь.
На память ник
Виноват, как это часто бывает, опять во всем Пушкин.
Правда, не тот в этот раз.
Деревенского Пушкина зовут Коля. И Дьявол.
Это он попросил подкараулить его как- нибудь трезвым и сфотографировать «для кладбища».
На шестой день это удалось.
-Только в интерпол не давай, — сказал он, сел на стул и закрутил одну ногу об другую винтом.
— Куда? – конечно, я понял, о чем он.
-Ну, где эти всякие ваши, как их? Сети, епт.
Трезвый Коля преимущественно ворчлив. Речь его строится, как у системного администратора с кондовым юзером.
— А почему, Коль? Если портрет хороший. Ты ж не лося на опушке разделываешь. И не овцу пялишь.
— Да иди ты. Овцу. Подъ…вашь тут.
Мат он использует как бы на излете всей его экспрессивной конструкции, поэтому выходит как-то по-доброму. Так некоторые говорят «убил бы», с подтекстом «сволочь, но люблю, гадину».
У Коли довольно крепкая для ежедневных возлияний психика. И адекватная оценка действительности. Кроме того, он безжалостно самокритичен.
— Вот он, я, — говорит вслух никому – Человек – просравший свою жизнь. Как вообще-то и многие. А че? Просто однажды наступает момент, когда перестаешь себе врать, что все еще впереди.
Или вот.
Сидят мужики возле одной бани. Отмечают рожденье котят.
Старая, цвета моря, бутыль-гусыня у них на столе. Коля по улице идет с заказа, поршневые немцу (так он зовет какой-то трактор) менял. Они ему машут, пойдем, дерябнем за жизнь новую. Повернул. Ему налили. А он из кармана свою смешную чекушку вынул и поставил на стол.
Какой-то уже утерянный кодекс чести.
Но речь не об этом.
Сфотографировал я Пушкина, и перестала зарастать к моему дому народная тропа.
То соседка Римма Серафимовна гладкой палочкой постучит в крест моего окна.
— Ты ж фотограф? Смоги уж как-нибудь сына моего неходячего зафотографировать. На могилку.
То у магазина попросят для бабушки.
И главное, чтоб вот жизнь, где они смеются, с прутиком за коровой идут, возвращающейся с лугов в пыльном свете закатного солнца, ни за что, сразу руками замашут — макияж не тот, платок дрянный, а на памятник — сами идут.
Вообще для пожилых женщин узелок ТУДА – это нечто сакральное. И вещи-то какие! За все прежние годы таких себе не позволяли. А нА смерть – запросто. Зачем? Кто оценит?
— Сама знать буду, что в ненадеванном.
Пытаться понять это — совершенно напрасная трата времени. Еще один культурный код, ставший нелепым и чужим.
…Сын. Через месяц 50 будет. И ни одного за это время шага не сделал. Смотрю на него – ножки игрушечные, как у тряпочных кукол. Плечи – как кабина КАМАЗа. Глаза – ясные-преясные, еще столько же просидит. Другой сын гужбанит на их пенсии. Гоняет так, что мать нередко по соседям кочует. Третий вообще глаз не кажет, хоть и обитает в двадцати километрах. А уж эпизоды из прошлого ее слушать – не хватит никакого сердца. Мученья одни, ни часу для себя. А жива.
Елизавета Михайловна. Татьяна Петровна.
Судьбы у всех и разные, и похожие.
Про персоны собственные – обиняками и скупо, про детей и внуков – инстаграмно-преувеличенно, неправдиво-сказочно.
Из мужиков, кроме Пушкина, не изъявил пока желание фотографироваться никто. Говорят, им по большому счету «п.о.х.е.р», че там будет, когда их не будет.
Впрочем, в деревне, особенно при коллективе, слова – вуаль, намек, стеб, а никакое не личное высказывание.
И только бабушки колготятся. Волнуются. Я хожу со стулом по их садам в поисках места.
Усаживаю, делаю один кадр, и мы говорим. Вот прямо начиная с самого детства, время у меня и у них есть пока.
Я смотрю, как тени веток яблонь колышутся на их лицах, как плывут облака, которых в таком сочетании над этим садом не будет больше никогда. И — щелк.
Неожиданно дольше всех портретирую Пушкина.
Он все время задирает подбородок, делается важным и изображает Ленина. Раз пять порывается уйти, два раза произносит «за…бал», присутствие объектива его корежит прямо.
— Надоедливая какая у тебя работа, — говорит.
— Так не на паспорт делаем, Коль. Учитывай важность момента.
-Ты знаешь, а я вот че думаю. Я передумал. Ну, умирать. Давай в другой раз.
— Нет, Коль. Другого раза не будет. Для подвигов не надо мыть ноги.
-Ты думаешь, я боюсь умирать? Не. Я вот че те скажу. Смотри. Пятьдесят восемь лет назад, ну примерно, меня вообще не было. То есть, я и был неживой. Но как-то же с этим справлялся где-то там. Не ссал. Наверно. Не помню щас. А теперь-то уж и подавно. Я ж был там. И ниче со мной не случилось. Хотя жизнь, конечно, сука, сладкА.
Он вдруг внимательно всмотрелся в меня.
-Это че у тебя там на лбу? Комар, штоль?
В этот момент я нажал.
А комар улетел.
На фото Коля зимний

Машина времени гораздо ближе, чем кажется. Ее прокат почти не стоит ничего. Достаточно уехать в деревню, и так легко заблудиться, пропасть. Несмотря на все эти джипиэсы, навигаторы. Простое русское поле и теплый туман делают тебя недоступным, невидимым. Это очень клевое ощущение. Хочется так навсегда. Пропасть и все. Как альпинисты.
Снега почти нет еще. В облаках солнце выглядит нарисованным кружочком, а потом и вообще исчезает. Пока ты лазишь по оврагам, балкам, лощинам. След лисы или зайца почему-то роднее, чем присутствие человека.
Два часа, три. Наслаждение. Просто не знаешь, куда идти. Листаешь поля, как страницы. И не страшно вовсе. Чешешь и чешешь. Потом показываются из земли какие-то крыши. Маленькие, игрушечные, затем – человек. Крыши оказываются картофельными ямами.
Человеку я привычно кричу:
— Мужик, а мужик, погоди-ка, мужик.
После такого любые персонажи обычно на всякий случай прибавляют шаг.
А этот дерзкий..
— Чо, бля? — тормозит он.
Сначала кажется, что мужик в наушниках. Но потом я узнаю деревенского Пушкина. По совместительству Дьявола. Это клички у него такие.
— Чо, бля? — повторяет он, когда я подхожу ближе, угадывает, расплывается, лыбясь. За пазухой полушубка, как щенка, он поддерживает самогонную полторашку. Потому и чешет из соседней деревни огородами.
— Е-мае, — удивляется. – Тебя какая п..да сюда занесла?
Я задумываюсь. Говорю, что его предположения в корне не верны и то, что он назвал образом, мотивирующем мои поступки, в общем-то, тут не при чем.
— Знаю, знаю, ты идейный.
— Идейный?
— Ну, — спотыкается он, — красотомыслитель, епт.
Мы идем с ним по задворкам, молчим. Да и о чем говорить, когда такой туман, иней? С Пушкиным, а уж тем более с Дьяволом? Так все понятно, без слов.

ПРИХОДИ КО МНЕ ПОПЛАКАТЬ
отрывок из повести
Когда старухи впадали в кручину, они метали в амбарную дверь финские топоры:
— Хэйя!!!
Дед Куторкин собирал шитый-перешитый брезентовый рюкзак и шёл в лес. С недавних пор лес стал для него субстанцией родной и утешительной. В нём всегда можно было найти подтверждение тому, что природой (то есть Богом) все так досконально продумано — до мелочей, — что просто смотри, вникай, запоминай, не мешай и будет тебе если не счастье, то уж покой-то обязательно. Ну и воля.
Сыромятиной к высоченной красной сосне были прилажены крепкие палки, что делало ствол подобием лестницы. Нужно было только обхватить себя и дерево веревкой, защелкнуть карабин, и, двигая эту страховку вверх, шагать по поперечинам, карабкаться, будто ты электрик и хочешь дать людям свет.
А там, на высоте, в кущах, где на американский манер сооружен был целый шалаш-дом, дед сидел в специально сделанном кресле на подстилке из старого овчинного тулупа, и зырил в бинокль. Простор открывался широкий — плывущий у горизонта воздух шевелил дали, холмы, поросшие сосной и дубом, и кусок дороги.
Иногда Куторкин убивал время так до ночи. И не один день. А случалось — «везло» сразу. Свист тормозов, звон стекла, глухие удары от кувырков и наконец — тишина. Отличительная от нормальной тишины — немая.
Дед Куторкин быстро, насколько умел, сигал с сосны, вприпрыжку чесал к месту аварии. Говорили, что изгиб, кусок этой, в общем-то, глубоко второстепенной дороги, являлся собственностью силы нечистой, колдовской, которая на удивление быстро управлялось с ямочными ремонтами и не клянчила денег у государства. Гладкая там всегда была дорога — катись.
Если человек в машине оказывался ещё живой, дед совершал первую медпомощь и по мобильнику хозяина вызывал скорую. Сам уходил.
Если же автолюбитель делался трупом, дед каким-то цепким, волчьим взглядом обозревал периметр, ловким движеньем обхватывал покойного за запястья и тащил на спине к лесу. Там уже из орешника готовы две слеги, посерёдке — большая ветка сосны. Шесть километров без дороги, но и не по валежнику, тайной тропой Куторкин тащил водилу через ручьи и балки. Не забыв, впрочем, прихватить из автомобиля документы усопшего.
Иногда с разбившимся приходилось повозиться — двери клинило. Но в рюкзаке у деда имелись странные приспособления, да и сила ещё не покинула.
В деревне старухи покойного обмывали и обряжали в допотопные, пропахшие плесенью одежи. И радовались, радовались:
— Наплачемся теперь вволю, да?! — блестели глазами они.
Дед же Куторкин шёл в сад, усаживался на яблоневый пенёк и дышал в закат. Дыхание было видно. Куторкину казалось, что ничего, кроме вот таких вот походов, у него в жизни и не было.
Ни молодости бахвальской и желаний перевернуть этот мир, ни блужданий по стране в поисках счастья, ни родной деревни и бабок, которые и не казались вовсе старухами, и он играл с ними и с их внуками в футбол, ни кобылы со странной кличкой «Аня, вернись».
Ему казалось, что он давно сошёл с ума или спит. И всё ему снится.
***
Он исчез из бабушкиной деревни внезапно, когда кончился август. Исчез и всё. Не заперев двери, не сказав ничего на прощанье. Мы искали его везде.
И только племянник, кажется, был происходящим вполне доволен. Как-никак дом достался, хоть в глуши, но все же — кирпич бордовый, прочный, с клеймом. Влёт уйдёт.
К тому же амбар, телескоп, велосипед — наберется добра. Виниловые вон пластинки. Разные там негры — Монк и прочие. Одних лыж семнадцать пар. Не ахти какое, но наследство.
Наутро Куторкин колотил для покойного гроб. В последнее время он заметил, что делает это даже с большей любовью, чем лыжи. Хотя нет, всё-таки нет. Крышку гроба по настоятельному желанию старух он сооружал с маленьким оконцем, вставлял туда стеклышко. Так покойный, утверждали бабки, типа, как в трамвае, мог ездить с того света на этот. И сообщать новости. Ага, кому-нибудь. Из них.
Куторкин не спорил, он вообще явился сюда, в леса эти, чтобы немножечко продлить этим старухам жизнь. Он шёл без расспросов к одной заброшенной на краю леса избе.
Там бабки чинили ритуал. Поджигали глухариные крылья, дед становился затылком на запад, закрывал глаза, а они его этими крыльями окуривали. Размазывали по нему дым. Потом ставили лицом к сеням и с размаху — «хэйя» — втыкали в доску над его башкой два топора. После этого старику дозволялось зайти в «адову избу», где стоял вполне себе сносный компьютер.
— Цифра, цифра кругом, — затаённо, как будто только что прочли Откровение от Иоанна, твердили старухи. — Мы все видели. Мы все знаем. Спи, — кому-то невидимому бормотали они.
В компе торчал чёрненький модем. Дед шерстил социальные сети, блоги, ворошил «Яндекс» в поисках упоминаний о покойном. И вуаля. Старухи, впрочем, и так могли погрузиться в транс плача.
— Плакать теперя над любой человечей душой можна, — певуче и жалобно говорили они.
Но всё ж необходимы были подробности пусть бестолковой, но жизни. Детали. Все добытые сведения о покойном Куторкин обсказывал двум сёстрам. И они начинали.
Три дня с отлучкой на «сикать и пить» плакали, исцарапывая криками горла свои, рыдали. Пока не падали и не засыпали. Откуда только слёз столько?
Дело в том, что старухи были деду Куторкину сёстрами, мордовскими кузинами. Одна имела диплом осеменителя крупного рогатого скота, другая служила мирным почтальоном и любила втыкать в деревья финские топоры. Но в обеих старухах сидело то, что было больше их профессии и навязанных социумом привычек — традиция и память.
Старшие женщины рода научили их когда-то плакать. Вот по сути ими они и были — плакальщицами. От матери к дочери переходило это умение. Свадьба — их зовут. Оплакивать свободу, милое прошлое и переход в неизвестное будущее. Не притворно оплакивать, не понарошку, а проникаясь, живо все представляя и вводя себя в этакий транс. Из которого выход — двое суток мучительного бреда и боли. Похороны — за ними на лошади или машине едут. Узелок всегда готов. Хорошей плакальщице заранее говорили: «Приходи ко мне поплакать».
— Сталин умер — маменька семь дней плакали, — вспоминала Урсула.
Брежнев почил — уже сами сёстры причитания сочиняли — не на бумажке, в голове.
Никаких канонов. В каждой местности по-своему. Фольклор. И потом на каждый случай — плач разный. Сам человек преставился, без посторонней помощи — одно. Громом убило — другое. Коли с перепою концы отдал — третье.
А в быту как положено — антагонизм. Смешливые были сёстры Марьяна с Урсулой. Сено мечут в копны — мужики кряхтят, а они языками, что бритвой, орудуют. Впрочем, и мужья под стать. Ни одного угрюмого. А как приедет кто посторонний:
— Аде, урницят.
Прямо сразу перевоплощение дикое. Всё своё неудавшееся, непоправимое, саднящее вспомнят, про покойного подумают и рвут воздух так — кошки в обмороки падают. Даже самая старая выпь с озера не сравнится.
Их уважали больше бухгалтера, продавца или председателя. Они были навроде артистов, которые исполняют песни как бы о ком-то другом, но в них все-все-все про тебя и твою такую маленькую, хрупкую жизнь. Вместе с ними над ней легко поплакать. Пожалеть сначала себя, потом покойного, а затем и весь этот мир. А после пойти как-то существовать дальше, пытаться ценить (хотя бы несколько дней) то, что имеешь. Такой вот катарсис.
В день третий деда впрягали в телегу, гроб с покойным еле усиляли положить внутрь. И горестно, и смешно. И вот это всегдашнее умягчение сердец ниточкой мысли: мы-то пока ещё живы…
Дед Куторкин копал могилы загодя. Называл это физкультурой. Когда появится покойник, за три дня много чего надо успеть сделать. А тут ещё яма эта в три метра. Не одолеть. А каждый день для разгона крови — это ничего. Это даже бодрит. И веночки от ветерка шелестят. Друганов проведать можно, крапиву с них порвать. Посидеть, вспомнить.
С кладбища, после похорон, шли — старухи круги чертили ножиком, чтобы смерть за ними не следовала. А на другое утро деду Куторкину надлежало стать заместителем. Ну, покойного. Вообще-то полагалось надеть на себя его одежды, но, поскольку все было инсценировкой, он оставался в своем, шапку с какардой милицейской только напяливал.
Сидел, выпивал самогон, сотворённый старухами из хмельных шишек, и заливал им про загробный мир байки. Иной раз так рассочиняется, что и сам поверит. Страшно засыпать становится. Но все равно надо. Чтоб не сойти с ума. «Спи», — говорил он сам себе.
ЭПИЛОГ
рисунок фрау Шпигель
В декабре снег рассыпчат и дивен. А у бабушки всегда к нему пиетет:
— Когда идёт снег, — говорит она, — то кажется, что и гадостей в мире нет больше.
Я катаюсь на лыжах прямо с крыши нашего дома. За неделю с той стороны, где сад, а за ним среднестатистическое русское поле — наметало целую гору под скатную жесть.
Я проделываю лыжню, а потом мы довершаем её трамплином из негодных листов шифера, засыпаем снегом, смачиваем водой. Восторга в сердце два ведра. Даже если падаешь. Бабушка стоит в сторонке и смотрит на меня, заснеженного. Потом «невытерпливает», тащит из сарая свои лыжи. Коротенькие, «летящие», других, как мы помним, дед Куторкин не делал.
Раз скатывается со мною, потом ещё один. Щёки её становятся румяны, белее снега прядь выбилась из-под шали. Запыхавшись, садимся на ребристую вершину крыши, откуда в обе стороны скаты. Труба рядом с нами. Пахнет детством — временем, когда все ещё были живы, теплом.
И вдруг внизу мимо сада Чёрной по полю, утопая в снегах, идут дети мои, жены, кого любил и бросил кого. Многие, по правде говоря, сами ушли. И кажется, что правильно сделали.
Мы зовем их варежками, улыбаемся:
— Лезьте к нам, лезьте к нам.
— Не, — качают они головами. — Дел много. У нас там эта… как её… жизнь.
А нам почему-то так смешно (жизнь у них), и мы хохочем, остановиться не можем:
— Вы уверены?
И тут голос какой-то непонятно откуда: «Мы все видели. Мы все знаем. Просто надо отдохнуть. Спи»

Жить красиво
(Специально для Юлии Марьиной)
А снег такой сочный, богатый, как мех соболя на хвалящих, волнующих его руках, шел два дня. И дети высыпали дикие, как африканцы. А с ними и их родители ни разу не уставшие, готовые продолжать валять дурака, ваньку, снеговиков, чужих жен, а потом понемножечку, холодненькую, развернув на санках походный привал. Стаканчики в карманчиках, бутылочка у сердца. Праздник, чай, провожаем. Да не один.
И я вовсе не лучше, взял лыжи охотничьи и поехал на троллейбусе в лес. Сошел на остановке, проплелся деревенской еще улицей, постоял. Заброшенный фруктовый сад будто шептал что-то голыми ветками через сыплющее на него. Не разобрать.
Как вдруг мужик. Спит. Прямо на тропке. Ладони под небритостью лодочкой. Ноги сбились со стежки, и нету силы их уговорить, наставить на вектор правильный. Он и бросил их бессовестно в сугробе, а алкогольное вялое туловище бережно прямо на тропку. Я поднял его еле, поставил.
— Иди потихоньку, — говорю. — Туда, -машу. — К людям.
Мужик обернулся и так по-доброму, расслабленно улыбнулся. Но тут же вдруг взглядом потух, как перегоревшая лампочка.
— Некрасиво, — сказал.
— Чего некрасиво? – задержался я.
— Пойду некрасиво,- продолжил дядька. — А жить надо наоборот.
И вот пока бродил я по лесу, пока разводил костер, жарил на нем хлеб, шел к остановке все думал и думал, как жить? Ну, чтоб красиво. Разное лезло в башку. И хотелось стать лучше, терпимей, добрее.
В троллейбусе сквозь запотевшее окошко увидел, как двое полицмэнов ведут под руки к служебному уазику человека. Аж пот прошиб. Протер окошечко: нет, не мой. Мой в кожанке был и с капюшоном.

«Пока ходишь — надо ездить», — говорит один мой эпатажный друг.
А чем я лучше?
В выходные взял охотничьи лыжи, сел в автобус на автовокзале, через полтора часа вышел у нужного поворота и полетел.
Настоящее счастье почти никогда не имеет в своей составляющей энергии денег. Деньги – средство добраться до условий, при которых это счастье может возникнуть или нет.
Запомнить, запомнить, чтоб впоследствии использовать как лекарство. Через время все равно запорошится бытовым хламом. И надо будет ехать добывать снова.
Как хорошо, что все не наше и временное. Хорошо, что все не навсегда. Стужа подчеркивает ценность жилища и тепла. И ничто так не подчеркивает жизнь, как зима, хотя годы принято измерять летом.
«Страна у нас не визуальная, — говорит один режиссер,- но зачастую настоящее творчество и возникает там, где вроде бы и снимать нечего».
И правда – здравствуй, русское поле, я твой вообще не колосок… пылинка с проселочной дороги. Фона никакого. Смотришь – небо, а через неуверенное тире горизонта — такого же цвета земля. Ну, сосны справа. Ну, заброшенный домик лесника с сараем для сушки шишек.
И глупо думать, что ощущения даются извне.
«Вне» может быть любое. Вопрос в том, есть ли что-то внутри тебя?
Если не пусто, то какая-нибудь внешняя мелочь, нелепость могут вытащить что-то незнакомое, удивительное, рожденное вот прямо «здесь и сейчас».
А ты думаешь, что все дело в море. Море – внутри. Просто, когда ты до него доехал, ты создал условия. Ничего не отвлекает, телефон выключен. Хотя зрительный контакт, да и осязательный тоже важен.
Впрочем, я-то море вообще терпеть не могу. Какие-то жирные или силиконовые тюленьи тела. Да и шумно там, гамно.
Мне нравится вот это бесконечное ничто. Я старомодно полагаю, что жизнь — это большое приключение. А география и менталитет сюда всегда добавят наипрекраснейшего абсурда.
В рюкзаке — пупырчатая курица, нога свиньи и водка. Несколько бутылок водки. Консервы и колбасу товарищ запрещает привозить.
Мы выпиваем, чтобы (не признаваясь в этом, конечно, себе) обманчиво и хотя бы на время приблизить ощущения детства. Ощущения приближаются, а детство (чего врать) нет.
Мы ходим за водой по узенькой тропке в ручей, варим щи в печи, и видим через окно, как лохмотьями валит, пахнущий мамой пришедшей с мороза, снег. Если выйти – он залепит-закроет глаза: угадай, кто это? Такой снег бывает раза два за зиму, и то весной, когда у подъезда прощаться так не хочется. Снег – всегда добро, если ты, конечно, не дворник и не коммунальщик на грейдере. Снег умягчает сердца и предметы, он кружит фонарям головы.
В дыре из-подпечки торчит с нарисованными маркером глазами компьютерная мышь. Для большей убедительности по пластмассовой спине написано «мыш», для мягкого знака места не хватило. И кошачья миска перед ней.
Мы сидим и пытаемся преобразовать опьянение в некие смехуечки, в поиск радости. Мы не судим не и толкуем этот мир. Во-первых, потому, что лень. И зачем портить такой день? А во-вторых, потому, что мир всегда больше, чем все твои мотивировки и логические связи о нем. Как только тебе кажется, что ты какой-то его кусок объяснил, ты тут же попадаешь в тюрьму собственной концепции. Все на свете одновременно становится и хуже, и лучше. Просто «хуже» всегда очевиднее, оно заявляет о себе громче.
Поздним вечером мы победоносно выходим попИсать с крыльца. Это экзистенциональное, мужское. А в небе приветственный салют из звезд.
Ночью в кухонных часах ломается кукушка. Она просто вылетает и застывает посреди своей дороги.
***
Утром я отправлялся на тех же лыжах в районный город Краснослободск. Фотограф и единственный житель деревни, вышли со мной за околицу дорогу показать.
— Вон, видишь, — сказал абориген, -справа лесной язык, внутрь не суйся, там валежника дохера, обогнешь лес и увидишь на горе город. Километров тут двадцать всего.
Речка Рябка, которая встретилась мне на пути , в месте брода – голая, холодная вода. Снял ботинки, завернул штаны, лыжи на плечах, как у прыгунов с трамплина, когда уже приземлились.
У торфяного болота встретил двух черных норок. Они сплетались и катались кубарем. Толи любились, то ли дрались.
Обогнул указанный лес, а там еще один выступ, а за ним второй, третий.
И тут до меня дошло, что впереди-то еще больше река. Мокша. В переводе с санскрита «катарсис». А вдруг и она не замерзшая?
Лед вперемешку со снегом, впрочем, стоял. Проталины с водой виднелись только посередине. Шагнул одной лыжей, второй. Держит. Добрался до середины, на телефон во внутреннем кармане куртки пришла смс-ка. Она была настолько громкой и ошеломляющей в той тишине и высоких берегах, что покатилась эхом по руслу. Я присел и растопырил в стороны руки, как идиот.
Когда выбрался сквозь кусты ивняка, райцентр уже проступал вдалеке. Сел на лыжи, как на доски, закурил. И придумал рекламный ролик для сотовой компании.
Идет рыбак по реке. На плече ремень, на ремне, соответственно, ящик. В руке бур. И тут ему на телефон приходит сообщение. Рыбак кладет ящик с буром на лед, лезет во внутренний карман пухлой куртки. В этот момент лед под ним проваливается, куртка быстро напитывается. Что тут говорить, тонет он.
Дальше — крупно, планирующий ко дну телефон, с сообщением от абонента Жена: купи корм рыбкам.
И слоган какой-нибудь: мы здесь и по всей России!
…До города оставалось километра четыре. Туда за мной на машине должна была приехать жена.
Снова, растрепанный, пошел снег. Два раза я оглядывался, и ни разу не увидел следов.

Каждый год, в январе, у вОронов, которых мы все знаем под латинским прозвищем сorvus corax, происходят свадьбы. Как правило, из гостей только лоси, зайцы, лисы, пара белок и дремлющих сов. Кроме этого, естественно, поля и лес. Вместо угощений — танцы. В блеклом небе две черные птицы делают тулупы, исполняют мертвые петли, заходятся лезгинкой. Воздух морозен и чист. Звук крыльев напоминает поединок рапиристов. И так недели три. Потом где-то в соснах гнездо, все дела. Впрочем, незадолго до этого, осенью, вОроны-дядьки выходят в отъезжие поля. И смотрят куда-то в даль. Как будто оттуда должен поступить ответ на вопрос: зачем? Зачем всегда все повторяется и никак не надоест?
То, что мы заблудились, стало ясно не сразу, а когда с разбитой тракторами колеи уже невозможно было вернуться. Лес вплотную подступал к тому, что звалось когда-то насыпью. И лужи уходили из-под колес роскошно, будто при отливах моря.
— Раз уж все равно ничего не поделать, давайте хоть песни петь, — предложил я.
Водила глянул на меня хмуро, вздохнул матом. Но отвлекаться было некогда, нас болтало из стороны в сторону, как тряпочных. Мобильник иногда оживал и Главред районной газеты с заднего сиденья уазика умудрился прислать смс: «Может, не доводить Полковника до совершенства? Он гневается».
И следом еще одно:
«Сука, Т 9. *до бешенства»
Но я все равно зычно, с надрывом под профессора Лебединского, запел:
— Озеро надежды, все, как есть прими…
Такие строчки из припева еще недавно очень известной песни нередко исполняет моя жена. Причем, делает это неожиданно, обычно в ситуации, когда, все кажется мрачнее некуда.
А потом, смеясь, добавляет:
— Вот так живешь -живешь и даже не догадываешься, что жена-то у тебя оказывается самая настоящая ё-бо-бошечка.
***
Нас стаскивало в колеи, и мы едва не переворачивались набок, в стекла летели ошметки. Но Полковник давно за рулем. Автомобили его, если так можно сказать, прогрессировали до уазика от отцовского «Москвича». Он из тех, кому можно позвонить в три часа ночи и приедет, где бы ты ни был. И так получалось, что всякий раз я впутывал его в свои приключения. Нас вытаскивали тракторами, автобусами, раз был даже эвакуатор.
А начиналось все эти истории, как правило, с довольно невинной фразы:
— Да ладно. Знаю я эту дорогу. Я здесь на лажах бегал. Жми, давай.
После с вероятностью в сто процентов мы тонули, садились на днище, рвали тросы. Обязательным условием к действу были наступающие сумерки или непроглядная темень.
— Пиши лучше про политику, — говорил мне Полковник после таких вояжей. – Сидишь себе в кабинете, звонок сделал – три полосы накидал.
-Боюсь, таланта не хватит, — совсем без ерничанья пререкался я. – Там такое вытоптанное поле. Так что нам остаются лишь роскошные и отзывчивые ебеня.
В этот раз дорогу вознамерился показать Главред. Мы даже совершили пятидесятикилометровый крюк, чтоб забрать его. А он облажался. Сидел теперь сзади, кряхтел, вздыхал и разочарованно бубнил «Да как же я. Вот- е-мае. Ну, правильно, я ж сюда с водилой ездил».
— А вот я вам историю расскажу, — начал было я, и мгновенно, без замаха, получил прямой удар в челюсть от ручки на панели, которая имеется только в уазиках.
Полковник ухмыльнулся.
— Смотрю, намастрячился ты по бездорожью гонять, — сказал я, когда перестали сыпаться искры из глаз.
Он скосил взгляд, но промолчал.
— Ну, правда, че вы, — старался не унывать я. – Все же классно. Мы в путешествии. Вот она – жизнь. И мы по ней едем. Другой у нас нет. Пока мы ждем каких-то значительных ее проявлений – она просто берет и проходит. Значит, надо сегодня радоваться тому, что есть, и попытаться это как-то раскрасить.
— А ты уж плоскую коньячную бутылочку из кармана откупорил, что ли? – наклонился ко мне Главред.
Хотя не было никакой бытолочки.
***
Не без проблем преодолев еще несколько ям, мы все же каким-то чудом, выехали к деревне.
— А, вон мы куда попали, — говорил Главред. – Теперь все ясно.
Хотя нам-то ясно как раз ничего не было. Какое-то полуразрушенное двухэтажное здание, оказавшееся потом школой. На баскетбольной площадке репьи, как деревья. В одном из колец птицы, подчиняясь ментальности, «из говна и палок» соорудили себе дом.
А дальше – бурьян, крытые железом и шафером крыши. Однако дороги по улице все же существовали, их на квадроциклах, как пояснил Главред, наделали охотники.
Две улицы друг от друга разделял овраг. По его, заросшему ветлами дну тек довольно внушительный ручей. А нам надо было на другую сторону. К единственному жителю этого пространства.
Машину оставили у бывшего здания администрации. Пустыми своими окнами оно смотрело на памятник солдату. К солдату льнула, прижималась девочка. На постаменте значилось почти 200 фамилий. Типовой советский монумент производил в этих местах впечатление дикое. Все вокруг в разрухе, а он покрашен серебрянкой, ухожен и по-прежнему смотрит в светлую даль.
В пакете с продуктами, прикупленными мной для аборигена, бутылка водки пробила дыру и высунулась, словно хотела запомнить дорогу. Но мы-то знали, что вернуться ей не суждено. Спустились в мокрый овраг, преодолели мостки из двух бревен, поднялись по склону.
Шли, заглядывая в незапертые избы, а там музеи ремесел и быта: печи, раскрашенные смешными несуществующими в природе птицами, такие же нереальные сцены из жизни. А по стенам, в рамках, портреты хозяев и тех, кого любили они.
Дом Сереги стоял на противоположном конце села. Мы топали и топали. Ни дыма из труб, ни лая собак. Только солнце заливало пустую улицу.
У избы единственного жителя нас встретили козы, штук шесть или восемь. И два козла. Мы постучали в окно, но никто не ответил. Постучали сильнее – тот же результат. Впрочем, дверь была незакрыта. Поклонились в проеме с Главредом, чтоб не треснуться лбами, прошли через сени. Хозяин, свернувшись калачиком, дрых. На стуле, в кадке, рос цветок с нежно зелеными листьями, будто завтра весна. В шаблах на сосдней кровати дремала кошка. Когда я протянул к ней ладонь, понюхала и боднула, замурчала. На печи лежал, как раненый, раскрытый малиновыми мехами баян.
— Сергей Алексеич, к тебе люди приехали, а ты насупился как бык и молчишь, — сказал спящему Главред.
Срегей Алексеич неспешно повернулся от стены, сел на кровати, не открывая глаз, машинально застегнул на рубахе верхнюю пуговицу и хрипло произнес:
— Я привитый.
— Во дает, — засмеялся Главред. – Не узнаешь, штоль?
Тот открыл глаза:
— Николаич, я тебя, когда ты еще по доскам топал в сенях, по шагам узнал. Извини. Третий день негодный. Почти четыре месяца ни капли в рот. А тут прививку сделал.
— Выходи на воздух, полечим тебя, — скомандовал Главред.
Ну и мы вышли. Полковник, закрывшись в палисаднике от коз, а главным образом, от козлов, дразнил одного конфетой. Безрогий, встав на задние ноги, пытался достать ее. И так жутко почти по-человечески что-то орал.
Главред сел на скамейку под окном. Достал из пакета бутылку, откупорил ее.
— Ты будешь? – спросил меня.
— Мне, — говорю, и воздуха хватит.
— Стопки неси, — крикнул Главред в темень сеней.
— Чево? – появился Серега в шерстяных носках на крыльце. — Эх, ты, сколько вас.
— Стопки, говорю, неси, — повторил Главред. – Дорогу нам потом на кладбище покажешь.
— Погоди, не ори, — как от вбитого в голову кола, сморщился Серега. Покрутился на месте: – Я зачем же вышел-то без галош?
Опять скрылся в террасе.
— Где уж только находит? – удивлялся Главред. – Лес же кругом. А он в умат.
Сергей Алексеич опять явился без стаканчиков, но со штанами, хотя одни уже на нем были – спортивные, с полосками. Он снял куртку, бросил ее под ноги, покрутился снова, будто чего-то искал, сел на скамейку и стал надевать поверх спортивных штанов камуфляжные.
— Ты где ж наклюкался? – не унимался Главред
— Погоди, не ори! – недовольно, но по-доброму ворчал Серега. — В Синдрове был, у свояка. Он потом меня довез на тракторе. Жена его мне коз подоила. Возьмете молока? Я его вообще терпеть не могу.
Мы отказались. Главред сходил в дом за стаканчиками. Но вернулся с эмалированной кружкой. Нацедил.
Серега надел куртку, шапку.
— На, — протянул ему Главред.
Абориген влили в себя, тыльной стороной ладони зажал рот, чтоб не полилось обратно, в глазах выступили слезы.
Я портретировал козла.
— Не снимай, — простонал Серега. — Не снимай те говорю.
— А то че? Молока не будет?
Навел камеру на него.
— Уди, — замахал руками.
Главред разъяснил, зачем нам на кладбище.
— Как же, помню всех, — сказал хозяин села. – Провожу.
Но вскоре мы поняли, что никуда он с нами не пойдет. Его штормило.
— Ой, — запел-застонал он и опять стал крутится. – Ой, похож, понос у меня, — и прижав коленки друг к другу, почти гуськом, посеменил за дом, где скворечником стоял туалет, а за ним – огороженное жердями картофельное, а дальше — глухой, почти синий, лес.
— Ладно, отдыхай, — сказал главред вернувшемуся Сереге. Того слегка трясло.
— Простите, ребятки, — сказал он. – Что вот уж так получилось, — прижимал он одной ладонью другую к груди. — Не дойду, похож, я с вами.
Главред протянул бутылку солнцу, словно собирался налить, поглядел на просвет.
— Эт те много, — сказал. – Чекушка есть какая-нибудь?
— Погоди, не ори! Не знаю.
Главред налил полную кружку, хряпнул ее, занюхал перчиком из принесенной нами банки. Оставшуюся жидкость (чуть меньше половины бутылки) отнес в дом.
— Пойдем, — мотнул головой, — сами все отыщем. Че мы кладбище не найдем?
— Козы бы не ушли за вами, — откуда-то простонал Сергей Алексеич.
Но козы увязались. Трусили шеренгой как будто по своим делам. Повернешься, топнешь ногой – врассыпную. И только козел, что без рогов, стоял с наглой рожей, не двигаясь, и взгляд его вопрошал: «И че?». И тут каждый раз к нему подходил другой козел и запрыгивал сзади.
— Тьфу, — ускорял шаг Полковник. – И тут пидарасы.
— А ты поживи с одними и теми же бабами, — хихикнул осмелевший Главред.
— А на что же он тут существует? – спросил я газетчика про Серегу. – Пенсия?
— Какая пенсия, ему 56 лет. Так, сестры присылают. Они у него где-то на Урале живут. Но он и не просит. Че ему много надо, что ли? Все свое. За хлебом зимой на лыжах, в другое время — пешком. Так-то он хороший мужик, добрейший, смешной. Слова всякие старинные до сих пор использует: «усейко», «благо», «шатоломный», «с полупиздиной». Мы тут приезжали как-то за грибами, мяса ему привезли, риса. Пока шарахались по лесам, плов нам такой офигенский сварил. Шабашить иногда ходит. 12 километров тут до ближайшего обитаемого села. Пока не пьет – деньги есть. Его звали переехать в то же Синдрово. Жилье давали, работу предлагали. Хрен, говорит, вам. Я вольный. Вместе со своей деревней уйду.
***
Я был в этой местности всего два раза. Года в три, а в следующий раз, когда бабушку хоронили. Маму привезли сюда в шесть лет к прабабке Александре из города Тавда Свердловской области. Бабушке было некогда с ее заполошным любвеобильным сердцем. Изредка она наведывалась к нам с очередным кавалером. Веселая, бойкая, разбитная. Выпьют за встречу, а у отца был баян, на котором он почти никогда не играл, а кавалеры бабушки (все до одного) всегда были готовы. И вот она в пляс, с частушками, с голосом звонким, отчаянным. А утром уже в дорогу. Иногда я видел, как мама беззвучно плачет, когда бабушка уезжала. Мама же росла с прабабкой. Мужиков в доме не было – дядьки и отец остались в немецкой земле. Недавно я нашел документы о захоронении прадеда. Он покоится в концлагерной братской могиле. И странно ощущение от цифр, когда прадед погиб, он был младше меня на целых шесть лет.
***
Чем дальше мы шли, тем больше удивлял размах села. Всюду крепкие сараи, амбары, дома, на пиках скворечники. Заходи и живи.
В 80-е годы 20 века здесь обитало почти две тысячи человек. Школа, почта, две пекарни, ферм одних штук пять. Два раза в день из райцентра по той самой насыпи, что разворочена теперь, автобус. Тогда же на кредиты немецких и японских банков за деревней стали вести из Западной Сибири на Украину газопровод для доставки голубого топлива в некоторые европейские страны. Трассу назвали Уренгой — Помары — Ужгород. Наивные селяне радовались – цивилизация. Собственно, из-за этой цивилизации село и заглохло. Асфальтовую дорогу, что стояла в планах, строить тут попросту запретили. Насыпь разбили. Хотя и через то, что от нее осталось, проезд сегодня официально закрыт, о чем сообщают по всему лесу красные таблички.
Так в двух километрах от дома Сереги потекли подземной рекой по трубам миллиарды долларов. (Пропускная способность объекта— около 30 млрд кубометров в год). А над огородом два раза в день в одно и то же время стал пролетать сторожевой вертолет. Абориген неизменно выходит помочиться ему вслед. И совсем не по причине ненависти к хозяевам народного достояния, а для восстановления какой-то своей маленькой справедливости. Как индеец условного штата Айдахо.
Перевязанные книги и подшивки журнала «Итоги» (его больше всего зимними вечерами любит читать он) оставили в бывшем магазине под прилавком. Правда, подшивки все за 2010 год. Но для Сереги ведь жизнь Москвы, да и в целом страны, не более, чем событие, творящееся, где-нибудь на Луне. Для него гораздо актуальнее сейчас укрепить окно в чулан, чтоб как в прошлом году не сломал его медведь. Тогда он смог просунуть через раму только голову. А Серега сплющил об нее ковш, что висит теперь на гвозде с внешней стороны бревенчатой бани.
***
Кладбище так и не нашли. Часа три лазили по разным тропам, однако они неизменно приводили нас через молодой березняк в черный перед зимой лес. И досада на себя крепко сжимала сердце. И отчаянье чертова парадокса сжимало глотку: предки становятся интересны, когда ни за что на свете ты не сможешь с ними поговорить.
Той же дорогой выбрались на шоссе, отвезли Главреда. В город прибыли уже при фонарях. Зашли в магазин, купили две бутылки водки по ноль семь. У кассы кривлялась-понтовалась толпа юных россиян, в черных масках, в черных капюшонах. Мотня до колен, голые щиколотки. Первая мысль, всплывшая сама собой: чужие. Просто в обличье человека.
***
А ночью снилось, что иду по бесконечному полю, где утром лег первый снег. Зачерпываю его, умываю лицо, и не переставая почему-то плакать ору неизвестно кому: простите, простите, простите меня!
Очнулся, жена гладит по голове и шепчет:
— Все, все, все.
Прижимает лицо мое к своей шее и тихо, в макушку, поет:
— Озеро надежды, все как есть прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми…
Тут же явился кот, бессовестно прошелся по головам, затрещал, и стал намекать, что раз уж не спим, можно как бы дойти и до кухни.

Дым
Впервые за много лет ездил по просторам родины, что называется, для себя. Никто от меня ничего не ждал. И не тяготило ничего. Тем более, телефон там работал только на холме. До холма два километра. И это очень крутые ощущения. Это прямо пантеизм – растворение в ландшафте.
Ты вдруг забываешь, что ты – это ты. Пользуешься не словами (даже в голове своей), а сразу образами. Видишь все действие сразу, картиной, а не последовательно — схожу за дровами, принесу воды. Ты — часть интерьера или пейзажа. И начинаешь чувствовать, как сквозь твое сердце идет допустим снег, который хорош для разных дел. Или ощущаешь всем нутром, как топится печь, что ей трудно продраться через метель, и она поначалу чуть-чуть дымит. А через два дня даже начинает казаться, что никакой Москвы-Помары-Ужгорода вовсе нет, это фантом.
Да что там Москвы – Путина нет. Вернее, ты про них вообще, вообще ни в какой связи не вспоминаешь. И про телевизор не вспоминаешь, и про компьютер тоже. Ты просто выпадаешь из привычной реальности. Прямо на своей шкуре испытываешь, что бытие определяет сознание.
Трещали полынью, лазили с камерами по заброшенным деревням вокруг Ошевенска. С точки зрения местного и (насколько это в тех местах возможно) трезвого человека, мы лентяи и прожигатели жизни. Потому что кому надо то, что никому не надо? Что может рассказать старая, заснеженная покрышка от трактора, лежащая в поле о самом поле?
-Вот так и кончается русский мир, — говорит мне румяный писатель Кукенгейзер когда в одной из деревень мы не встречаем ни единой души, только кривые избы.
— Ну, потому что здесь он русский, говорю я. – А немецкий у немцев не кончается, что ли? Все мы в матрице злого маркетинга — все на продажу. Или где бы,ничего не делая, добыть столько денег, чтоб еще больше ничего не делать.
— Ну, ты эта, — говорит подельник. – Чушь-то не пори. Лучше выпей. Вон как раз и столик со скамейкой. По легенде где-то на этом месте Александр Ошевенский чуть не получил п..ды от местных.
— Выпить отказался?
— Не. Он же исихазтом был, ну, молчальником по-нашему. Ни с кем не говорил, все время не вслух, а про себя, молитвы читал. А они думали вые…ся.
— Сейчас в моде почти такие же тренинги. Людей отправляют в глухомань на неделю. Чтоб они молчали, ни с кем не говорили. Говорят, это дивно прочищает мозг.
— И кишечник. Ты чо… Нынешний индивид окочурится в деревне на настоящей еде. Все давно мутировали. Это мы с тобой такие красавцы тренированные. А не грустно, Вов, правда ведь? Все, что нужно миру есть у него. И все должно умереть. Человек наделяет это какими-то дебильными этими ах, как же так, русь-тройка. А самого заставь каждый день печку топить – повесится на второй же день. Город победил деревню. Ты видишь это своими глазами и они тебе не врут. Она уходит. Без лозунгов и стенаний. Тихо. Просто уходит и все. Таковы современные реалии, никакими проектами и указами ты это не остановишь. Надо проще относиться. Деревня давно начала загибаться потихоньку, земля, да,не оставляла человека голодным, но и богатым не делала. Видя, как люди живут в городах, какой дурак будет добровольно копаться в навозе? Но мы-то с тобой радоваться должны, что всю эту самобытность, непохожесть успели увидеть. Нам дали поглядеть.
— Ладно, — говорю. — Потопали дальше. А я бы вот хотел стать исихазтом.
— Совсем с ума сошел. Вот зря ты от выпить отказываешься. Ношу с собой этот коньяк, ношу. И главно, мне не дает. Фашист ты, вот ты кто.
А потом мы брели по роскошному снегу и сошлись на том, что оба-два в следующей жизни хотели бы стать железнодорожными цистернами.
— Я вот хочу быть цистерной с коньяком, — размечтался Кукенгейзер.
— Угу.Тольяттинским.
— Вредный ты. Злой.
Утром, на последних словах «Символа веры» (там, где «… чаю воскресение из мертвых и жизни будущего века…) дверь в сельский храм отворилась и в проеме возник Коля-Пушкин-Дьявол. Зашел, оперся о косяк, снял друг об дружку по свинячьи взвизгнувшие сапоги. И оставил их у порога сиять мокрым блеском.
Шерстяные носки прихожанина изящно гармонировали с воротничком торчащей из- под куртки сатиновой рубахи. И носки, и воротничок были цвета малины.
Коля чинно прошествовал по центральной ковровой дорожке в середину храма, сквозь расступившуюся паству. Поздоровался за руку с батюшкой, обходившим с кадилом интерьер. Приложился к иконе, чуть-чуть не рассчитал расстояние и гулко треснулся лбом об оклад.
Крестные знамения его при этом были похожи на какие-то хаотичные действия, он как будто всей своей щепоткой зачеркивал себя перед спасителем, внимательно и строго наблюдавшим за ним от ворот алтаря.
Служба, между тем продолжалась, Пушкин стоял смирно, но недолго, минут десять или даже пять. А затем вслух стал учить бабушек какой огарок свечи надо затушить, а какой оставить пока.
Прихожанка Мария, тоже любитель прямо на литургии громко подискутировать с батюшкой, одернула его.
— Дьявол, провались, — совсем не зло, а с некоей просьбой произнесла она. – Налил с утра зенки – накой в храм тащишься. Богохульник.
Он посмотрел в ее сторону и глаза сразу стали плаксивыми.
— Я? Хуль… Бого… хульник?
Тихонько подошел к нему, приобнял за плечо и повел к выходу.
— О, корреспондент, елки -палки, — изумился он и хлюпнул носом. -Ты где пропадал-то? Полгода. Полгода я без тебя тут прозябаю. Веришь – поговорить не с кем? Деревня дураков. Я прикрыл дверь, отделяющую храм и тамбур.
— А ты чего нарядный-то такой с утра? – говорю.
— Каво? Праздник, чай.
Он оперся на мое плечо, впихнул одну ногу в малиновом носке в сапог – брючина осталась сверху. Другая послушно зашла внутрь голенища.
— Восход солнца празднуешь?
Он повернул голову.
— Испортился ты совсем в городах. Загадками говоришь.
— Празднуешь, спрашиваю, чего?
— Ты че, не. Солнце. Солнце – светило. Обокрали меня вот.
— Кто?
— Добры люди, хто. Бог мне так сказал. Во сне, правда. Просыпаюсь – ну, думаю, в могиле лежу, сверху так давит. А это меня кто-то под два матраса засунул, чтоб я не замерз. Пятнадцать тыщ нет.
-Идем провожу тебя.
— Погоди. Он снова совершил щепоткой зигзаги, зачеркнул себя в спину стоящим.
— Нук, высунься, — говорит. – У магазина там ментов не видать? Не хочу с ними. Участковый там стоял. Кто-то им рассказал, что меня обокрали. Задолбают теперь. Придется на кого-то думать. А я не хочу. Как я рад тебя видеть, ты не представляшь. Матери карточки твои показал – она плакала.
— Она ж умерла.
— Ну, ты дундук. Говорю же: во сне.
Спустился по ступенькам, заглянул за угол, Нивы участкового у магазина не было. Коля смотрел в щелку, сооруженную чуть приоткрытой дверью. Кивнул ему, как Юстас Алексу.
— Извини, — говорил он у церковных ворот. Я дойду сам. Тока про 15 тыщ никому.
— Завтра газеты напишут.
Коля улыбнулся не совсем контролируемой улыбкой.
— Все херня. Заработаем. Главное, знаешь че? Я тут всем нужен.
— Ну ты эта, в прелесть-то не впадай.
— А эт че такое?
— Не выеживайся.
— Блин, как я по тебе соскучился, он пожал мне ладонь и я в который раз отметил, что она раза в два больше моей.
И пошагал.
… Вечером поехал на велике в магазин. Сухие мои дрожжи в маленьких пакетиках истребили мыши. Хлеб было замешивать не на чем. В отместку я представлял, как тех мышей пучило и они взрывались даже может быть.
В распятье окна Коля-Пушкин-Дьявол подбивал новые штапики. И не по пальцам попадал – протрезвел, выспался. Мелкие гвозди торчали у него изо рта.
— Печку не пробовал топить, — крикнул я.
Он выплюнул гвоздики в оадонь, положил в карман. И посмотрело на небо.
— Да, похож пойдет скоро. Тучи, видишь, какие сливовые нагнало. А ты картоху, шароебник, не выкопал.
— Кто сажал, — говорю, — тот пусть и копает.
— Ну да, видал, сегодня батюшка с лопатой, как с миноискателем по твоему позьму крутился. Зачем же он у тебя насажал, если все бурьяном заросло, за лето ни разу мотыжить не приходил. На тебя рассчитывал?
— Ты у него спроси. Я сказал, чтоб оставил. Захочешь, говорю, в январе свеженькой, придешь, сугроб разгребешь, два корня копнешь. Так на всю зиму и хватит.
— А ты с подъебом, — ухмыльнулся он.
— Мы живем в северной стране, Коль. Как у тебя с пионеркой?
— Какой пионеркой? – он слез с маленькой лестницы, присел на поперечину.
Я ближе подошел.
— Казанову-то из себя не строй. Из Пензы зазноба твоя, которая, как ты говоришь, никогда не носит трусов, всегда готова.
— Запомнил. Без трусов, конечно, хорошо.
Он помолчал.
— Слушай, а у тебя было такое? Вот живешь с женщиной, карасей ходишь ловить, карбюратор вместе перебираешь, а потом раз, как будто тебе кровь другую влили. Поменяли ее как будто. И прям ненавидеть начинаешь, как она ест, как смеется. Вроде все, как всегда, а ты с собой ниче сделать не можешь.
— Хемингуэй называл это – что-то кончилось.
— Вот да. Умный был мужик. А ведь пьющий, — усмехнулся он.
— Было, Коль. Не переживай. Ты не одинок. Но толку-то от этого.
— Все лето тут прожила. А вчера утром уехала. Отправил я ее.
— С пятнадцатью тыщами?
— Тебе бы прокурором работать.
Он опять помолчал. Из сапога торчал молоток.
— Зато она меня под два матраса запихала. Проснулся: в могиле думаю. А потом понял: чтоб не замерз.
Из магазина вышла продавец Антонина.
— Я ведь щас прикрою лавочку, — крикнула она мне.
Прислонил велосипед к стене.
— Че Дьявол-то у тебя на одеколон клянчил? У него ведь пятнадцать тыщ умыкнули.
— Он не дьявол, он Пушкин. А Пушкин – человек, — зачем-то сказал я.
А дрожжей в магазине не оказалось.
На память ник
Виноват, как это часто бывает, опять во всем Пушкин.
Правда, не тот в этот раз.
Деревенского Пушкина зовут Коля. И Дьявол.
Это он попросил подкараулить его как- нибудь трезвым и сфотографировать «для кладбища».
На шестой день это удалось.
-Только в интерпол не давай, — сказал он, сел на стул и закрутил одну ногу об другую винтом.
— Куда? – конечно, я понял, о чем он.
-Ну, где эти всякие ваши, как их? Сети, епт.
Трезвый Коля преимущественно ворчлив. Речь его строится, как у системного администратора с кондовым юзером.
— А почему, Коль? Если портрет хороший. Ты ж не лося на опушке разделываешь. И не овцу пялишь.
— Да иди ты. Овцу. Подъебывашь тут.
Мат он использует как бы на излете всей его экспрессивной конструкции, поэтому выходит как-то по-доброму. Так некоторые говорят «убил бы», с подтекстом «сволочь, но люблю, гадину».
У Коли довольно крепкая для ежедневных возлияний психика. И адекватная оценка действительности. Кроме того, он безжалостно самокритичен.
— Вот он, я, — говорит вслух никому – Человек – просравший свою жизнь. Как вообще-то и многие. А че? Просто однажды наступает момент, когда перестаешь себе врать, что все еще впереди.
Или вот.
Сидят мужики возле одной бани. Отмечают рожденье котят. Старая, цвета моря, бутыль-гусыня у них на столе. Коля по улице идет с заказа, поршневые немцу (так он зовет какой-то трактор) менял. Они ему машут, пойдем, дерябнем за жизнь новую. Повернул. Ему налили. А он из кармана свою смешную чекушку вынул и поставил на стол.
Какой-то уже утерянный кодекс чести.
Но речь не об этом.
Сфотографировал я Пушкина, и перестала зарастать к моему дому народная тропа.
То соседка Римма Серафимовна гладкой палочкой постучит в крест моего окна.
— Ты ж фотограф? Смоги уж как-нибудь сына моего неходячего зафотографировать. На могилку.
То у магазина попросят для бабушки.
И главное, чтоб вот жизнь, где они смеются, с прутиком за коровой идут, возвращающейся с лугов в пыльном свете закатного солнца, ни за что, сразу руками замашут — макияж не тот, платок дрянный, а на памятник — сами идут.
Вообще для пожилых женщин узелок ТУДА – это нечто сакральное. И вещи-то какие! За все прежние годы таких себе не позволяли. А нА смерть – запросто. Зачем? Кто оценит?
— Сама знать буду, что в ненадеванном.
Пытаться понять это — совершенно напрасная трата времени. Еще один культурный код, ставший нелепым и чужим.
…Сын. Через месяц 50 будет. И ни одного за это время шага не сделал. Смотрю на него – ножки игрушечные, как у тряпочных кукол. Плечи – как кабина КАМАЗа. Глаза – ясные-преясные, еще столько же просидит. Другой сын гужбанит на их пенсии. Гоняет так, что та нередко по соседям кочует. Третий вообще глаз не кажет, хоть и обитает в двадцати километрах. А уж эпизоды из прошлого ее слушать – не хватит никакого сердца. Мученья одни, ни часу для себя. А жива.
Елизавета Михайловна. Татьяна Петровна.
Судьбы у всех и разные, и похожие.
Про персоны собственные – обиняками и скупо, про детей и внуков – инстаграмно-преувеличенно, неправдиво-сказочно.
Из мужиков, кроме Пушкина, не изъявил пока желание фотографироваться никто. Говорят, им по большому счету «похер», че там будет, когда их не будет.
Впрочем, в деревне, особенно при коллективе, слова – вуаль, намек, стеб, а никакое не личное высказывание.
И только бабушки колготятся. Волнуются. Я хожу со стулом по их садам в поисках места. Усаживаю, делаю один кадр, и мы говорим. Вот прямо начиная с самого детства, время у меня и у них есть пока.
Я смотрю, как тени веток яблонь колышутся на их лицах, как плывут облака, которых в таком сочетании над этим садом не будет больше никогда. И — щелк.
Неожиданно дольше всех портретирую Пушкина. Он все время задирает подбородок, делается важным и изображает Ленина. Раз пять порывается уйти, два раза произносит «заебал», присутствие объектива его корежит прямо.
— Надоедливая какая у тебя работа, — говорит.
— Так не на паспорт делаем, Коль. Учитывай важность момента.
-Ты знаешь, а я вот че думаю. Я передумал. Ну, умирать. Давай в другой раз.
— Нет, Коль. Другого раза не будет. Для подвигов не надо мыть ноги.
-Ты думаешь, я боюсь умирать? Не. Я вот че те скажу. Смотри. Пятьдесят восемь лет назад, ну примерно, меня вообще не было. То есть, я и был неживой. Но как-то же с этим справлялся где-то там. Не ссал. Наверно. Не помню щас. А теперь-то уж и подавно. Я ж был там. И ниче со мной не случилось. Хотя жизнь, конечно, сука, сладкА.
Он вдруг внимательно всмотрелся в меня.
-Это че у тебя там на лбу? Комар, штоль?
В этот момент я нажал.
А комар улетел.
Весной они не возвращаются
В детстве мне было удивительно, что человек, которого ты любишь, просто умирает однажды. Как-то так буднично. Его закапывают прямо в землю. И все. Нет его. Остальной мир этого даже не замечает. Люди смеются, ходят на работу, выясняют отношения. А я ждал, что чего-нибудь грандиозное произойдет. Ведь человек же умер. Ну, например, ударит молния и ветла, расщепившись надвое, загорится. Или дождь пойдет со спелыми яблоками. Или хотя бы все люди на свете разом заплачут. Нет. Ничего такого. Потом начинаешь уже привыкать к тому, что «умер Максим, ну и хер с ним».
И все же всегда, отлично все осознавая, втайне надеешься, что вот с этим, распрекрасным и нечеловечески мне необходимым и дорогим, такого не случится. Что-то пойдет не так и его оставят на подольше. Глупость, конечно, но и сейчас помимо меня такие мысли в голове возникают.
Однако все идет по плану.
***
— О, писаатель,- с нотками трехэтажного ехидства и в то же время тепла тянул Дракон, когда Кабаков сутуло входил в наш кабинет.
Его треугольные, как у гончака, глаза чуть морщились, и он тихо произносил:
— Отъе…сь.
Они дружили. С тех самых пор, как оба -молодые и дерзкие- пришли работать в славную газету железнодорожников «Гудок». И вот, свершив некий круг с невероятными приключениями, которых у каждого бы хватило на девять жизней, оказались там же. Но уже в качестве как бы сказать мастодонтов.
Валерий Джемсович Дранников, или как звали его старшие товарищи Драша, а мы просто Дракон, руководил нами, непутевой группой спецкоров.
Александр Абрамович Кабаков был главным редактором этакого глянца, который был тогда в каждом купейном вагоне. Журнал назывался «Саквояж».
Иногда я кусаю себе губы, когда вспоминаю те времена и их разговоры. У каждого из нас было по два, а то и по три цифровых диктофона, любой из них вместил бы в себя дня три или четыре непрерывной болтовни. Но никому и в голову не приходило, что это когда-то кончится.
Тогда казалось, эти их воспоминания, эпизоды слишком киношны, чтобы быть правдой. Но они так на самом деле же жили.
— В детстве мы с Андрюхой Мироновым в одном доме обитали, — вещал Дракон.- Но мама его не разрешала ему со мной дружить. Чо я? БосОта. А они истеблишмент. Но он почему-то ко мне всегда тянулся. Я просто дурак был и веселый. И вот мы с ним однажды разбогатели. На похоронах Сталина. Дом, где мы жили стоял торцом ко всем кордонам гэбешников, через которые невозможно было пройти. А у нас по третьему этажу можно было протопать все здание вдоль, насквозь, минуя все эти кордоны. И вот мы – дяденька, дяденька, хотите пройти, посмотреть товарища Сталина? Дяденьки и даже тетеньки хотели. За сущий пустяк, за 50 копеек, мы их небольшими группами экскурсировали. Потом мороженого обожрались и оба с ангиной слегли.
Изредка я писал в «Саквояж» и Дракон говорил:
— Кабаков тебя хвалил. Сказал, что смешно написал. Я почитал. Че там смешного?
Когда речь заходила о текстах писателя, Дракон напускал на себя театральность, в которой трудно было разобрать: кривляется или правда думает так.
— Сашка! Люблю я его. Больше чем брата. А читать не могу. Скушно. Ты вот, Липилин, тоже ведь хочешь писателем стать? Не ври в глаза мне. По текстам вижу, хочешь. Но, Вова, это такая херня. Журналистика, репортерство в разы интересней. Тут ты сам себе и актер, и режиссер и сценарист. Ты сам конструируешь ту реальность, которую потом пишешь.
Они были, конечно, разные.
Дракон – семидесятилетний пацан с убийственным чувством юмора, слова и невероятным здоровьем – две пачки парламента в день, дежурные грамм двести под вечер,а по средам –Домжур, где он, как Тулуз Лотрек, травил свои были.
Первым из советских журналистов прошел всю подготовку для полета в космос, наивно полагая, что его отпустят.
— И тут ко мне подошел Каманин, положил руку на плечо и сказал: «Слишком высокий». Я говорю: «Все-таки евреям пока туда нельзя, да?»
Замораживал свои клетки для будущих поколений, торговал фаллоимитаторами, которые тогда еще только-только появились в начинающей жить свободно стране, танцевал стриптиз в клубе «Красная шапочка», готовился пройти подготовку к полету на Марс.
И все это для того, чтобы потом написать репортаж, в «Большой Город», «Ньюсвик», «Русский Репортер» или «Русский Пионер»
Кабаков журналистику не любил. У него все должно было преломиться и отстояться.
— Все хорошо в командировках. Принимают, как короля, но ведь потом же надо еще и писать, — вспоминал он газетное.
В конце 80-х они оба из второй древнейшей ушли. Укрепляли москвичам дверные коробки для установки железных дверей.
Дракон потом, в 90-х, стал одним из первых в новой капиталистической России предпринимателем. Выпускал майки, блузоны, футболки, свитера с изображениями культурных кодов – Кремль, МГУ… Ездил на выставки по заграницам. Как-то на прибыль каждому своему сотруднику приобрел по цветному телевизору и подарил. Он любил жить талантливо и людей в окружение подбирал таких же.
А Кабаков написал повесть «Невозвращенец». И стал писателем. Модным писателем. Порой мне кажется, что необходимость соответствовать этому его выматывала и тяготила.
Он любил и умел одеваться. Шарфы, кашне, кепки. Твидовые пиджаки.
Когда кто-либо из нас (девушки не в счет) входил в кабинет, а он там находился, прямо вздрагивал. Один в яловых сапогах, с самокатом и в картузе, в котором явно не хватало цветка. Другой в пиджаке, который как будто забывал снимать даже в душе. Я вообще в футболке, ветровке и вечно в кедах.
— Откуда у взрослых дядек это тинэйджерство? — недоумевал Кабаков. – Вы ж высокий и красивый человек. Осталось еще джинсы закатать, как гопота, и щиколотки зимой закалять. Попробуйте вместо кед мокасины из хорошей кожи. И носите обязательно на босу ногу.
— Я вам чо, мало плачУ?- тут же, кобенясь, подхватывал Дракон. — Вы же элита. Спецкоры.
Потом временами сокрушался:
— Я же всех знал их. Знал, на что способны, чего умеют. А че ж тут-то случилось? Или для вас «Гудок» это то место, где можно писать левой пяткой?
Конечно, всех нас он по-своему любил, звал «мои». Воевал за каждую строчку, а иногда мог вставить в текст такие советизмы, которых сам ни при письме, ни в речи никогда не использовал..
Только однажды, когда я написал репортаж в «Русский Пионер» о том, как мы с фотографом целую неделю строили в Москве-Сити башню Федерация, позвонил около часа ночи, поправимо трезвый и своим баритоном сказал:
— Вова, я тобой горжусь. С..ка, даже запахи почувствовал, увидел все как на стереокартинке.
А потом опять это вечное, где текст? Газета сжирала их пачками. И он звонил, орал.
Из каждой командировки я привозил местную водку из того региона, где был. И так здорово было сразу после поезда ранним утром заехать в редакцию. Выпить там с ним. И домой. А наутро опять.
Иногда он издевался: только по вашей водке я и знаю, куда вы ездили.
Раз приехал откуда-то. К обеду должен был сдать девять тысяч знаков. Сел в кресло и с блокнотом на коленях уснул. Когда он позвонил, мне снился сон. И я ему, еще не проснувшись, без зазрения совести честно так говорю:
— Валерий Джемсович, вы знаете, меня змея укусила.
Я слышал в телефонную трубку, как от смеха, он упал с кресла.
Этот вопрос, про текст, преследовал нас всюду. А ведь вне этого нормально же общаемся, -говорил я Кабакову.
-А вы ему ноты подсуньте, — добро посоветовал он.
На это моей наглости,конечно бы, и сейчас не хватило. Сделал я проще.
Взял рассказ одного классика про железные дороги, навтыкал туда каких-то имен-фамилий, присочинил осмотрщиков и дефектоскопистов и выслал.
Когда через час вошел в кабинет, Дракон сидел в своих стильных очках и наблюдал что-то на экране монитора.
Александр Абрамович сидел в кресле и курил.
Дракон глянул на меня поверх очков с крохотными прямоугольными стеклами, впрочем, задержал взгляд, внимательно посмотрел:
— Вова, я тебя не узнаю. Ты бухой, что ли был, когда вот все это писал? Чо за говно ты мне прислал. Чо за конструкции предложений?
Я говорю:
— Валерий Джемсович, это Бунин.
— Кто…Бунин?
— Ну, вы читаете сейчас, это Бунин написал. Свой текст я на флешке привез.
Кабаков поперхнулся дымом от сигареты и так свободно и от души хохотал.
Дракон снял очки и сказал:
— Ну, сука ты, чо. А с другой стороны – че я Бунина не могу поправить?
Потом мы спустились на первый этаж в редакционное кафе, он спросил: водку будешь?
Я сказал «да».
Кабаков сказал, что захотел почему-то коньяку.
— Два чая по сто и один кофе, — произнес Дракон повару Борисычу.
Смотрел на меня, пока тот в маленькой комнатушке разливал, качал головой и говорил:
— Так се шутка, Вов.
Кабаков улыбался, уголки глаз его гончаковских чуть приподнимались.
Это была удивительная жизнь с людьми, которых больше уже никаким способом не выведешь, не создашь.
Дракон ушел в июле 2010-го. В то заволокшее дымом Москву лето. Незадолго до этого, он отметил свое 70-летие. Наутро после дня рождения, явился на планерку в рваной тельняшке, с фингалом, всколеченной седой шевелюрой, зубы были ловко закрашены, и, казалось, что их нет. Когда он вошел в конференц-зал, у входа в который висели в фотографиях великие Олеша, Булгаков, Паустовский, Катаев, Петров,( а еще через месяц будет висеть и он) все замерли.
Произведенным эффектом Дракон остался доволен.И тут же, распираемый как дитя, все поведал. Рассказал, что в это утро снимался в одном из эпизодов фильма Дуни Смироновой, где сыграл бомжа. По роли он украл какой-то там мопед и его вместе с другим бродягой, Сергеем Мостовщиковым, вели в полицейский участок. Репетировать они стали где-то месяца за два до съемок. Дракон звонил Мостовщикову и на разные лады, перебирая интонации, произносил одну только фразу «Нууу». В предлагаемых обстоятельствах это был весь его текст. Но и это он умудрился продлить, перенести в жизнь, чтобы не скучно было, если вдруг потом возьмется черкать.
Свои нетленные тексты Дракон творил от руки на каких-то длинных несуразных листках из амбарной тетради. Потом ходил по редакции и зачитывал их всем. И не просто бубня и помогая себе руками. А зычно, с хрипотцой, и остановками, в которых пауза – это не дырка между словами, а, как минимум еще один текст. Он, исписавший тонны бумаги, без преувеличения гениальный репортер, всегда сомневался и проверял на нас, хорошо ли, понятно ли?
Один раз говорит:
— Надо мне тоже книжку издать. С репортажами. На память. Погоди, Кабаков, скоро и меня на руках понесут.
Александр Абрамович усмехался:
— Понесут, Валя. Только один раз. И недолго. До катафалка.
Через несколько дней после юбилея он собирался в Бурденко. Да так, херня, говорил всем в редакции, шунтирование. Оперировать его надлежало Лео Бакерии, который когда-то благополучно оперировал сердце Ельцина.
Дракон хохмил:
— Так-то он, конечно, светило. Только вот думаю, не выложился ли он на нем?
Дождливый вечер на Сахалине нес запах моря и облаков. В Москве была раскаленная сковородка. Дракон позвонил, от жары у него начался отек легких и ему дали надувать какой-то смешной мячик.
— Как там?- спросил с одышкой.
— На острове нормальная погода.
– Вов, привези оттуда классных текстов, сделай шикарно, чтоб мурашки побежали.
И через паузу, убрав из голоса серьезность, спросил:
— Слушай, а ты про меня некролог же хороший напишешь?
— Да идите вы в задницу,- сказал я.
Как потом выяснилось, про некролог он договорился со всеми. Как потом выяснилось, это были мои последние ему слова.
В «Гудке» некролог писал Кабаков.
Десять лет я не мог накарябать о нем ни строчки. И так непривычно по первости было на бумажке в церкви выводить его имя, где сверху значится «за упокой».
А теперь я вполне себе явно представляю их встречу.
— О, писаатель, — скажет Дракон.
Кабаков глянет на него. И с запрятанной под ворохами усталости теплотой произнесет:
— Отъе..сь.
Ты знал, что он когда-то жил, ходил, ел, пил и виртуозно владел матом. Ты знал, что в 41-м он пришел в Свердловский военкомат, потом написал несколько писем, которых нет, и исчез. Как будто и не было человека. Только родня на семейных посиделках, в общем-то, между делом, упоминает силу, стать, гарцевание на лошадях. Но по большому счету как-то так вяло. Хорошо. Бы. Узнать. Бы. Но как узнаешь, куда делся человек семьдесят с лишним лет назад? Заходишь на соответствующие сайты, набираешь, «по вашему запросу никого нет». И вдруг случайно еще раз забредает сестра. И окошко грузится, грузится, выплывают желтые и синие карточки. «Ну, здравствуй, прадед», говоришь ты этим бумажкам каким-то не своим голосом. И в носу щиплет. И рад невероятно. И мурашки. Как будто только что чудо произошло
Лагерный номер 102154
Дата пленения __.05.1942
Место пленения: Харьков
Лагерь шталаг VI K (326)
Погиб в плену
Дата смерти 19.08.1943
Место захоронения Фореллькруг/Зенне
Фамилия на латинице Semikow
 С днем рожденья, πάπας!
С днем рожденья, πάπας!
Сентиментальное путешествие на кладбище
Ранним весенним утром, шурша шинами по шоссе, из села Стрелецкая Слобода, что в Мордовии, выехала синяя Нива. Это мы с протоиереем храма Иконы Казанской Божией Матери отцом Анатолием Клюшиным отправились провести несколько дней в глухой деревне. Батюшка зовет такие отлучки «остановиться и оглянуться». Я — простым глаголом «перегаситься».
Поездке, впрочем, предшествует тягомотная подготовка. Нужно решить насущные вопросы, освободить время. И все это переносится, переносится. Так проходит месяц, другой. Выбрать время нельзя, его можно только самим себе назначить.
Боковое окно Нивы кажется пыльным экраном кинотеатра, там заснеженные поля и мокрые, словно тонким пером нарисованные, кущи. Арт-хаусное кино. Ровным счетом ничего не происходит, а оторваться невозможно. Низкое совсем еще солнце бежит по частоколу березовых стволов, как по забору ивовый прут, только не стрекочет.
Вдоль дороги то тут, то там пешие. Батюшка машинально тормозит, чтоб подвезти, забыв, что задних сиденьев на его Ниве нет, а багажник завален лыжами, спальниками и рюкзаками.
Потом давит на газ, горячится:
— Вот куда я все лезу? Всех спасти хочу. А кто я такой?
Километров через тридцать опять притормаживает, хотя вокруг ни души.
-Видел? – спрашивает.
— Чего?
— Эти… птицы… как их, целая стая. У дороги сидят.
Разворачивается. От обочины, деловые – «руки за спину» — врассыпную разбегаются к посадкам тетерки. Но не взлетают.
Дальше едем.
-Вот так и во всем, — говорит отец Анатолий. – У человека какая главная цель?
— У каждого своя.
— Ниче подобного. Главная наша цель – это путь в Царствие небесное. А мы все время с радостью и дешевыми отмазками от этого пути отвлекаемся. Дергаемся постоянно. А про цель забываем. Вот щас у нас цель доехать. Зачем нам чужие жены?
— Какие жены?
— Какие-какие… тетеревячьи.
Мы знакомы с ним с детства. Вместе лазили за яблоками по садам, весной из медных трубок мастерили пугачи. Прятали на чердаке дома, найденный в овраге, ржавый маузер, будучи уверенными, что все милиционеры города, наблюдают сейчас в такой особый бинокль за нами, которому нипочем ни крыши, ни стены.
А после — были студентами. Он в Саратовском Высшем командном, я на журналистике. И вдруг – бац- друг мой послушник в монастыре. Первое время чуднО. «Раздрание словес» в голове. .
У меня тоже было это заблуждение среднестатистического обывателя. Что священники – это какие-то сверхлюди. И что они такими не становятся, а сразу спускаются к нам идеальными, правдивыми и справедливыми. Как небесный спецназ. И уж, конечно, мы отказываем им во всем земном, человеческом. Слабостях, метаниях. Смотри-ка, поп не знает, что мне ответить. Как будто он может за тебя сделать выбор и жизнь твою прожить.
В доме от прежних хозяев деревянные кровати, фотографии по бревенчатым стенам, сундуки и голландская печь, упакованная в железный черный короб. Отогревшись, изба потрескивает в углах и отдает запахи. Запахи будоражат глубоко закопанную память.
Почему-то видится лето. Детство. Крапива, нагретая солнцем. Калоши на крыльце заброшенного дома, заполненные истлевшими ивовыми листьями и дождем. И откуда-то издалека, вдруг– солнечный зайчик. Светит, как волшебный камень. Идешь напрямик, чтобы не потерять, сквозь осоку и топь, вытекающую из пруда, а камень оказывается простым зеленоватым стеклом старой бутылки. Странно как. Много раз тут ходил – не было. А вот именно сейчас – светит.
В деревне дел всегда невпроворот. До вечера нужно принести побольше дров, наполнить ведра водой из реки, что на дне оврага и в передней избе разгрести развалины русской печки. С сентября в доме никого не было, печка обрушилась, провалилась, разбросав кирпичи. Мы лезем в подпол посмотреть, целы ли перерубы и находим там мертвую куницу, вернее, скелет с целым яйцом в желудке (может, от него и погибла). Вынесли пока ее во двор, тут же на крыше радостный грач.
От деревьев на снегу тени. Тени ветел похожи на морщины быстро стареющей зимы. Уложив возле сарая камни, идем в гости к Ксении, у чьего амбара просохшая уже заплатка суглинка. Площадка вытоптана, как маленький космодром. Мобильники в деревне не ловят, связаться с миром можно только отсюда.
В сенях наглый, шипящий, пригибающий шею к доскам, гусь.
— Боря, Боря, Боря, — почему-то говорит батюшка и ловко шмыгает мимо. У Ксении в гостях подружка. Жизнь в нынешней деревне не сахар, но бабки веселы без натуги. Весна, чай. Дожили. И простые радости. Белка по деревьям прошла и был воодушевляющ ее полет. Рассказ на триста страниц. Снег с крыши скидали, и радикулит не прихватил – еще один том.
Бабушки ходят в церковь и магазин. До того и до другого семь лесных километров. В условленном месте оставляют друг дружке смс-ки. Шишка лежит – значит, ушла товарка. Елочная ветка на снегу – ждала у развилки долго, а ты дрыхнешь, как барыня.
Возвращаемся уже по темну, наевшись картошки в мундире и огурцов. Огурцов и соленой черемши нам отсыпают с собой. И самогону. Самогон — не пить. Просто отец Анатолий выложил канистру с «незамерзайкой» еще в Стрелецкой Слободе. И забыл. А теперь стекла на Ниве очищать нечем.
— Непреднамеренная радость гаишников, — говорю.
— Ага. Но гаишники тоже бывают веселыми. Недавно еду, тороплюсь, опаздываю отпевать. Чуть не на взлет иду. Тут гаишник палкой своей машет. «Куда торопимся, батюшка?». Я весь запаренный, без задней мысли ему: как куда, на кладбище. Он стоит, хохочет. «Первый раз, говорит, слышу правильный ответ».
Ночью топим голландку, кидаем чурбаки, расколотые пополам, они шипят, белая пена на краешках. Ветер звенит плохо закрепленным стеклом. Батюшка под иконостасом из собранных по заброшенным избам образов читает Псалтырь.
Потом чай пьем, самогона вовсе не хочется. Такое состояние, что счастье тут, как Бог, все во всем. Можно зачерпнуть ладонью воздух и наесться им досыта. И жалко тратить время на сон.
Вышла мышь, поблестела глазками, кинули ей хлеб – понюхала и убежала.
— Смотри, вот ты в Саранске практически из ничего, из детского сада, такой храм создал (преподобного Серафима Саровского), регентское училище организовал, ночлег сирым и убогим давал, рядом полноценную церковь соорудил. А тут три год назад – раз и глухомань под красивым названием Стрелецкая Слобода? Не точил червь?
— Да какой червь? Я ж солдат. Приказы не обсуждаются. И потом, видел, как там стало? Сто человек с лишним было на Рождество.
Стало там, действительно, внушительно. И не сказать, что еще два года назад на стенах храма были любовные и нецензурные надписи, палочки, процарапанные гвоздем – это колхозники отмечали, сколько машин с зерном выгрузили. Вместо пола было десять тракторных тележек ржаной трухи, гнилушек и дырявых ботинок. Сейчас – современные котлы, отапливающие обширное помещение, крепкий красивый алтарь, арочные новые окна.
— А места какие, — продолжает нахваливать батюшка. — Пруд огромный, колония цапель, бобры, холмы и дали. Кругом благодать! Как толь туда переехал – чудеса начались. Что не попрошу у Господа — дает. Даже в некотором роде боюсь своих желаний. Но, может, думаю, это меня Бог к чему –то готовит.
— У нас поэтому еще люди не радуются. Вот сейчас произошло, я порадуюсь, а завтра мне как свалится на голову что-то. Уж лучше я с каменным лицом похожу. Так буду круче выглядеть.
— Да я не об этом.
Отец Анатолий пятнадцатый или шестнадцатый священник, который был командирован в Стрелецкую Слободу. Прежние, отбыв лето, исчезали. Приход хиленький, масштабы предстоящих работ внушают ужас. А этот – деятельный. Остался.
Он часто получал по шапке за чрезмерную эту свою деятельность, но – такой характер. Тренер по боксу звал его Волчок.
— Первый шаг сделать всегда трудно. Я ввязался. Тут люди стали подтягиваться.
Прихожане мои из саранского храма приезжали помогать, эмчеэсовцы, местные такую вдруг активность проявили. Бог всегда рядом, но иногда его присутствие приобретает материальное воплощение. Чудо произошло и с нами. Весь советский период у бабушек в селе хранилась икона Казанской Божией Матери. Одна умирает, икона к другой переходит. Лет двадцать назад такая вот бабушка ее в молельный дом принесла. Она была уже покоробленная. А когда сделали крыльцо в храме, худо-бедно все расчистили, я стал там служить. Два года назад, 4 ноября, на Казанскую, мы совершили с ней крестный ход и стали ее в храм заносить. Неожиданно хмурое осеннее небо озарили солнечные лучи. На оборотной стороне иконы вдруг проявилась надпись, в которой значилось, что лик был написан в память воинов, спасшихся во время жестокого сражения с 13 по 21 февраля 1905 года под японским . Представляешь? Страшная была бойня. Сто шестьдесят тысяч погибших. Уроженцы села, которые там сражались, тогда и пообещали, если выживут, то закажут икону. И вот фамилии 18 тех человек проступили. А тут потомки их стоят. У всех огромные мурашки побежали по спине.
Икона была написана сестрами Пайгармского женского монастыря, что неподалеку от Стрелецкой Слободы. В то время (на рубеже XIX-XXвеков) игуменьей там была Евпраксия, уроженка Слободы. Она была крепкой натурой. Построила на территории обители крупнейшую в Поволжье больницу и сформировала многочисленную группу сестер милосердия, которые при необходимости выходили для служения в мир — ухаживали за больными на дому. Настоятельница провела в монастырь водопровод, установила электростанцию и даже мечтала проложить к Пайгарме железнодорожную ветку.
О родном селе игуменья Евпраксия тоже не забывала. В 1899 году открыла там церковно-приходскую школу для крестьянских девочек. Согласно архивным документам, устроила ее на собственные деньги. Воспитанницы получали там разностороннее образование. Их даже обучали искусству фотографии. Со снимками ученицы выезжали на различные всероссийские выставки прикладного творчества и возвращались с наградами.
Батюшка откопал все это у местных краеведов. И совсем недавно сделал целый стенд, посвященный истории села, стрельцам, которые основали тут, на окраине государства, крепость в XIV веке. Отреставрировал икону, а теперь ломает голову, чем заинтересовать туристов. В селе есть конно-каретный двор, отец Анатолий где-то нашел настоящую, правда, изрядно покоцанную карету. Собирается отремонтировать ее, и использовать в обряде венчания. Но ему и этого мало. Организовывает праздники: День матери, День пожилого человека, и что-то вроде «не ленись, вставай на лыжи». В местном клубе устраивает просмотры фильмов по воскресеньям, с дальнейшими обсуждениями. В библиотеке соорудил целый отдел духовной литературы.
— Я однажды книжку взял, — говорит он. – Ну, в какой-то из городских читален, церковную. А назад не вернул. Украл, короче. Когда стал отдел создавать, много своих книг принес, и вдруг эта вывалилась из стопки, печать показалась, я взял, читаю «Сельская библиотека. Село Стрелецкая Слобода». Чудеса!
А еще недавно батюшка взял на опушке леса пять гектар земли. Ну, как взял. Поменял свои двенадцать, неоформленных, на пять задокументированных. Собирается пасеку расширять и выращивать ягоды и огурцы для всех.
-Что значит, для всех?
— А я где-то читал, что в Европе один фермер так делает. Приходи, кто хочет, бери, что хочешь. Может, и в храм заедут.
— Ты че, не знаешь нашего человека? Потопчут все напрочь.
— Вот и матушка мне так же сказала. Ну, и пусть. Знаешь, как необычно ощущать, что у тебя есть земля.
— Мещанин, — говорю я. – Манилов.
В девять утра встаем на лыжи. Катим по заснеженному боку планеты. Остов фермы за деревней напоминает Стоунхендж. Километров через семь выходим к заброшенной деревне. Огороды, улица, все кругом заросло сухим сейчас репьем в два человеческих роста. Присели на еще не иссякшее от гнили крыльцо каменного дома.
— Мне вот знаешь, что интересно, — говорю. – Тема земли. Не совсем в том смысле, что ты говорил. И даже не в том, что говорил Гумилев, ну, там этнос формирует и ландшафт в том числе. Кстати, это он же сказал, что этносы умирают долго и, не веря в это. Мне это интересно с той точки зрения, в ответе ли мы за то пространство, которое, по сути, сами приручили. Я много раз наблюдал, как только люди перестают в каком-то месте жить — тут же, просто мгновенно, все — с огородами, колодцами, садом зарастает обильно репейником. Лет через шесть репьи сменяет жирная крапива. Поля сплошь березкой покрываются, если бросить их. А березка это же сорное дерево. Земля как будто зализывает раны, и выжигает их. Что с ней происходит? И через сколько лет она сможет рожать?
— Да тут все просто. Это мы наделяем птиц, животных, деревья человеческим. А Господь уже давно все устроил. Это все из разряда любви, — говорит батюшка, тыкая палкой в показавшуюся из-под снега куклу без головы. — Любое сердце от забот и добра оттаивает, любая птица или клочок земли. В этом есть какое-то мировое значение. Вот философ Юнг как говорил: бессознательное компенсаторно становится в противоположную позицию к сознательной установке, чем достигается некая полнота. Это и есть Бог.
— Ничего себе полнота. Половина родины в таких вот деревнях. А деревня, сам знаешь, всегда подпитывала город пластами языка, смекалкой, людьми, которые умеют по-настоящему, что-то делать руками.
— Да, Господь дьяволу попускает. Потому что он же сын его. Думаешь, почему сейчас столько свободы дали людям? Человечеству дали выбор, ему дали возможность переоценить себя, сделать апгрейд. Ответить на вопрос: кто ты? И с кем ты?
— Угу. Только человечество про это не знает. Ты погляди, тыла у людей нет, уверенности в завтрашнем дне – ноль, поэтому идеология: хапай сегодня, завтра можешь не успеть. У большинства бабломер в глазах, вместо насущных вопросов. Люди напоминают подростков в пубертатном периоде. Им важны лайки, понты, внешнее. А ты говоришь.
— Да все ты понимаешь, провоцируешь меня, только я никак не пойму, на что. Я тебе так скажу: работать надо. И над собой, и для других. В поте лица добывать хлеб свой. Трудно? Да. Но тогда и радость. Потому что совесть чиста. А когда только болтаешь, или воздух продаешь – совесть обличает, точит, точит. Ладно, пошли, мучитель. А то я потом вообще не встану.
Конечно, не просто так шатались мы с батюшкой по лесам и полям на лыжах. У нас и тут была цель. Вернее, у меня. Узнав, что он купил два года назад дом в этой деревне, я сразу стал себя ненавидеть. В двенадцати километрах от нее – дальше в леса было когда-то огромное село Долговерясы. Там похоронена одна из моих бабушек. Я не был в той местности почти семнадцать лет. Некогда туда вело асфальтовое покрытие, была трехэтажная школа, три фермы, 500 жилых дворов. Клуб, почта, кинотеатр. Когда прокладывали газовую нитку Уренгой –Помары –Ужгород, дорогу разрушили. Новую, ссылаясь на технику безопасности, газовщики строить не разрешили. И зачахло село. Дороги туда никакой. Мы искали его целый день, навигатор почему-то показывал штат Иллинойс.
Переходили уже вскрывшиеся речки по бревнам, а к вечеру у моей лыжи вообще отлетело крепленье. И весь обратный путь я проделывал, как на самокате, отталкиваясь от наста то одной, то другой ногой.
Дочапали, обрушили рюкзаки в сенях и решили, что завтра расспросим у местных путь, и продолжим поиски. Батюшка, не раздеваясь, повалился на кровать и мгновенно уснул.
Я попил воды из ведра и пошел бродить по деревне. У некоторых местных добротное хозяйство, трактора, лошади, гуси. Но половина домов дачные, пустые пока. Чуть за околицей, в неубранных, почерневших подсолнухах здание разрушенной школы. Рядом на бревна потихоньку разбирают библиотеку. Крыши и окон уже нет. А дверь на замке. Идет по улице бабушка Ксения. Увидев меня, рассказывает, какая была библиотека роскошная. В бурьяне Ксения отыскивает ведро, подставляет, и мы лезем в отсутствующее окно. Кругом кучи, просто ворохи книг.
Ксения копается в них.
-Куда их теперь, на розжигу только если. У-у, какая хорошая, — сует она себе за пазуху. Потом еще одну и еще. Пазуха у нее, сухенькой, как будто безрамерна. «Физиология воспроизводства крупного рогатого скота». «Справочник тракториста». «Новые документы Ленинианы». «Чук и Гек».
Содержание большинства из них и раньше-то мало волновало крестьян, некогда было, а теперь – подавно. Главное форма и запахи, что, как старая песня, воскрешают молодость. Идем обратно по тропе, подсолнухи кивают засохшими головами, соглашаясь со всем, со всем.
Ночью опять топим голландку.
— Вот ты уже столько времени священник. Где силы взять на бесконечные разговоры, на общение? И при этом не сойти с ума. Ведь прихожан сотни, каждый со своим. А батюшка один.
— Они же тоже за меня молятся. Я это чувствую. Обмен энергией. Бывают минутные слабости — срываешься. Но я на службе. Так еще бывает: вроде про все с собой с вечера договорился, а утром встал и опять, по новой нужно в себе откапывать милосердное, созидающее. И важно вот это «опять», а не то, о чем вчера с собою договорился. Понравилось мне у святителя Луки (Войно-Ясенецкого) о душе. Что такое душа? Это психика. Он просто дал перевод с латинского. Да, все верно. У меня однажды спросили — что такое вера? А духовник учил — если не знаешь, что ответить, так и скажи, но воду никогда не лей. Можно, конечно, ответить по катехизису, но как объяснить доступно? Один молодой человек мне такое сказал: вера — это воспитывание. Так мне понравилось! В воспитывании же все: и преодоление и терпение. Ты растешь над собой, если веришь, конечно.
Он взял расческу, пригладил бороду, и тень его тоже.
— На все можно найти ответ, если себя соблюдать и заповеди. Долгожительство от чего? От соблюдения заповедей. Сказано: чти отца и матерь твою, и будет тебе хорошо, и продлятся дни твои на земле. За почитание старших Господь дает долгожитие! А мы что? Пятьдесят восемь лет и все, со святыми упокой. Более-менее на Кавказе держатся, потому что с уважением относятся к родителям.
Дрова трещат, самовар поет тоненько, как монашенка.
— А вот я еще евреев похвалю. Какая заповедь дает материальное благополучие? Мы же хотим жить долго и богато! Написано: шесть дней трудись, а седьмой день Господу Богу отдай. Почему евреи такие богатые? Потому что они никогда не будут работать, когда надо молиться». — «А у нас воскресенье на это…» — «Какое воскресенье?! Иди посмотри! Те же бабушки заставляют работать. Дети приедут отдохнуть, а они им: вот надо сено скосить, вот надо ветку обрубить. И дети, бедные, вкалывают вместо того, чтоб в церковь сходить. А вот еще с экономической точки зрения… Попы все про деньги (смеется). Приходит ко мне человек, я его подтяну к заповедям, буду молиться, чтоб он здоровый был, потому что больной не придет и свечку мне не поставит. Правильно? А тут он с девушкой познакомился — уже две свечки, мне их надо повенчать, чтоб и детки появились. А потом жилище их освятить, а потом еще лучше — машину. Одни выгоды.
— Так евреи-то при чем?
— Ты хоть одного батюшку видел бедного? Нет? А почему? Потому что ему необходимо молиться! Он в субботу где? В храме. В воскресенье где? В храме.
Я перелистываю книги из библиотеки, нюхаю их.
Батюшка чай прихлебывает.
— А помнишь, как ты ни в какую не хотел книжки читать? – спрашиваю. -А я тебе сперва Фенимора Купера подсунул, потом Чейза, а потом Ильфа с Петровым.
— Конечно, помню. Заразил меня, мучитель. Я с тех пор никуда без книжки. Недавно «Детство» Горького перечитал. «Дед, нагрешивши от души, пошел в церкву молиться», «Ты, Алешка, чай, не медаль, нечего тебе у меня на шее висеть» Здоровско так перечитывать! И смотри, он очень тонко и душевно все описал. Чем закончил дед, который детей обижал? Он сам по миру пошел побираться. К людям нужно относиться так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. Просят у тебя рубашку — дай. Если ты верующий человек, то поверь, что Бог тебе все вернет. Все, что мы делаем ради Бога, все вернется. Вот пришел ты в храм, вот ты постишься, и получается будто бы Бог тебе немножечко должен, а Бог долги отдает. Где духа набраться? Походи под березами — в них дух живой силы, приложись к мощам, благодатным иконам, сделай доброе дело, помоги ближнему. Вот все своих прихожан по святым местам возят, я тоже, а, бывает, найму газельку, чтоб бабусек за грибами отвезти. Красота, лес, разговоры. Человек ведь как. Работа, дом, дом работа, он в матрице. А тут общение живое. Мы социальные существа. Нам необходимо друг с другом говорить.
Следующим утром, починив лыжу и разобрав на листке моего блокнота начерченное Ксенией: «тут деревня наша, тут лес, тут лес, а тут прореха, в нее шагайте смело».. У батюшки в рюкзаке чугун с картошкой, буханка хлеба, черемша, огурцы и полтора литра воды. У меня – чайник, две камеры, три объектива, молоток и гвозди на всякий случай для крепления.
Два часа идем, лес березовый сменяется елочным, потом сосны, солнце прошивает их лучами красиво, как нитями.
— Только не говори, что не знаешь, куда дальше идти, — говорит взопревший батюшка.
— Я и не говорю, но, кажется, мы заблудились.
Батюшка кидает рюкзак. Валится спиной в снег, смотрит в небо.
-Крепко бабка на тебя обиделась. Видишь, не пускает. Километров тридцать уже отмотали. Кружим и кружим где-то.
Потом встает, сует ботинки в охотничьи лыжи с надписью «Карелия», начинает петь Акафист. Громко, на весь лес.
Ни души кругом, даже обезумевшие от весны синицы в ветках притихли.
Вот лось прошел, как ледокол. Заяц путал следы.
Над нами пролетел вертолет. Для пилота мы, наверное, маленькие, как песчинки. Или вообще он нас не заметил. Лес – больше, чем мы.
Еще через час выходим к какому-то дому на опушке. От бока дома на солнышке греются козы.
Вышел мужик по имени Сережа, мы все ему объяснили. Он почему-то так обрадовался и побежал менять войлочные ботинки на валенки с калошами.
— А ты меня не знаешь, что ль? – вопрошал всю дорогу. — Я Серега, тракторист. А я те помню, ты маленький был, на свинье тут катался.
Свинью я помнил, Серегу нет.
Преодолели ручей, Серега показал дом. Все так изменилось и таким бурьяном поросло. От дома остались только бревна. Внутри, там где стоял когда-то телевизор, росла береза. Когда разбирали потолок, земля с него засыпала все артефакты. В углу висел кнопками пришпиленный календарь за 89 год, он почти выцвел весь на солнце. Но изображение еще можно было разглядеть, там улыбалась девушка.
С этой бабушкой мы не были близки, как с отцовской, у которой я проводил все каникулы. Здесь я мало бывал. Бабушка переехала сюда с Урала, и тут у нее была своего рода база. А так она путешествовала, работала в разных городах. И любила. Много возлюбленных было у нее. Последний, когда ей уже исполнилось 60. Родня осуждала ее. Мама переживала.
— Ну, вы идете на кладбище, нет? – торопился почему-то Серега.
— А сколько тут жилых домов осталось, — спросил батюшка.
— Восемнадцать.
Мы прошли мимо цементного солдата, держащего на руках девочку. Памятник был огорожен когда-то забором. Теперь забор упал, памятник зарос. У девочки из головы торчала рифленая арматура.
-Щас я за Коляном сбегаю, и мы вас на кладбище проводим.
Он сбегал за каким-то Коляном. Коля пьющим не выглядел, глаза – синие- синие.
— Старухи тут одни остались, — говорил он. – В Москву надо ехать, на стройку.
Они довели нас до кладбища. С нами не пошли. Серега шепотом спросил:
— А это чо, настоящий поп, что ли?
И не дождавшись ответа:
— Хочешь самогонки?
Я не хотел.
— Тогда одолжи восемьдесят рублей до июня месяца. И Коляну столько же, — сообразил быстро, засунув стольник в карман. – У нас тут у баб Мани бормотуха.
Мы долго искали могилу. Я не помнил, где она. Потом случайно наткнулся.
У железного узорного креста было поломано крыло. Ограды вообще не было. Кто-то так сильно сжал сердце и отпустил.
Батюшка отслужил панихиду. Потом сел на поваленную сосну за кладбищем. Отдыхал, сняв шапку и подставив лицо солнцу.
А я еще постоял.
Возвращались по той просеке, которую подсказала нам Ксения. Оказалось, за просеку, мы приняли прорубку, где были электрические опоры.
Батюшка то и дело скидывал рюкзак, тяжело дышал.
-Нафига ты столько набрал? – говорил я ему.
— Просто думал, ты мне через два часа будешь костер разводить, кормить меня.
Вскипятили чайник, съели по картошке. Остальную высыпали птицам. И черемшу тоже. И воду.
Дошли, ноги, как вата. Лица горят.
Ночью мне снится заснеженное поле и бабка, идущая с узелком по нему. И так жалко ее, всех жалко. И себя.
Поутру выпал снег и тут же стал таять. Едем уже через лужи кое-где в лесах. Батюшка бодр и весел. Вместо незамерзайки в омывателе самогон. В салоне запахло.
-А хорошо, как покатались, зарядили батарейки. И поговорили. Хорошая беседа с годами все ценней и ценней. Как нужная таблетка.
Он довезет меня до города и поедет к себе, в Стрелецкую Слободу. Нас закрутят заботы, и мы не увидимся еще месяца четыре, а то и больше. Но пока — у нас есть дорога.
Первый же «Камаз» окатывает снежной кашей по крышу. Потом еще один.
— Да выруби ты этот омыватель, — говорю. — Приедем оба в умат. А еще гаишник, не дай Бог тормознет. Скажет, мой пост вот он, а ваш где, батюшка?
— Ну, это запросто. Тут ведь как? Если священник совершит подвиг, многие за глаза скажут: а, это единичный случай, исключение. А если даже небольшую промашку даст: все они попы одним миром мазаны.
Задумывается:
— Одним миром… Хорошая фраза.
— Но ты-то настоящий поп. С терзаньями, с юмором, живой.
— Это в смысле, отлить тебе самогоночки?
Два месяца не был в деревне. Приехал, откопал вход в занесенный по пояс дом. Разжег обе голландки – газовую и дровяную.
Сел на кухне, закурил и тупо уставился на преставшие идти часы. Другая реальность, иной, привезенный с собой, внутренний ритм – куда-то бежать, кому-то звонить, должен, обещал — не давали покоя. И тишина – раздражала. Она наглядно демонстрировала, как было здесь без тебя –лучше. Ты приехал и нарушил все.
Вода в трубе замерзла, а распустившийся было в прошлый приезд какой-то бордовый цветок, уткнулся «лбом» в заледеневшее окошко и не растопил его, умер.
Расчистил старые деревянные ворота с дверью во двор, доторил тропку до внутреннего крыльца. Взял из сеней охотничьи лыжи, и прямо от этого крыльца, через сад и калитку, скатился к никогда не замерзающему ручью с ведром за водой. Хотел прямо у русла затормозить с понтом, но наст у кустов обвалился, и я грохнулся, чуть не надев себе ведро на голову. У ручья на ветках, как апельсины, качались снегири. Наполнил ведро, и пока поднимался «елочкой», еще два раза садился на задницу, лыжи сильно отдавали назад.
По визгу снега можно было предположить, что великий Цельсий утянул ниточку термометра гораздо ниже цифры пятнадцать.
К вечеру приехал батюшка с двумя двадцатилитровыми баллонами воды. Надел на бутыль какой-то черный колпак, нажал на кнопку, маленький насос зарычал, из краника на колпаке стала течь вода. Нажал второй раз – рычанье прекратилось, ну, и вода тоже.
— Чудеса, — говорю.
— От юисби заряжается, — показал он отверстие в колпаке.- Или через зарядник воткнешь, тут полно с таким гнездом вон в коробке. Е-мае, ты окочуришься тут. Приезжай сегодня к нам ночевать.
— Да, не, — говорю, — я здесь.
— Не мордвин, а упертый какой. Можно я не буду валенки снимать? Они чистые, — показал он подшитую подошву.
— Ходи.
— А то скажешь, ковры тут персидские у меня.
Налил ему чаю, накрошил ножом туда имбирь. Он взял стул, прошел в другую комнату с чашкой к печке, задел по пути пакет с привезенной мною водкой.
— Между прочим, самый действенный антидепрессант, — сказал он, усевшись перед топкой.
— Водка?
— Да че, водка? Огонь! Конечно, первой срабатывает некая генная память. Костер – это тепло. Но не только в этом дело. Костер расслабляет, потому что, вот когда ты можешь сидеть у огня? Когда все дела на сегодня сделаны, когда никуда уже не надо идти. Потом – ультрафиолет, витамин Д получаешь, позарез необходимый зимой. Психологически человек, смотрящий часто на огонь, устойчивее. И подсознательно – это надежда, например, хотя бы на то, что до весны доживем. А там лето.
— Сказочник, — говорю. – А расскаленные сковородки в царстве Аида?
— Что за люди пошли, — хлюпнул он чаем. – Че не скажешь, обязательно передернут, размоют значение смысла, который был изначально высказан. Поэтому и каша в головах. Кстати, про ад. Хочешь, анекдот расскажу? В аду, как ты знаешь, огонь под сковородками, о которых ты. Через какое-то время становится чуть слабее. Душа искупляет свои грехи. А есть группа, под которой огонь то слабеет, то с новой силой распаляется. И одна новоприставившаяся душа якобы спрашивает у другой, которая там давно, а че это? Почему так? Под одними гаснет огонь, а у этих вроде стал угасать и опять, будто бензинчику плеснули. А та отвечает: — А, да эт творческая интеллигенция. Писатели там разные, художники, режиссеры. Когда их лабуду кто-нибудь там, на земле, читает или смотрит, разжигает страсти, огонь становится сильнее.
— То есть, ты хочешь сказать, еще неизвестно, хорошо это или плохо, когда писателя или художника забывают?
— Ниче я не хочу сказать. Просто вот такой анекдот кто-то рассказал. А вообще-то, за базар всегда и везде отвечать придется.
Он допил чай, съел кусок имбиря, закашлялся,сморщился. Пошел попил воды из рычащего кулера. Потом взял гармонь, сбивчиво исполнил какой-то этюд.
— А Пинкфлойд можешь?
— Ты че? Там аккордеон нужен или хотя б баян. И обязательно гитара. Сольник.
— Дай-ка сюда, — отобрал я у него гармонь. Набрал в телефоне аккорды Another Brick in the Wall.
— Да не. Какой-то жидкий запил, — сказал он. – Сиди лучше, книжки пиши.
— Чтоб ярче гореть?
— Хе-хе.
Ему кто-то позвонил, он прыгнул в машину и уехал.
А я всю ночь почти подбрасывал дрова в печную пасть и мучил музыкальный инструмент.
«Ту-ру-ру -ту. Ту-ру-ру –ту, ту».
На кухне в свете ночника, уперевшись «лбом» в стекло, оттаивал потихоньку цветок, лепестки его осыпались. А за окнами, не разбирая дорог, через поля и города, брела и брела куда-то большая и живая русская зима.
Сто шагов до высоких сосновых лесов, семь шагов до прекрасно- роскошного снега. Лыжи, прислоненные к бревнам сеней.
Есть вода и есть еда. Дров половина чулана.
Отсюда легко и приятно любить всех.
Ночью звезды позвякивают, как угли, дотлевающие без огня.
Покормить мышей и лечь спать.
Проснуться впотьмах и медленно (по проступающим в рамах крестам), соображать, что кому-то пока не надоело принимать нас такими, какие мы тут, на этой планете, есть.
И даже весну вот подарили.