Vodolazkin kaputt! — «Ты помнишь, Ральфуша, дороги Венецщины»
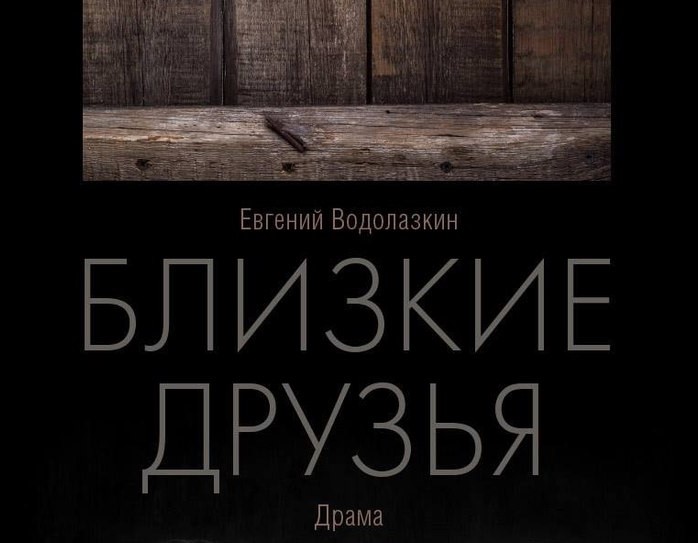
Вадим Чекунов
Склизкие друзья
«Ну такое вот некультурное народонаселение на враждебном русском пространстве, вы же сами видите, какие скоты, майн фюрер…»
Писатель Евгений Водолазкин похож на лютеранского пастора, тайно посещающего свинг-вечеринки. То есть впечатление автор производит самое благоприятное и располагающее, как человек явно широких взглядов на окружающую действительность. Поэтому за его повесть «Близкие друзья» я взялся в предвкушении чего-то необычного.
Ожидания себя оправдали сполна. Тут уместнее всего привести слова «окопного писателя» Виктора Некрасова, сказанные им после посещения одной из выставок официоза: «Впечатление яркое. Как будто г…а пожевал».
Не секрет, что именно Евгений Водолазкин, словно и впрямь настоящий пастор, является «духовно-литературным отцом» и наставником не кого-то там, а самой Гузели Яхиной. Прославленная авторесса легендарного рассказа про войну и немцев «Винтовка» неоднократно с гордостью сообщала публике, что перечитала все водолазкинские тексты, прежде чем решиться наступить в стезю писательского ремесла собственной стопой.
Но мало ли кто чего перечитал, скажете вы. Соглашусь. Есть же вот люди, которые всех этих лауреатов читали, однако, что толку – так и останутся до конца дней своих лишь злобными и завистливыми хулителями столпов.
Иное дело писательница Яхина – современный литературный успех любит усердных и послушных. Именно Евгений Водолазкин нашептал ей дельный совет: «Вторая книга должна сильно отличаться от первой». И именно Евгений Водолазкин следующей (после татар) жертвой ее пера назначил поволжских немцев. Что получилось – мы все имели возможность увидеть в яхинском эльфийском романе «Дети мои». Водолазкин всячески этих «Детей» хвалит, как своих собственных.
К немцам вообще (не только к поволжским) отношение у Водолазкина весьма трепетное. В этом ничего предосудительного нет. Даже народный герой Данила Багров, который, казалось бы, кавказцев на дух не переносил, американцам кирдык обещал, евреев тоже «как-то не очень» – как раз к немцам относился нормально.
Ну немцы и немцы.
Но почему немцы? Зачем немцы?
А есть такой анекдот. Сидит старушка в избушке. Вдруг дверь вышибается ударом кованого сапога и на пороге появляется мордатый немец. Смотрит на испуганную старушку и кричит: «Матка, курка-яйко йесть?» Старушка отвечает: «Да хосподь с тобой! Как ваши в сорок первом забрали все, так ничего с тех пор и нету!» Немец протягивает ей коробку и говорит: «Матка, полутчай гуманитарный посылка из Федератифный Германия!»
В голодном 1992 году немцы взяли и спасли тогда еще будущего доктора филологических наук и будущего автора замечательного романа «Лавр» от голода и прозябания – Мюнхенский университет пригласил его к себе на годичную стажировку.
Евгений Германович, умный человек с подходящим случаю отчеством, времени не терял, связи с германцами всячески налаживал и закреплял. Став стипендиатом фонда имени Александра фон Гумбольдта, в конце девяностых и начале нулевых Водолазкин снова получил возможность жить, вести исследования и публиковаться в ставшем ему близким городе Мюнхене.
У меня, живущего уже второй десяток лет то в Москве, то в Шанхае, германские вехи водолазкинской биографии не только не вызывают отторжения, а наоборот – находят всяческое понимание. Писатель и ученый просто обязан передвигаться по миру и познавать его во всем многообразии.
Другое дело, что отражать полученные впечатления у каждого автора получается по-разному. Скандальный Париж Миллера, безжалостный и безумный Нью-Йорк Лимонова, тихий и мирный нацистский Мюнхен Водолазкина…
По признанию Евгения Германовича, определение «неисторический роман» к его титульной книге «Лавр» придумала сама Елена Шубина, глава редакции имени себя и вообще королева-мать всея большой отечественной литературы. «Я думаю, в эту парадигму встраивается и моя повесть “Близкие друзья”», – сообщил в интервью Водолазкин.
А я вот так не думаю.
Возьму на себя смелость придумать более верный термин для водолазкинского текста «Близкие друзья» – «сервильная повесть». Потому что при чтении убеждаешься – повесть будто писалась автором вовсе не для отечественного читателя, а во многом с расчетом на перевод и публикацию именно на родине его «близких друзей», в славной стране Германии. С оглядкой на мюнхенских коллег.
Разобраться в том, кого, как, сколько раз и зачем обслуживает автор своим текстом мы и попробуем.
Уже самим названием «Близкие друзья» автор берет быка за наиболее удаленное от рогов место и пытается всучить нам этакого «Ремарка в импортозамещении». Но если в «Трех товарищах» мы действительно видим историю дружбы и любви, то никаких «близких друзей» или достойных внимания человеческих чувств в повести «Близкие друзья» и близко нет. Копошение изображенных в ней организмов более походит на жизнь представителей славной группы беспозвоночных – всяких там улиток, слизней и морских блюдечек.
В прекрасном городе-колыбели нацизма, в Мюнхене, в межвоенное время «дружили родители трех детей» – Ральфа, Ханса и Эрнестины. Родители этих детей не были ни коллегами, ни даже однопартийцами. В манере, которую некоторые деликатные критики охарактеризовали «суховато-повествовательной авторской интонацией» нам будет рассказано, как на Северном кладбище города случайным образом познакомились три семьи, ухаживающие за могилками родственников. Даже «отношение к нацизму в их семьях было разным». Каким именно, автор предусмотрительно не уточняет – всё-таки дело щекотливое… Может, одна семья считала нацизм спасением, другая – весной человечества, а третья спокойно и практично поддерживала. Не придерешься – действительно разное отношение. Люфт трактовки широкий. Можно и насчет «тихих противников режима» пофантазировать, при большом желании.
Познакомившиеся семьи договариваются о совместных походах на кладбище и традиционном культурном досуге – распитии пива. Осторожным штрихом автор обрисовывает обстановку – вот в биргартене сидит за соседним столиком сам Томас Манн, а вот прошло несколько лет и уже не сидит он там больше. Неуютно ему в Мюнхене стало, исчез. То ли пиво плохое стали варить, то ли еще что-то случилось. Автор предпочитает деликатно промолчать.
Писатель Водолазкин изображает героев повести, пока еще детей лет девяти-десяти. Дети все хорошенькие и пригоженькие – помогают взрослым содержать могилки в образцово-показательном виде. А в перерывах между созидательным трудом дети разговаривают друг с другом с суховато-повестовательной интонацией автора:
«– Вы можете себе представить, что когда-нибудь на Северном кладбище будем лежать и мы?
– Нет, – ответил Ральф.
– А я могу, – сказала Эрнестина. – И поскольку мы близкие друзья, предлагаю каждому дать слово, что он будет похоронен здесь. Мы не должны расставаться ни при жизни, ни при смерти. Вы даете мне слово?»
Люблю такие диалоги. Они мне напоминают те времена, когда я преподавал русский язык в нерусской аудитории, а учебники были напичканы диалогами в подобном стиле:
«– Здравствуй, Антон!
– Привет, Виктор!
– Куда ты идешь?
– Я иду на выставку современной живописи. Она открывается сегодня и продлится всего три дня.
– Я тоже хочу пойти с тобой! Ведь я очень интересуюсь современной живописью. У меня дома есть большая коллекция репродукций произведений известных художников
– Отличная идея! Давай пойдем вместе! Ты будешь моим экскурсоводом!
– Посмотри, вон там – Павел! Он летит на всех парусах!
– Я думаю, он тоже спешит на выставку! Павел, подожди! Давайте пойдем на выставку все вместе!»
Ну чем не «Близкие друзья», верно?
Таким языком герои разговаривают до самого конца повести. Особенно усердствует Эрнестина.
Рассказывая мальчикам о своих приключениях в кабинете дантиста – женатый лысый доктор Аймтербоймер всегда трогает ее за попку и грудь, усаживая ее в кресло, – Эрнестина отметит важную деталь:
«– А еще он нацист, и это самое отвратительное… Давайте поклянемся, что ни за что на свете не станем нацистами. Пусть это будет еще одной нашей тайной».
Такой лживой политугодливости я не встречал со времен чтения произведений канувших в Лету совписов-халтурщиков былого времени. Евгений Германович, видимо, читал еще прилежнее меня, и спустя годы решил творчески переработать усвоенные в детстве и юности приемы. Ну в самом деле, не пропадать же годному кульбиту, а коллеги из Мюнхена обязательно оценят и одобрят политически верный изгиб стана.
Чем дальше от тех тридцатых и сороковых, тем бледнее становятся, куда-то исчезают миллионы ревущих в восторге немцев с вытянутыми правыми руками. Зато теперь не протолкнуться на страницах книг и в кинофильмах от простых немецких людей, которые все как на подбор или жертвы тяжелого времени, или вообще убежденные противники нацизма.
Дети продолжают обсуждать, чем же так притягательна девочка для лысого врача:
«– Вероятно, ему нравится твоя арийская внешность, – предположил однажды Ральф.
Белокурая Эрнестина покраснела:
– Я не хочу, чтобы меня ценили за внешность, – ответила она. – Тем более, такие слизняки и нацисты, как Аймтербоймер.
– Ты можешь пожаловаться родителям, – робко сказал Ханс. – Или сменить зубного врача.
– Знаешь, это было бы отступлением перед трудностями».
Йа, йа! Дойчен пионирен нихт капитулирен! К арийской внешности прилагается стойкий арийский характер.
Доктор Аймтербоймер, видать, хорошо знал свое дело, потому что в итоге подросшая Эрнестина будет с ним сожительствовать. Очевидно, в надежде перевоспитать, повлиять на его политические взгляды. Секреты пикапа от опытного дантист-нациста!
Эрнестина вообще девочка не по годам живая, несмотря на все старания писателя Водолазкина заставить ее вещать в стиле робота с планеты Шелезяка. На свое двенадцатилетие она заманила Ханса и Ральфа в кусты, разделась догола и вынудила мальчиков скинуть свои баварские штанишки.
«– Мы – близкие друзья, – сказала она, – и у нас не может быть тайн. Чтобы доказать это, мы должны друг перед другом раздеться».
Голая девочка описана автором любовно, как и полагается пастору-лютеранину с широким кругозором – и светлый пух на лобке, и подрагивающие соски – ничто не укрылось от наблюдательного писательского взора.
Искренне жаль, что текстовый формат не позволяет вставить сюда видеоролик с восторженно кивающим педофилом Харви, как это делает Евгений Баженов в своих кинообзорах.
Один из героев Ральф Вебер – центральный персонаж повествования – человек достойный во всех отношениях. Художник по призванию, но отец желает сделать его офицером. Конечно же, «попытки Вебера-старшего заговорить о возможной военной карьере не находили в сыне ни малейшего оклика». Ведь Ральф – хороший мирный человек, таких было очень много в предвоенной Германии. Вы разве не знали? Никто не хотел воевать. Ну почти никто.
Когда озорная эксгибиционистка Эрнестина после окончания гимназии предложила всем вместе зажить счастливо втроем, и даже пояснила, что это по-французски называется l’amour de trois – Ральф очень обрадовался и заявил, что не боится условностей. Прогрессивный молодой художник. Таких и в современной Германии много.
Бедный Ханс, который за пару минут до варианта «тройничка» делал Эрнестине предложение руки и сердца, сидит остолбенело, жует скатерть, потом молча покидает своих развратных друзей.
Думаете, возникает конфликт, картонные фигурки персонажей оживают и суховатое мочало текста вдруг напитывается соками жизни и превращается в художественное произведение?
Ничего подобного.
Ушлая Эрнестина через два месяца выходит за Ханса замуж. и Ральф принимается страдать. Опять же – совершенно бесконфликтно, а в стиле безобидного городского юродивого. Страдания его выражаются в ежевечерних стояниях под окнами дома молодой семьи. Эти самые стояния филолог Водолазкин описывает шершавым языком, но не плаката, а наспех набросанного в расчете на перевод текста. Испытав возбуждение от колебания «шелка штор», герой в экстазе прижимается к «шершавой штукатурке ниши». Как тут не вспомнить чеховскую Сусанну Моисеевну: «Боже мой, господи! Нет противнее языка! “Не пепши, Петше, пепшем вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшем”!»
Словно испугавшись, что его повествовательный поросенок и впрямь переперчится, автор возвращается от звукописи ремизовской школы к своей излюбленной авторской интонации, а попросту – к жеванию картонных канцелярских папок.
Начав уставать от дежурств под окном, Ральф ощущает, что его жизнь потеряла наполненность: «как бы сдулась». Поддуть ее и поддать жару в свои пороховницы он решает элегантно – соглашается с отцом, что теперь можно и на офицера выучиться. Тем более, скоро война, и «он подспудно надеялся, что война встряхнет его чувства».
Ну а что, традиционный немецкий способ отдохнуть и развеяться – повоевать, грусть-тоску разогнать. Вен ди зольдатен дурш ди штадт марширен… Ай варум, ай дарум!
Служба в училище описана двумя абзацами – «чересполосица учебы и службы» плюс «многочисленные марш-броски». Водолазкин, как человек бывалый, отмечает: его герой «знал, что первые два-три километра бывает тяжело, но затем открывается второе дыхание». Ральф бегает хорошо, становится отличником боевой и политической фашистской подготовки. К концу учебы, правда, охладевает к военной науке и даже подыскивает предлог, чтобы покинуть армию. Ведь он пошел в офицеры лишь чтобы встряхнуться и отвлечься от стояний под окнами.
Но тут началась война. Автор повести заботливо поясняет нам: «Человека, ушедшего из армии в такое время, неминуемо признали бы дезертиром». И общественное мнение было подобно трибуналу.
То есть бедный Ральф – жертва тяжелого времени. Хороший человек, типичный немец. Просто свинцовые волны эпохи бултыхали его, как букетик фиалок в проруби…
Сам Водолазкин свято убежден, что таких немцев было множество. Так он и говорит в одном из интервью:
«Надо понимать, что в эту войну их привело не желание воевать, а приказ, обстоятельства, судьба, и они воевали, уже тогда испытывая очень горькие чувства».
Оно и видно, как им горько было. Четыре года горевали, все нагореваться и успокоиться никак не могли. Они, конечно, планировали всего пару месяцев у нас погоревать, как им ихний фюрер наобещал, а потом зажить припеваючи на освобожденных от нас землях.
Но не получилось, не фартануло. А вот нечего было всяким своим гитлерам верить.
Они бы, конечно, могли побросать оружие да сдаться в плен, но… «Это было бы отступлением перед трудностями», как однажды справедливо заметила девочка Эрнестина.
Впрочем, если самому писателю Водолазкину становится легче от мыслей, что одного из его дедушек в 1943 году подневольные приказам немцы сожгли в танке с чувством горького сожаления – то ради бога. А то и вообще, может быть, фашист, засадивший в деда снаряд, всего лишь «встряхивал свои чувства» на войне. Тоже вариант.
И вот, опасаясь общественного осуждения и повинуясь роковому стечению обстоятельств, лейтенант Ральф вторгается с боевыми коллегами в Россию, любуясь сквозь ивовые ветви блеском реки Буг. Попутно он замечает, что некоторые ветви двигаются. Выпускник военного училища с изумлением обнаруживает, что «будучи закреплены на броне, движущиеся ветви оказались элементом маскировки».
Тут у меня при чтении впервые возникла надежда, что текст наконец-то оживет – возможно, нас ожидает повествование про похождения нового Швейка…
Евгению Водолазкину меня не убедить, что немецко-фашистскими военными училищами руководили тайные троцкисты-вредители, которые все внимание учащихся концентрировали на втором дыхании после пары километров марш-броска, а на остальные дисциплины положили с прибором. Поэтому вывод напрашивается однозначный: герой повести лейтенант вермахта Ральф Вебер – умственно отсталый человек, по недоразумению избежавший гитлеровской программы по ликвидации. Одним словом, идиот.
Вы не поверите, но Ральф «удивился тому, сколько неожиданного способны скрывать в себе кусты».
Это ты, дорогой фашист, еще беляшей на витебском вокзале не отведывал… Мигом бы познал всю сакральную сущность зеленых насаждений и их роль в маскировке. Раз тебя в твоем фашистском училище ничему не научили, так будешь в России на практике постигать.
Но до Витебска и лечебных беляшей еще далеко. Наш герой взирает на понтонный мост и это зрелище ему напоминает Венецию, «где Ральф, случалось, гулял с родителями, приехав на каникулы».
Лейтенант Ральф вспоминает, как во время одной из таких прогулок они встретили Эрнестину и ее родителей. Эрнестина в шляпе с лентами разглядывала собор.
«Девочка стала задумчивой, – улыбнулась мать Ральфа.
– Скорее – стеснительной, – предположила мать Эрненстины.
При этих словах Ральф впервые поймал взгляд Эрнестины. Он знал, что его подруга не так стеснительна, как это может показаться».
Этот художественный прием я называю «бобровая голова». Большим приверженцем такого приема является писатель Алексей Иванов, который, подобно ученому бобру, то и дело выныривает из запруды своего текста, высовывает на поверхность голову и принимается либо пояснять читателю что-нибудь ненужное, либо напоминать очевидное. Скажем, описывает он завод, вокруг которого забор с колючей проволокой – и тут же сообщает: «Это чтобы не воровали продукцию». Рассказывает Иванов о негодяе, соблазняющем девушку, и обязательно уточнит: «Он говорил ей о любви не потому, что любил, а просто хотел секса». Через пару абзацев еще и напомнит: «Владик не любил ее, просто он хотел трахаться, поэтому врал».
Вот и писатель Евгений Водолазкин решает вдруг пояснить, что Ральф-то – знал, что фройлен Эрнестина отнюдь не стеснительна! Еще бы не знать – всего шесть страниц назад он в кустах по ее приказу лямки штанишек своих с плеч стягивал да на ее дрожащие соски пялился…
В общем, мысли оккупанта Ральфа благодаря колыханию понтонного моста крутятся вокруг Венеции, и он принимается сравнивать ее с Россией. Немцу очень пыльно – столько пыли он раньше не видел. И тут его наблюдательность достигает поразительных высот:
«Все остальное в России на Венецию похоже не было. Особенно дороги».
Вот что есть, то есть. Хотел бы возразить фашисту, да куда там. Дороги у нас другие. До Венеции нам далеко, это верно.
Ты помнишь, Ральфуша, дороги Венецщины, как шли бесконечные эти дожди… и плыли с просекко прекрасные женщины, бутылки прижав, как ребенка, к груди…
Отвлекся на венецианскую военную лирику, прошу прощения. Наглотавшись как следует пыли, а затем и грязи, лейтенант Ральф принимается воевать. Не подумайте чего плохого – воевать он не любит, и вообще не понимает, зачем он с коллегами захватывает советские города.
Отравиться беляшами в Витебске нашему фашисту не удалось – но зато он с интересом наблюдал за горящим городом, любовался заревом и всячески эстетствовал в стиле Нерона – снопы искр над Витебском ему чудились разными фигурами, которые взмывали в небо, как на картинах Шагала.
И вот тут мы подходим к одному из самых важных, ключевых моментов сервильной повести «Близкие друзья».
Писатель Водолазкин делает изящный кульбит – заставляет своего героя вести дневник, но с оговоркой: «Он не записывал в него всего того, что ему довелось видеть… Ральф не писал об ужасном. Он не хотел, чтобы впоследствии этот дневник ему было страшно открыть».
Ах ты, душка какой!
Поэтому боевых действий в повести нет. Все, что имеется – это казенно-картонные слова с любимой авторской суховатостью, вроде «велись ожесточенные бои». Чтобы как в утвержденных Bundesministerium für Bildung und Forschung учебниках, чтобы все согласно установленным циркулярам.
Некоторых ужасных моментов избежать не удается – война ведь. Но Водолазкин и тут исхитряется их подать в виде пусть и трагических, но лишь случайных производственных травм. Вот как возьмись кто описывать происшествия на мясокомбинате: один работник в убойном цеху на собственный нож напоролся, другой в обвалочном палец себе отчекрыжил, а третий в мясорубку неотключенную полез и без руки остался…
Так и у Водолазкина. То солдаты-фашисты отстанут на марше от своего подразделения, и глядь – их уже зачем-то повесили на ветвях местные сволочи. Об обязательных карательных акциях за подобные действия, о расстрелянных или сожженных заживо деревнях ни писатель Водолазкин, ни его герой лейтенант Ральф не упоминают ни словом.
Хотя вот честно – крайне любопытно узнать, что за человек-паук-супермен из ближайшей деревни сумел скрутить и повесить немцев на виду у всей их марширующей армии, ибо автор тут не скупится на живописание: оккупантов-отставашек «нашли повешенными на сучьях придорожного дуба, с выклеванными птицами глазами. Они были повешены двумя тесными гроздьями и покачивались на ветру — четыре плюс три. Некоторые медленно вращались».
А фашистское воинство продолжает нести убытки и терпеть неприятности на ровном месте. То у кого-то спина заболит от скрюченного положения в окопе, и он распрямится – тут ему коварный иван голову-то и отстрелит. То от целого фельдфебеля останется лишь фельдфебельская рука, зачем-то завернутая лейтенант-олигофреном Ральфом в полковую газету…
Какое-то прям проклятое, нехорошее место эта Россия. Поглощает всех «русское пространство – бескрайнее, а главное – враждебное».
Да неужели?! А каким ему, бляха-муха, еще быть-то, если вы людей, на нем живущих, истреблять пришли?
Местное пространство не просто враждебно, оно еще и вот чем исподтишка занимается: оскверняет могилки дорогих заграничных гостей. Уцелевшие фашисты на холмике своего невезучего коллеги ставят крест и на него вешают каску похороненного. А «в ночное время эти могилы осквернялись местным населением, а позднее, после передислокации войск, могилы (и это все предчувствовали) осквернялись еще и днем».
Ну такое вот некультурное народонаселение на враждебном русском пространстве, вы же сами видите, какие скоты, майн фюрер…
А наш герой вообще не воюет. Он просто ездит, смотрит на березки, тополя и кукурузные поля. Он даже не командует солдатами. Эдакий созерцатель-турист на опасной прогулке. Однажды даже вмятину от русской пули на своей бронетехнике пальцем пощупал – для впечатлений, наверное.
Волею судеб и авторским повелением к нему в подчиненные попадает его близкий друг Ханс, и они продолжают турпрограмму вместе, на досуге почитывая письма от проказницы Эрнестины, которая решает не выделять никого из них и пишет им на один адрес со словами «Мальчики, привет!». В письмах, чтобы морально поддержать воюющих мальчиков, она рассказывает, как доктор Аймтербоймер ставил ей пломбу и снова щупал за грудь. Попутно она доктора жалеет – ведь у того недавно умерла жена…
Несчастного Ханса эти эротические письма так вдохновляют, что он вызывает своего лейтенанта на откровенный разговор и заявляет:
«– Знаешь, я понял, что не против того, чтобы жить втроем».
Теперь перед отбоем друзьям есть чем заняться.
«Ханс выводил Ральфа за палатку и шепотом делился с ним подробностями их будущей жизни. Ханс был не против того, чтобы всем спать в одной постели (несложно ведь заказать такую постель?) и заниматься с Эрнестиной любовью по очереди».
Высокие, высокие отношения. Не чета приземленным иванам, которые только и мечтают, как бы подневольного немецкого солдата убить поскорее, на могилку ему кучку отложить и бегом домой, к своей маньке или клавке… Если та, конечно, дома, а не убита, изнасилована или угнана в рабство всякими нежелающими воевать немецкими художниками и свингерами…
Но не судьба – очередная производственная травма перечеркивает все романтичные послевоенные планы приятелей-фашистов насчет МЖМ. У Ханса то ли спина затекает, то ли мысли об Эрнестине и сластолюбивом докторе Аймтербоймере в голову стукнули – но он распрямляется в окопе во весь рост и моментально изволит смертельно раниться.
Далее начинается свистопляска и повесть стремительно скатывается в треш и безумие, причем это не творческая задумка автора, а его неразборчивость в выборе материала.
Виной всему – вычитанная писателем Водолазкиным в немецкой газете история о том, как некий солдат возил тело покойного однополчанина в цинковом гробу по всем фронтам, пока не смог отправить гроб в родной фатерлянд жене убитого.
Это и вдохновило Евгения Германовича на целую повесть.
С одной стороны, я автора понимаю. Сам в середине девяностых читал всякие газеты, до сих пор помню впечатлившую меня статью о дельфине с человеческими руками, который плавал неподалеку от пляжей Алушты и показывал «факи» отдыхающим.
Но, с другой стороны, пишущий человек должен уметь разбираться в материале, отличать лютый бред от реальных жизненных ситуаций. Иначе мы сталкиваемся еще с одним излюбленным методом писателя Алексея Иванова: «одной рукой пишу, другой шарю в Сети на предмет того, как оно там все было». То есть перед нами вырисовывается настоящая цеховая солидарность лауреатов в основных принципах творчества…
Далее умственно отсталый лейтенант Ральф, помня о данной в детстве клятве схорониться всем вместе на мюнхенском Северном кладбище решает эту клятву свято исполнить. Тем более, ему хорошо известно, что прикопай он друга Ханса на опушке враждебного русского леса, ночью непременно придут местные, вывернут березовый крест и наделают делов в хансову каску. А это никуда не годится, ведь Ральф с детства приучен к содержанию могилок в красоте и чистоте.
Поэтому своего Ханса он каким-то образом упаковывает в ящик для снарядов. Не спрашивайте, как именно. Я снарядных ящиков повидал много всяких – кроме таких, куда тело взрослого мужика можно поместить.
Версий у меня несколько. Или изрубил, фашист такой, друга своего на куски и запихал. Или просто согнул пополам и сапожищами утрамбовал.
Еще, небось, и руку фельфебельскую – ту, что заботливо в полковую газету заворачивал – в виде бесплатного бонуса приложил.
Дальнейший бред с тасканием тела (через какое-то время его все же запаяют в цинк) по городам и весям необъятного фронта разбирать смысла нет – особенно после авторского заверения, что покойник Ханс стал чем-то вроде полкового знамени и продолжал числиться в списках роты, «потому что официально смерть его так и не была зарегистрирована».
Настоящее рождественское чудо случается, когда в роту заглядывает некий генерал-фашист Кайзер, душка-демократ и любитель дорогой выпивки. Проникается ситуацией с телом и в честь фронтовой дружбы лично распоряжается доставить гроб на аэродром, чтобы отправить его утренним рейсом в Мюнхен. На самолете, конечно, не на санях с оленями.
Что ж, художественный прием deus ex machina, он же – «бог из машины» – зарекомендовал себя самым лучшим образом еще в античном театре, прочно укоренился в развлекательном синематографе. Так зачем же и Большую Литературу обеднять, его избегая, верно? Совершенно незачем. «Рояль в кустах» в виде случайно попавшего именно в роту своего друга Ханса уже был, ну и с волшебным разрешением ситуации с гробом нечего теряться. Браво, автор!
Слава товарищу Сталину, вся дальнейшая военная вакханалия прерывается очередной производственной травмой – наконец-то и нашему Ральфу оторвало правую руку, в бою под Сталинградом. Этому факту герой весьма рад – зато не убило, как многих его коллег.
Далее у Ральфа начинается насыщенная мирная жизнь – возвращение в Мюнхен, лечение в госпитале, визиты Эрнестины и ее рассказы о сожительстве с остепенившимся доктором Аймтербоймером, дружба с этим самым Аймтербоймером, ухаживание за могилкой Ханса, смерть Аймтребоймера прямо на похотливой Эрнестине и через неделю после похорон Аймтербоймера (ура, наконец-то, мне больше не придется писать его фамилию, замучился прямо с ней) обжигающее соитие с Эрнестиной.
«Их любовь была сильнее бомбежек». Так неожиданно заверяет нас автор. Эй, эй, хочется воскликнуть – да не хвати этого Аймтербоймера (тьфу, черт, пришлось таки снова) кондратий во время шпиллен-виллен, их любовь была бы не сильнее его же, Аймтербоймера, будь он неладен, вялой эрекции…
Иными словами, оказывается, мы имеем дело с повестью о Любви. Это не беда, что любовь в повести мало чем отличается от страстных совокуплений всевозможных нематодов, коловраток, кольчатых червей и всяких уважаемых кишечнополостных созданий.
В одном из интервью автор на полном серьезе уверял: «Моя Эрнестина – женщина-война, очень чувственная, энергичная, настоящая femme fatale». Что ж, право художника видеть сокровенную глубину бытия и в жвачке, прилипшей неделю назад к подошве ботинка.
Еще одно из любопытных заявлений ряда нечитавших книгу критиков таково: это повесть о том, что война – «это яд, который уродует личность каждого, кто на ней побывал». И вернувшийся с нее опустошенный герой не может спокойно уснуть. У него, мол, чувство огромной вины перед Россией и вообще он заново учится жить и любить. Сам автор не удержался однажды и благосклонно подчеркнул: «Мне симпатично прочтение моей повести в таком ключе».
Давайте же посмотрим, как именно страдает и горюет наш герой после возвращения с войны.
Во-первых, он ведет насыщенную половую жизнь, качественно удовлетворяет Эрнестину в постели. Когда она очередной раз удивляется его сноровке и чутью, признается, что его этому всему подучил ее бывший муженек. Не прошли даром вечерние посиделки друзей за палаткой, не пропали секреты сексуального мастерства. Эрнестина только радуется этому и добавляет «некоторые детали, которые в свое время постеснялась сообщить Хансу».
Во-вторых, ему, как опытному фашистскому недобитку, предлагают вернуться во вновь открытое военное училище. Разумеется, как «не запятнавшему себя военными преступлениями». Это уж само собой, он же просто выполнял приказы и встряхивался… Да он вообще лишь любовался деревьями, листочками и кукурузными початками. Ну еще руку фельфебельскую в газету заворачивал и вмятины на броне от русских пуль ощупывал. Больше ничего, честное фашистское слово.
И вы знаете – наш не желавший войны и страдавший от нее Ральф охотно принимает приглашение. И служит исправно, вплоть до выхода в отставку в майорском чине.
В-третьих, Эрнестине подваливает наследство после смерти дяди, и наши голубки «становятся профессиональными немецкими пенсионерами».
Ходят по музеям – «сначала в Европе, потом в обеих Америках».
«Проявляют себя беззаветными посетителями симфонических концертов и оперных премьер».
«В сентябре ездят в Италию. Иногда – в Венецию… Лежат на пляже в Поццуоли под Неаполем. Часами смотрят на море и очертания далекого берега».
Живя в Мюнхене, они скрупулезно следят за здоровьем: «ежедневно, в любую погоду, проезжают двадцать километров на велосипеде по Английскому саду».
Придется признать: и автор, и критики правы – да, жизнь героя наполнена неимоверными страданиями и мучениями. Тяжелейшее чувство вины так и гнет несчастного Ральфа к земле, так и рвет на клочки его измученную душу. Бедняга, истязает себя оперными премьерами и ездой на велосипеде – наложил сам на себя епитимью…
Годы дают о себе знать, Ральф переживает пару инфарктов, его «туристическая активность несколько снижается». Врачи не рекомендуют путешествовать, но назло им сладкая парочка съездила в Голландию и Данию. Врачи это им простили. Знаете почему?
«В конце концов, это не те поездки, которые способны вызвать инфаркт… Не поездки, например, в Россию».
И вот восьмидесятилетнему Ральфу взбредает в голову так и сделать – поехать в Русский Мордор и посетить места былой боевой славы. Проколесить весь свой маршрут полувековой давности, включая езду на крестьянской подводе от Миллерова до Белой Калиты. «Вместе с атласом туристическому бюро Ральф передает сохранившиеся у него карты вермахта с отмеченными крестиками деревнями, рощами, озерами и возвышенностями, которые он хотел бы посетить».
Ну что же. Любой каприз за ваши деньги. В Смоленске нашу парочку немцев встречает гид Колья и присланный из Москвы шофер на «прекрасной немецкой машине» марки «Мерседес». После первых же километров дороги немецкая «пожилая пара вянет на глазах», а шофер жалеет прекрасную немецкую машину и возмущенно матерится.
Дороги современной России так и не стали похожими на дороги Венеции.
«Дыры в асфальте, детали грузовиков, трупы собак – предметы не сторонние. Все они соприкасаются с колесами “Мерседеса” на его пути к Брянску».
«Ральфу кажется, что деревни мало изменились (прыжок и удар днищем)».
«Человек тут, похоже, вообще ни во что не вмешивался».
От всей этой мерзости запустения становится плохо не Ральфу (он-то привыкший, да и сам немало поработал над обликом русских деревень в свое время), а изнеженной старушке Эрнестине. Ее хватает кондратий, и поездка перестает быть томной – немецкую бабку кладут в провинциальную больницу. Слава богу, не в коридор, а в двухместную палату, где одна койка занята ровесницей наших немецких туристов, бабушкой по имени Валентина Кузьминична.
«В палате пахнет мочой.
– Это как в Венеции, – шепчет Ральф соседке Эрнестины. – Там тоже такой запах от каналов. Вы бывали в Венеции?»
Дорогой херр фашист-майор в отставке! Благодаря твоим стараниям Валентина Кузьминична могла скорее в Освенциме побывать. Ну или в Великую Германию на принудительные работы съездить, чем в твою любимую Венецию.
Конец дурацкой повести «Близкие друзья» скучен и банален.
Старушка Эрнестина, согласно знаменитой классификации мастера Безенчука, отдает богу душу. Коварный план Ральфа помереть раньше нее не сработал, приходится еще один гроб из России отправлять в родной фатерлянд.
Вместо помощи той бабушке из анекдота про гуманитарную посылку или хотя бы несчастной Валентине Кузьминичне из пропахшей мочой палаты Ральф решает вознаградить молодое поколение – перед отбытием в Германию дарит гиду Колье карточку, на которой пятьдесят тыщ евро. На свадьбу и роды.
Немец улетает, а внизу под дождем идет Колья. «Он не сел в автобус, чтобы иметь возможность выплакаться». Колья рыдает, жалея и немецких стариков, и себя, и свою невесту, но пальцы его время от времени щупают в кармане карточку. «Сердце его наполняется неуместным ликованием, и от этого он рыдает еще громче».
Старик Ральф проживает еще полтора года и укладывается на Северном кладбище рядом с Эрнестиной. За могилками ухаживает Брунехильда. Это дочка от первого брака доктора Аймтербоймера, чтоб ему пусто было! Не простая дочка, а – приготовьтесь – с привеском в виде внучка-негритенка. Экзотический внучек – сувенир от доблестных американских войск в Мюнхене.
Оказывается, прогрессивные старики всячески поддерживали бедную девицу с чернокожим младенцем на руках, оберегали от предрассудков тогдашнего населения. Ухаживает ли Брунехильда за могилкой своего папы-нациста – неизвестно. Скорее всего – нет, ведь бедный Аймтербоймер, наверное, так извертелся в гробу, что и надгробный памятник под землю провалился.
Кроме посмертного покарания папы-фашиста внуком-негритенком эта самая Брунехильда нужна в повести еще и для заключительного изречения.
Дело в том, что за год до смерти немецкий майор Ральф повредился кукушкой и забыл все, кроме своей Эрнестины. Больше не помнил ничего, даже дня рождения своего. Войну, впрочем, ветеран Восточного фронта смутно помнил, потому что приставал к Брунехильде с расспросами: «Скажите, Брунехильда, а с кем мы воевали и главное – зачем?»
Ну вот что поделаешь, незлопамятный какой старикан – наделал зла в младые годы и не помнит.
Думаете, Брунехильда ему напомнила? Могла бы – материал богатый имеется для напоминаний. Но нет.
«Я в ответ просто промолчала. Если человек задает такие вопросы, лучший ответ, я считаю, молчание».
На этой минуте молчания, которая вовсе и не в память о наших загубленных ральфами и хансами людях, повесть «Близкие друзья» и завершается.
Мы уже домолчались до появления феномена «Коля из Уренгоя».
Мало нам, очевидно.
Более бездарной, постыдной, соплежуйской и откровенно расчетливой писанины я не читывал давно. От холодных и выверенных водолазкинских попыток навязать нам угодливое «понять и простить» я испытывал то самое горькое сожаление, которое автор приписывает былым нашим врагам.
Только мое сожаление – оно настоящее. И в первую очередь – за то, что творят с нашей современной литературой и с нами.
Почему героям книг Ремарка действительно сочувствуешь, почему с первых глав становятся понятны их мысли, переживания? Почему так ужасают их воспоминания? Почему не вызывают отторжения попытки героев забыться и как можно реже заглядывать на темные задворки своей души?
Да потому что сам Ремарк прекрасно знал, о чем писал. Да потому что он жил в изгнании, а книги его сжигались на площадях. Впрочем, ему предлагали и вернуться в Германию, как раз незадолго до выхода романа «Три товарища». Но он, в отличие от Водолазкина, иллюзиями о немцах того времени не страдал – был их современником и знал, что его ожидает. Томас Манн, упомянутый в начале водолазкинской повести, тоже знал – его также нацисты всячески уговаривали вернуться, но писатель понимал, во что превратились его соотечественники.
А в повести Водолазкина никакой правды жизни нет и быть не может. Откуда ей там взяться? Войны доктор филологических наук, к счастью, не познал. Драматургией и психологией, к сожалению, не овладел – его кособокая и картонная поделка «Близкие друзья» напрочь лишена даже намека на них. Про конфликт и говорить нечего – герои повести примитивные безмозглые существа, о чем вообще разговор.
Главная цель, на достижении которой автор сконцентрировался, выводя суховатые словеса своей «повести» – угодить ляхам. Тьфу ты, немцам.
Своеобразная дань благодарности стране и народу, подобравшему и обогревшему филолога-ученого в трудное время. В этом ничего плохого и не было бы, не сунься Водолазкин туда, куда ему лезть совершенно не следовало.
Вспомним опять Алексея Иванова – его роман-глыбу «Сердце Пармы», тоже спорный, но весьма интересный текст, выросший из увлечения автором историей края, из его глубоких знаний и смелых фантазий. И вспомним нелепую, стыдную ивановскую поделку под названием «Ненастье», сварганенную по наущению продюсера.
Вот и Евгений Германович Водолазкин – замечательный ученый, прекрасный специалист по древнерусской литературе. Публицист, колумнист. Писатель, в конце концов – пусть многими его роман «Лавр» и считается спорным, трудным, но таким и должен быть настоящий текст, рожденный сердцем и опытом. Можно и в нем найти кучу огрехов, но дело же не в них. Роман «Лавр» – это состоявшееся явление в современной отечественной литературе, и за одно это Евгений Германович Водолазкин достоин уважения.
Но вот «понять и простить» его за бездарных и отвратительных «Близких друзей» – нет никакого желания.
Еще в ФИНБАНЕ (кликабельно)
Вадим Чекунов — ИЗ ОКНА ДУЛО
О военной прозе Гузели Яхиной.
