Варлам Шаламов — «НОВАЯ ПРОЗА» | «То, что было бы не литературой» без морали
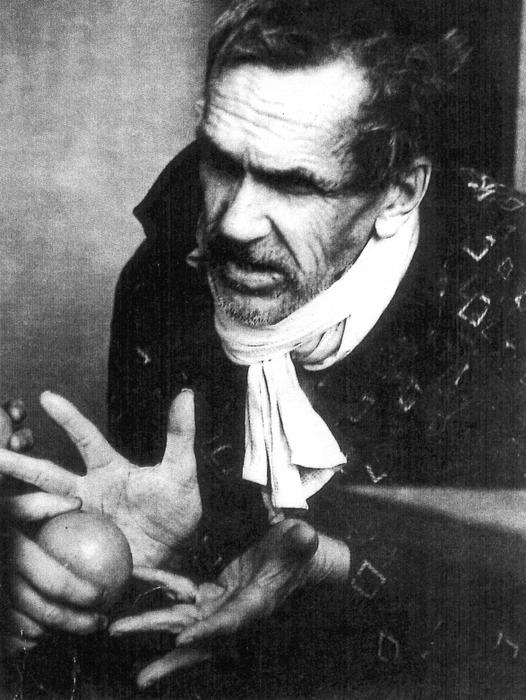
Ульрих Шмид
Доктор славистики, профессор русской культуры Университета Санкт-Галлена.
St. Gallen, Switzerland
………………………………………..
Если сравнить степень представленности «Колымских рассказов» в различных странах, то бросается в глаза то обстоятельство, что в каждом случае первая публикация, хотя и произошла сравнительно рано, однако не смогла привлечь к себе на долгое время внимание широкой публики. Неуспех Шаламова объясняется, конечно, не тем, что неверно был избран момент для публикации. 1970-е годы всецело проходили под знаком «холодной войны», Александр Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГ» предпринял столь же шокирующее, сколь и производящее сильное впечатление документальное исследование сталинистских трудовых лагерей. В уходящий поезд его успеха затем сумели вскочить такие авторы, как Андрей Амальрик или Александр Зиновьев. Зиновьев не сумел. Проблема Шаламова была в том, что он совсем не пришел на этот вокзал. Он не разбирался в политических расписаниях поездов или в схемах международных пересадок. И так же точно он не хотел встречать свою публику в залах ожидания актуальных литературных тенденций. Он был возвратившимся странником, записывающим путевые заметки о мире, которого никто не должен был узнать. Более того: он считал вредным уже и то, что люди вообще узнают о существовании этого мира. В этом смысле нужно сказать, что отсутствие рецепции сочинений Шаламова с его собственной точки зрения представляло собой успех.
Новая проза как намеренный вызов читателю
Итак, поэтика Шаламова как раз не рассчитана на простоту чтения. Читателю, который не знаком с ГУЛАГом по собственному опыту, его тексты дают мало «точек соприкосновения». Краткие прозаические тексты движутся medias in res (в средоточии вещей (лат.)), автор не представляет действующих лиц, действия, как правило, нет, многое остается недосказанным, и его нужно даже угадывать.
Лагерные тексты Шаламова заметно отличаются от обработки этой темы у Солженицына. Подзаголовок «Архипелага ГУЛАГ»: «Опыт художественного исследования»[6] . Солженицын занимает эстетическую дистанцию от описываемого, которая в то же время позволяет ему также выразить свое моральное негодование о предмете своего изложения. Совершенно иначе поступает Шаламов В.Т. Он до минимума сокращает дистанцию между рассказчиком и текстом, между автором и героем и достигает таким образом максимальной аутентичности. Одновременно подобный нарративный метод исключает моральную оценку описываемого. Если кругозоры рассказчика и действующего лица совпадает, то невозможно также и никакое эстетическое остранение описываемого – но именно это остранение есть непременное условие морализирующей манеры изложения[7] .
Шаламов последовательно уклоняется от эмоционального «сообщничества» с читателем. В лагерной прозе Шаламова отсутствует какое бы то ни было обвинение. Жестокости и унижения он почти не описывает непосредственно, но только регистрирует, как обыденные события. Часто, чтобы читатель вообще воспринял некоторое явление во всей его значительности, ему нужно даже специально напрячь свое внимание. Например, убийство одним из заключенных лагеря другого Шаламов описывает как простую последовательность движений. Прямым текстом здесь не упомянуты ни нож, ни нападение:
«Сашка (…) чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок»[8] .
Шаламов отказывался также переделывать свои тексты. Он настаивал на аутентичности первого наброска:
«Ничто не может быть улучшено. Угадать можно только один раз.
Всякие поправки сразу уничтожают подлинность. Будет утрачен «эффект присутствия» (…) Первый вариант – самый искренний. В первом варианте всегда есть особая прелесть»[9] .
По этой причине Шаламов высказывался против писания по памяти или даже на основе заметок. Непосредственное присутствие он считал единственно правомерным мотивом к писательскому труду:
«Поэтому писателю не нужно что-то записывать, запоминать, наблюдать, достаточно присутствовать рядом – видеть, слышать и понимать»[10] .
Между тем эта программа «автоматического письма» (écriture automatique) имеет свою цену. Особенно в автобиографической прозе Шаламова «Четвертая Вологда» встречается очень много повторений, и отчасти даже буквальных повторений одних и тех же тем. Так же глух оставался Шаламов к предложениям об исправлении его текстов, которые высказывали друзья. Он отказывался устранять в своих текстах повторы или противоречия[11] .
Здесь, до известной степени. можно отметить влияние на него поэтики ЛЕФа[12] . Виктор Шкловский и Осип Брик выступали за литературу факта, которая должна быть совершенно очищена от авторской субъективности и приближаться в этом к новым СМИ – фотографии и кинематографу. Сам Шаламов в 1920-е годы принадлежал к кружку «Молодого ЛЕФа» вокруг Осипа Брика и лично знал также Сергея Третьякова[13] .
Таким образом, литература приобретает у Шаламова особый статус. Она не есть уже старательно создаваемое творцом произведение искусства, но результат мучительного процесса усвоения, в котором непосредственно воплощается некоторый момент жизни. Литература у Шаламова – не семиотическая репрезентация того, чего нет. Шаламов в своих текстах не проводит различия между жизнью и литературой. Описанное присутствует непосредственно. Нет здесь также и различных вариантов языкового выражения для этой наличности описываемого: всякая попытка переформулировки была бы в то же время манипуляцией с самим предметом. Шаламов был только последователен, когда ввиду этого даже выносил свои тексты за пределы области литературы:
«Если меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: Я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в «Колымских рассказах» нет. Я не пишу и рассказов, вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой. Не проза документа, а проза, выстраданная как документ»[14] .
Шаламов очень точно обозначил желаемый им статус своего писательства, когда назвал его «уникальным феноменом нелитературной литературы»[15] . Для этой документальной литературы Шаламов снова и снова использовал наименование «новой прозы». Основные существенные черты своей поэтики от определил в одном тексте, похожем на манифест:
«В новой прозе – после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и Серпантинной на Колыме, после войн и революций – все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить.
Искусство не облагораживает, не улучшает людей. Искусство – это способ жить, но не способ познания жизни.<…>
Для нынешнего времени описаний мало.
Новая проза – это само событие, сам бой, а не его описание. То есть, — документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ.
Эффект присутствия, подлинность есть только в документе. Письма выше надуманной прозы.
Смерть [зачеркнуто: крах] романа, рассказа, повести – смерть романа характеров, описаний. Все выдуманное, все «сочиненное» — люди, характеры – все отвергается»[16] .
В шаламовской концепции «новой прозы» происходит также смещение отношения между автором и текстом. Автор не противостоит своему тексту, как автономный творец, но оказывается его пленником:
«Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей, от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. Что понимание увиденного не должно уходить слишком далеко от нравственного кодекса, от кругозора читателей. (…)
По этой мысли — писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор и мастер чуть больше, чем нужно. (…)
Новая проза отрицает этот принцип туризма. Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник и не в писательском обличье, не в писательской роли.
Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад»[17] .
Поэтому писательская работа – это в высшей степени демоническое занятие, которое надолго причиняет душевный вред самому автору. В одном частном письме 1975 года Шаламов делает даже еще один шаг далее:
«Стихи – это дар Дьявола, а не Бога, тот, Другой – (…), он-то и есть наш хозяин. Отнюдь не Христос, отнюдь (…) Антихрист-то и диктовал Библию, Коран и Новый Завет»[18] .
В свете этой концепции литература теряет какие бы то ни было моральные притязания. Напротив Шаламов В.Т. Для литературы было бы лучше совсем отмереть, потому что в этом случае было бы уничтожено с ней вместе и присутствие лагерного опыта. Шаламов выразил свою мысль в устрашающей формуле: «Бог умер. Почему же искусство должно жить?»[19] .
Заняв эту радикальную позицию, Шаламов, в конечном счете, ликвидировал и основания для оправдания своего собственного писательского труда. В одной поздней записи он строго судит самого себя:
«Почему я пишу рассказы?
- Я не верю в литературу. Не верю в ее возможности по исправлению человека. Опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням XX столетия перед моими глазами.
- Я и не верю в ее возможность кого-нибудь предупредить, избавить от повторения. История повторяется, и любой расстрел тридцать седьмого года может быть повторен.Почему же я все-таки пишу?Я пишу для того, чтобы кто-то в моей, очень далекой от всякой лжи прозе, читая мои рассказы, всякий смог <сделать> свою жизнь такой, чтобы доброе что-то сделать хоть в малом <плюсе>. Человек должен что-то сделать».[20] .
Шаламов не только подвергает радикальному сомнению смысл авторства, но атакует и позицию читателя: «Колымские рассказы» должны действовать, как «пощечины»[21] . Шаламов не оставляет своему читателю места для внешней перспективы взгляда на ГУЛАГ. ГУЛАГ – это особый мир, в котором есть только «внутри». В этом радикальном ограничении перспективы заключается сила литературной убедительности текстов Шаламова, и одновременно она представляет собою, возможно, глубинную причину трудности его читательской рецепции: Описание ГУЛАГа у Шаламова призывает не к моральному возмущению, а к тому, чтобы войти в безнадежный и жестокий мир лагерей.
Читатель становится свидетелем неслыханной жестокости. Но именно тем самым он становится также подсматривающим, который нравственно компрометирует себя тем, что видит. Шаламов начинает свои «Колымские рассказы» с загадочного текста, который может быть прочитан как осуществленная метафора его собственной поэтики. Рассказ «По снегу» описывает группу заключенных, которые должны утоптать снежную трассу, занесенную слоем снега в метр толщиной, чтобы по ней можно было транспортировать грузы. Но в конце текст возвышается над фактографическим описанием труда заключенных и раскрывается как речь со скрытым смыслом:
«А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели»[22] .
Требовательность этой фразы состоит в том, что читателя принуждают занять место эксплуататора автора. Автор – лицо страдающее, читатель – его мучитель. Автор в буквальном смысле слова сводит болезненный опыт лагеря, чтобы читатель мог сам пережить этот самый опыт в благоприятных условиях действительности, сублимированной в литературе. Последняя фраза рассказа фиксирует также, что белая заснеженная поверхность может быть интерпретирована как семантическое нулевое пространство. Автор с большим трудом топает по этой тягостной бессмысленности, чтобы читатель мог впоследствии пойти по его следу. Заснеженная поверхность обнаруживается как метафора неисписанного листа, который еще только предстоит наполнить смыслом[23] . Тем самым коммуникация между автором и читателем описывается как в высшей степени проблематичный процесс, помещающий читателя в нравственно двусмысленную ситуацию. Поэтому Шаламов приходит также к выводу, что его новая проза ведет к «неизбежному разрыву между читателем и писателем»[24] .
Итак, поэтика Шаламова с самого начала привязана к затрудненному восприятию: Эстетическое видоизменение прочитанного в любом случае исключено, более того, «новая проза» ориентируется на некое затруднительное чтение, вдвойне мучительное для читателя: Он должен заново переживать страдания рассказчика и сам страдает от своей роли бездеятельного зрителя.
Моральный нигилизм
В рамках литературной концепции Шаламова является не более чем последовательным то, что вместе со смыслом своей литературы он ставит под сомнение и смысл (продолжения) жизни.
«Я — доходяга, (…) вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моем бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас»[25] .
Смерть в произведениях Шаламова утратила все свойства ужасного, потому что жизнь намного ужаснее ее. Эта своеобразная аксиология отражается также в «Колымских рассказах». Смерть – это банальное событие, которое оценивается разве что по сопровождающим его обстоятельствам. Так, один из персонажей ограничивает свои требования от жизни сохранением минимального человеческого достоинства при его неизбежной смерти:
«Но было тайное, страстное желание, какое-то последнее упрямство – желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех»[26] .
Заключенный, которого вечером без предупреждения уводят на расстрел, с открытыми глазами идет навстречу своей смерти, и жалеет только о том, что в этот день еще тратил энергию на борьбу за существование:
«Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился в этот последний сегодняшний день»[27] .
Из этой перспективы его собственная смерть предстает последним средством давления, которое еще остается у заключенного:
«Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, – на целых десять лет»[28].
Между тем моральная неочарованность Шаламова сложилась только после того, как истек второй срок его заключения. Свой первый приговор и лагерь он еще воспринимал как повод для морального самоиспытания. В своем «антиромане» «Вишера» Шаламов, полный гордости, об этом времени:
«Главное ощущение после двух с половиной лет лагеря, каторжных работ — это то, что я покрепче других в нравственном смысле»[29] .
В 1936 году Шаламов опубликовал в журнале «Октябрь» примечательный текст, который своим лаконичным и выразительным языком предугадывает «Колымские рассказы», но еще отличается моральным пафосом. «Три смерти доктора Аустино» рассказывают нам историю врача, ожидающего расстрела в тюрьме. У жестокой супруги директора тюрьмы, которая сама принимала участие в пытках заключенных. Начались преждевременные роды; срочно нужен врач, чтобы спасти женщину и ее ребенка. Врач медлит, но наконец решается помочь. Исполнив это медицинское вмешательство, он возвращается в тюрьму и проводит ночь перед казнью голодным, потому что его уже вычеркнули из списка для раздачи порций пищи[30] .
Само собою разумеется, в этом рассказе Шаламов удалил всякий намек на то, что эта непревзойденная по трагичности и цинизму история могла случиться в Советском Союзе. Фамилия врача и то обстоятельство, что в конторе директора тюрьмы стоит бюст Данте, можно истолковать как осторожный сигнал того, что действие происходит в фашистской Италии. Но именно сдержанность автора в точной локализации действия показывает, что здесь разбирается общезначимая этическая проблема, не привязанная к определенной политической системе.
Примечателен в этом рассказе моральный абсолютизм, которого впоследствии мы вообще не находим более у Шаламова. Врач оказывает помощь своей мучительнице, хотя он ясно понимает, что этим он не может спасти себя самого. В этом раннем тексте Шаламов подтверждает абсолютную необходимость соблюдения гуманных правил поведения даже для вопиющих к небу условий несправедливой тиранической системы.
Эта вполне утопическая позиция позже уступает место некоторому моральному нигилизму. Сам Шаламов в письме 1971 года назвал свои ранние рассказы «пустяками»[31] . Колымский опыт сильнее любых этических принципов, которые оказываются в конечном счете роскошью свободных. Шаламов не оставлял сомнения в том, что утратил всякую веру в гуманистические идеалы. В своих выводах он шел очень далеко: человеческая мораль не только погибла в экстремальных условиях ГУЛАГа, но и вообще перестала существовать. Лагерь для Шаламова был не противоположностью, но верным отражением «свободной жизни». Единственное различие между лагерем и остальным миром заключалось для него в том, что в заключении легче распознается человеческая натура. Здесь больше нет фасадов общественного приличия. Надзиратели и заключенные делят одну общую судьбу, в которой имеют значение только одни животные инстинкты. В одном рассказе 1959 года мы находим отрезвляющее перечисление всех проступков, на которые способен человек:
«Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону.
Оказывается, можно делать подлости и все же жить.
Можно лгать – и жить.
Можно обещать – и не исполнять обещания и все-таки жить.
Можно пропить деньги товарища.
Можно выпрашивать милостыню и жить! Попрошайничать и жить!
Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает. (…) Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не замечает этого»[32] .
В своих «Колымских рассказах» Шаламов ограничился тем, что констатировал нравственное банкротство человека. Он не осудил это разложение, он не верил в его обратимость, он не предлагал никакого выхода. Тем самым Шаламов сознательно противопоставил себя тому моральному пафосу, с которым в 1960-е годы выдвинулись такие авторы, как Евгений Евтушенко или Александр Солженицын.
Евтушенко подверг радикальной переоценке значение поэта и утверждал, что «поэт в России больше, чем поэт». Он претендовал быть рупором народа и перемещался по узкой грани между диссидентством и приспособленчеством. Александр Солженицын говорил о том, что писатель – это «второе правительство» и подкреплял эту претензию своими мужественными выступлениями против советского руководства. Оба эти автора по-разному требовали для себя положения «совести нации».
Евтушенко и Солженицын вполне могли опираться на романтические концепции поэта (poeta vates), и своими моральными обвинениями они затронули нерв эпохи и внутри страны, и за рубежом. Принципиальный отказ Шаламова от подобных воздействующих на публику заявлений значительно снизило его шансы привлечь к себе внимание широкого читателя.
Против литературы высоких вершин
Еще одна причина отсутствия рецепции Шаламова заключается, возможно, в совершенном им своенравном пересмотре канона русской литературы. Шаламов отнюдь не разделял вполне консервативных вкусовых предпочтений русской интеллигенции. Он был восторженным поклонником Артура Конан Дойля[33] . Кроме того, он высоко ценил прежде всего Александра Дюма, Редьярда Киплинга и Джека Лондона. Сравнительно с этим пантеоном авторов, которых относят обычно к тривиальной литературе, он заметно обесценил для себя русских классиков:
«Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский – все это школьное чтение, и на это нет эмбарго»[34] .
Труднодоступность становится здесь прямо-таки критерием качества: Вершины литературы 19 века дискредитированы одним уже тем фактом, что они присутствуют в каждом школьном учебнике. Действительную ценность, с точки зрения Шаламова, имеет та литература, на которую был наложено «эмбарго». Это относится в особенной степени к столь высоко ценимой Шаламовым английской и французской развлекательной литературе.
К этому присоединяются мировоззренческие сомнения. Романы Достоевского и Толстого представляются Шаламову реликтами такого мира, который еще мог заниматься вопросом о Боге. Но для него самого все литературные дискуссии русских классиков были тщетой:
«Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть. Потому в дальнейшем меня мало трогали истеричность Кириллова и метания Ивана Карамазова. И уж вовсе казались ненужными, а главное очень плохо написанными многочисленные притчи Льва Толстого.
Бог уже был мертв для меня. Гальванизация Достоевским всех этих проблем спасти ничего не могла»[35] .
Принципиальный отказ от морализирующей традиции русской литературы мы находим в рассказе «Галина Павловна Зыбалова». Рассказчик отказывается помочь его обозначенной в заглавии героине решить вопрос, должна ли она сделать выбор в пользу мужа или любовника:
«Несчастье русской литературы, Галина Павловна, в том, что она лезет в чужие дела, направляет чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает, не имея никакого права соваться в моральные проблемы, осуждать, не зная и не желая знать ничего»[36] .
В одном письме 1968 года Шаламов подчеркивал важность изменившихся условий восприятия русской литературы:
«Во вторую половину 19 века в русской литературе укрепляется антипушкинский нравоучительный описательный роман, который умер на наших с Вами глазах. Никакие попытки не спасут [от] смерти жанра. Однако, пока не будет осужден самый принцип описательности произведения, литературных побед нет. Да и чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь и видевшего пламя [взрыва атомной бомбы в] Аламогордо».[37]
Канон литературы 20 века Шаламов тоже не оставил в силе без оговорок. Правда, с Буниным его объединял чрезвычайно критический взгляд на русское крестьянство, которое у обоих этих авторов отнюдь не выглядело «народом-богоносцем» Достоевского. Но одновременно он попытался также выйти за рамки эстетизирующей поэтики Бунина:
«Что касается Бунина, то я, хоть меня и обвинил военный трибунал в 1943 году за то, что я сказал, что Бунин — русский классик, не думаю, что русская литература кончилась на Бунине»[38] .
В незаконченном произведении Шаламова «Вечерние беседы» Бунин представлен в сталинской военной униформе, охранником в Бутырской тюрьме. В этом мотиве Шаламов упрекает Бунина в том, что за победу над гитлеровской Германией он простил Сталину его преступления[39] .
Особенно отрицательно Шаламов высказывался о Есенине, который был для него крайне подозрителен, как поэтический кумир преступного мира. Как основные черты поэзии Есенина, Шаламов выделял культ матери, апологию насилия, ругань, женоненавистничество и уход из общества[40] . Конечно, своей резкой критикой Шаламов нарушал положительный образ Есенина, сложившийся у русской интеллигенции, которая видела в нем умершего в юности мученика[41] .
От орнаментальной прозы авангарда Шаламов дистанцировался так же радикально. В одном письме 1971 года он вспоминал, как вычеркивал в рассказах Исаака Бабеля все излишнее:
«Я когда-то брал карандаш и вычеркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти пожары, похожие на воскресение, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось не много»[42] .
В своих воспоминаниях Шаламов нашел еще более резкие слова, говоря о Бабеле:
«Я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья», и «девушек, похожих на ботфорты» … и прочие красоты (…) Все дело было в этом украшении, не больше. (…) Бабель был любимцем снобов[43] .»
В 1960-е годы Шаламов читал Булгакова. При этом он выступил против всеобщего одобрения и воспринял роман «Мастер и Маргарита» прежде всего как помесь сатиры на советский строй и исторической критики религии:
«“М<астер и Маргарита>” — среднего уровня сатирический роман, гротеск с оглядкой на Ильфа и Петрова. Помесь Ренана или Штрауса с Ильфом и Петровым. Булгаков — никакой философ»[44] .
Литературное творчество Бориса Пастернака, с которым Шаламова в 1950-е годы связывала дружба, также получил от него критические замечания. Хотя Шаламов еще в 1969 году писал, что Пастернак был «самым подлинным поэтом»[45] . Однако в этих словах Шаламов имел в виду прежде всего насквозь проникнутую литературой жизнь Пастернака. Для Пастернака литература была той средой, в которой проявлялись признаки будущего. Но особенно чужда была Шаламову философия жизни Пастернака. Так, в «Докторе Живаго» в одном месте говорится:
«О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!»[46] .
Для слуха Шаламова подобный гимн жизни должен был звучать неприкрытой насмешкой. Ведь для него не было даже ясно, представляет ли ценность выживание человека как таковое. Форма романа, с точки зрения Шаламова, также не могла уже соответствовать подлежащей описанию действительности:
«“Доктор Живаго” — последний русский роман. “Доктор Живаго” — это крушение классического романа, крушение писательских заповедей Толстого. “Доктор Живаго” писался по писательским рецептам Толстого, а вышел роман-монолог, без “характеров” и прочих атрибутов романа XIX века»[47] .
Шаламов читал «Доктора Живаго» в рукописи и в начале 1954 года скрупулезно комментировал роман в длинном письме к его автору. Он осторожно изложил здесь свои сомнения в возможности романа. Он уважительно отметил многие поэтические детали произведения, но указал также и на сконструированность отрицательных героев. Впрочем, интенсивная переписка вскоре прервалась, поскольку Шаламов видел в возлюбленной Пастернака Ольге Ивинской угрозу для пастернаковской поэзии[48] .
Отношение Шаламова к Солженицыну было поначалу отмечено дружеской симпатией, однако в середине 1960-х годов превратилось в открытое презрение[49] . Шаламов отвергал консервативные языковые эксперименты Солженицына и отстаивал то мнение, что чтение словаря Владимира Даля не может ничего принести для лагерной прозы – что оно допустимо, в лучшем случае, как «допинг»[50] . Прославилась также критика Шаламовым повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Хотя Шаламов признавал новаторскую информативность этой повести, но критиковал, например, упоминание в ней кошки, которая в лагере давно бы была уже съедена, или то, что суп там едят ложками, тогда как заключенные всегда хлебали жидкий суп через край тарелки. За этими кажущимися деталями Шаламов зафиксировал тяжкое нарушение исповедуемой им поэтики правдивости: С его точки зрения, литературное описание ГУЛАГа не терпело никакого отклонения от действительности. Уничтожающее суждение о Солженицыне Шаламов произнес в 1971 году:
«Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Москва двадцатых, но без меня, без моей фамилии»[51] .
В одной заметке Шаламов пошел еще дальше и назвал его «графоманом», который «недостоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма»[52] . Позднее, подводя итог, в одном из писем Шаламов резюмировал: «Солженицын лагеря не знает и не понимает»[53] .
Своей произвольной переформулировкой канона русской литературы Шаламов нарушил целый ряд табу. Классикам 19 века от отказывал в какой бы то ни было актуальности; русские лауреаты Нобелевской премии тоже не казались ему достойными этой премии:
«Нобелевский комитет ведет арьергардные бои, защищая русскую прозу Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына. У этих четырех авторов есть единство, и это единство не делает чести Нобелевскому комитету. Из этих четырех лауреатов только Пастернак кажется, тут на месте, но и ему мантия дана за «Доктора Живаго», а не за его стихи. «Доктор Живаго» — это попытка модерниста создать реалистический роман»[54] .
Бросая в одну кучу Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына, Шаламов становился непопулярным у всех групп читателей: он уже не мог рассчитывать на согласие русских эмигрантов, он оскорбил диссидентов в своей стране, и, наконец, катапультировался из официального советского литературного цеха.
………………………….
Перевод с немецкого Андрея Судакова.
Журнал «Восточная Европа» («Osteuropa»), 57-й год издания, выпуск 6, июнь 2007, с. 87-105
Примечания
- 6. В немецком издании перевод подзаголовка неверно включает произведение в контекст послевоенной Германии: «Versuch einer künstlerischen Bewältigung (буквально: «Опыт художественного одоления»).
- 7. Поэтому Толстой – излюбленный автор для формалистического анализа, оперирующего понятием остранения; см. об этом Viktor Erlich: Russischer Formalismus. Frankfurt/Main 1987, S.195f.
- 8. Шаламов В.Т. На представку // Шаламов В.Т. Собрание сочинений, т.1, с.13.
- 9. Варлам Шаламов В.Т. Кое-что о моих стихах, // Возвращение. Выпуск 5. Москва, 1991; также: Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.4, с.339-356, с.346, 349.
- 10. Варлам Шаламов В.Т. Вишера. Антироман, // Шаламов В.Т. Собрание сочинений, т.4, с.151-292, с.194.
- 11. Геннадий Айги: Один вечер с Шаламовым, // Вестник русского христианского движения. №1. 1982. — С.156-162.
- 12. «Левый фронт искусства (ЛЕФ)» возник в 1922 году как объединение русских футуристов, стремившихся к тесной связи искусства с производством, но в то же время выступали против постулата «элементарной понятности».
- 13. Franciszek Apanowicz: “Nowa proza” Warlama Szalamowa. Gdansk, 1999, S.31.
- 14. Шаламов В.Т. О прозе, // Шаламов В.Т. Собрание сочинений, т.4, с.357-370, с.370.
- 15. Муравник М. Редакционный эпизод // Новое русское слово, 11.4.1980.
- 16. Шрейдер Ю.А. Варлам Шаламов о литературе // Вопросы литературы, 5/1989, с.225-248, с.241.
- 17. Шаламов В.Т. О прозе, с.365.
- 18. Шрейдер Ю.А. Указ. соч., с.237.
- 19. Шаламов В.Т. О моей прозе, // Шаламов В.Т. Собрание сочинений, т.4, с.371-386, с.375.
- 20. Шаламов В.Т. Из черновых записей 70-х годов // Новый мир. №12. 1989. — С.3.
- 21. Шаламов В.Т. О моей прозе, с.375.
- 22. Шаламов В.Т. По снегу, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.1, с.7.
- 23. Leona Toker: Toward a Poetics of Documentary Prose. From the Perspective of Gulag Testimonies, in: Poetics Today, 18/1997, p.187-222, p.195.
- 24. Шрейдер Ю.А. Указ. соч., с.241.
- 25. Шаламов В.Т. Вишера. Бутырская тюрьма. Перчатка, или КР-2. М., 1990. — С.152.
- 26. Шаламов В.Т. Плотники, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.1, с.17.
- 27. Шаламов В.Т. Одиночный замер, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.1, с.23.
- 28. Шаламов В.Т. Шерри-бренди, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.1, с.61-66, с.65.
- 29. Шаламов В.Т. Вишера (сноска 10), с.256.
- 30. Шаламов В.Т. Три смерти доктора Аустино, // Октябрь. №5. 2004. — С.159-168.
- 31. Шаламов В.Т. О моей прозе, с.371.
- 32. Шаламов В.Т. Красный крест, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.1. — С.141-148, с.146.
- 33. Шаламов В.Т. Четвертая Вологда, // Шаламов В.Т.: Воскрешение лиственницы. Париж, 1985. — С.213. Или: Шаламов В.Т. Воспоминания. — М., 2001. — С. 13-16.
- 34. Шаламов В.Т. Четвертая Вологда, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений, т.4, с.66.
- 35. Там же, с.145.
- 36. Шаламов В.Т. Галина Павловна Зыбалова, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений (сноска 5), т.2, с.301.
- 37. Шрейдер, Варлам Шаламов (сноска 16), с.233.
- 38. В.В.Есипов В.Т. Пусть мне «не поют» о народе… (образ народа в прозе И.Бунина и В.Шаламова), // IV международные шаламовские чтения. М., 1997. — С.86.
- 39. Там же, с.87.
- 40. Шаламов В.Т. Сергей Есенин и воровской мир, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений (сноска 5), т.4, с.86-92, с.145. О взгляде Шаламова на уголовников в лагере см.статью Михаила Рыклина в этом выпуске, S.107-124.
- 41. Fritz Mierau: Sergej Jessenin. Leipzig, 1991, S.472f.
- 42. Шаламов В.Т. О моей прозе, с.372.
- 43. Шаламов В.Т. Воспоминания // Знамя № 4. 1993. — С.124.
- 44. Там же, с.146.
- 45. Варлам Шаламов В.Т. Кое-что о моих стихах, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений (сноска 5), т.4, с.339-355, с.343.
- 46. Boris Pasternak: Doktor Živago. Milano 1958, p.402.
- 47. Шаламов В.Т. О прозе (сноска 14), с.358 и след.
- 48. Шаламов В.Т. Из записных книжек , // Знамя, 6/1995, с.134-175, с.152.
- 49. Об отношениях между Солженицыным и Шаламовым см. статью Клауса Штедтке в этом выпуске, S.137-155.
- 50. Письмо от 1 ноября 1964 года, // Шаламов В.Т., Собрание сочинений (сноска 5), т.4, с.457. В своем «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль попытался собрать все лексическое наследие русского языка, особенно его диалектную лексику.
- 51. Шаламов В.Т. Из записных книжек, с.155.
- 52. Шаламов В.Т. Из записных книжек, с.165.
- 53. Шаламов В.Т. Из переписки (письмо А.А.Кременскому) // Знамя. 1993. №5. — с.151. Публичные высказывания Солженицына о Шаламове см. текст «Варлам Шаламов», включенный в этот выпуск, S.157-168.
- 54. Шаламов В.Т. Из переписки, с.153.
