ВЕЛИКАЯ ПУСТОТА Паоло Соррентино

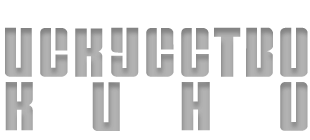
Сатирикон
Один московский человек давным-давно смотрел «Сатирикон» Феллини вдвоем с переводчиком в Доме кино перед показом публике. Направляясь к выходу, он столкнулся с премьерной толпой и, о ужас, увидел в ней лица персонажей «Сатирикона». Этот страшный устный мемуар забыть трудно.
«Великая красота» Паоло Соррентино колет глаза отсылками к «Сладкой жизни», «Риму» и даже «81/2», но теперешний Рим – пародия на феллиниевские мотивы. Ну, или гротескная городская панорама-обозрение.
Вечный город стал городом мертвых, веселящихся, болтающих, пьющих, закусывающих, проводящих время на модных тусовках, перформансах. Умирают тут только турист и вечная любовь протагониста, подруга его молодости. Но турист у зрителей на глазах, а она – за кадром. Турист, испытав «синдром Стендаля», грохается в сердечном приступе, не успев снять очередной вид римской красоты, оставшейся в скульптурах, бассейнах, дворцах и «просто» городских видах. А римляне постарели и утратили красоту. Но сдаваться не намерены. Соррентино, владеющий талантом пародиста, смакующего чрезмерности человеческих типов и реакций, представляет галерею, в сущности, вырожденцев. При этом иногда вполне милых, но все равно снятых с саркастической бравадой.
Герой этого повседневного упаднического и смешливого карнавала – Джеп Гамбарделла, в прошлом писатель, автор единственного романа «Человеческий аппарат». Ныне журналист какого-то глянца, берущий интервью у звезд этой виртуальной, насквозь реальной действительности. Его главный редактор – карлица, добившаяся столь завидного поста и кормящая в своем кабинете знаменитого сотрудника супчиком, разогретом на плитке. Единственные сцены трогательного затишья (если не вслушиваться в их деловые обсуждения) на этом балу монстров.
Тони Сервилло – герою стареющего 65-летнего плейбоя, проживающего близ Колизея, – играть особенно нечего. Остается только менять маски наблюдателя или утомленного участника праздника жизни, из которого – таковы правила игры бомонда – выпасть невозможно. Зато имитировать жизнедеятельность – пока смерть не разлучит с Римом – приходится денно и нощно.
«Город контрастов» Соррентино населен комическими светскими персонажами, особенно гротескными на фоне неиссякаемого великолепия фонтанов, фресок, руин. Но гротескность залихватской на первый взгляд «сладкой жизни» напрочь или навечно лишена здесь драматических обертонов. Пресловутая римская беспечность не подвластна даже возрасту, который тут донашивают с неутомимым – опереточным легкомыслием. Ну, а пресловутая опустошенность стареющих светских львов и львиц может стать «в лучшем случае» лишь предметом только светской болтовни, которую ведут на террасе Джепа с видом на Колизей его старые знакомцы. Пресловутую насмешку над тотальным омоложением Соррентино удовлетворяет цирковыми антре в кабинете пластического хирурга, полусекундный укол которого стоит 700 евро. Деградацию римской аристократии демонстрирует в язвительном эпизоде найма княжеской четы за круглую сумму и под чужим именем на званый обед в честь почти столетней святой, посетившей Рим. Пресловутую антиклерикальность, актуальную в римском пространстве, Соррентино являет в образе кардинала-кулинара, открывающего рот только для перечня ингредиентов своих рецептов. Так Соррентино удостоверяет деградацию – удешевление крамольного сарказма и демонстрации «великой красоты», незабываемых со времен эпизода из феллиниевского «Рима» – показа мод церковного облачения.
Старикам в нынешнем Риме самое место на дискотеках, где оттягиваются бывшие левачки, звезды телесериалов или нынешние стриптизерши, бизнесмены, журналисты. В таком обозрении герой Мастроянни – журналист-поденщик Марчелло из старинной «Сладкой жизни» выглядел бы книжным персонажем (из «Бедных людей»). А богатый герой Тони Сервилло, знакомый с лучшими римскими портными, претендует лишь на протагониста китчевого вертепа. В белом костюме и с шелковыми платочками в нагрудном кармане.
Зара Абдуллаева
Красота не спасет Рим
Почему последнему фильму Паоло Соррентино было бы лучше оказаться мюзиклом
«Великая красота» (La grande belezza) Паоло Соррентино удостоена «Оскара» как лучший неанглоязычный фильм года. Кинокритики — пришелся им фильм по душе или нет, неважно — единодушно называют его современной версией, ремейком, сиквелом, объяснением в любви и едва ли не пародией на фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.
Столь же единодушно русские критики полагают, что любой перевод названия, например «Красотища», был бы лучше аморфного и бесчувственного прокатного варианта.
Будь на то моя воля, я бы перевел название, а заодно и пересказал фильм строфами Осипа Мандельштама: «Я скажу тебе с последней прямотой: Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой. Там, где эллину сияла красота, Мне из черных дыр зияла срамота».
«Великая красота» Соррентино сияла не эллинам, а древним римлянам. Впрочем, как сияла, так и сияет, истертая, но и облагороженная веками. Но живущие внутри этой «красотищи» новые римляне тоскуют по ней столь же горестно, как петербургский варшавянин, выпускник Гейдельберга и Сорбонны Мандельштам «тосковал по мировой культуре», в чем и заключалась идеология акмеизма.
Поэт закончил жизнь «человеком эпохи Москошвея». Герои фильма — люди эпохи Армани. Но красоты нет ни тут, ни там.
Даже для 65-летнего светского хроникера Джепа Гамбарделлы (Тони Сервилло), даром что живет он в особняке с видом на Колизей, а на его террасе по-свойски полдничают транзитные фламинго, встреча с красотой возможна лишь как подпольная вылазка, если не подпольное чудо. Ему необходим ночной, почти потусторонний проводник, хозяин отмычек ко всем римским музеям.
Новые римляне, перейдя с шерри-бренди на кокаин-героин, превратили «красотищу» в декорацию срамоты, которую и созерцает, переходя с тусовки в бордель, с юбилея на вернисаж, Джеп — по долгу службы, из любопытства энтомолога. Только эксперт по насекомым может сохранять рассудок в мире фриков: жирных туш, карлиц, слабоумных исусиков, девушек в адском гриме. Впрочем, девушка, если ее раздеть, может оказаться истинной Венерой, но раз на раз не приходится.
Самая срамная срамота — актуальное искусство, говорить о котором (по мнению Соррентино, и с ним трудно не согласиться), уместно шершавым языком советского агитпропа, заклеймившего модернизм как «кризис безобразия». Эх, не видели советские профессора Лифшиц и Рейнгардт постмодернизма.
Сиреневая голая концептуалистка а-ля Марина Абрамович, нарисовав на лобке серп и молот и замотав тканью голову, с разбегу влетает башкой в опору виадука. Кроха-девочка рыдает в голос, но зарабатывает миллионы, выплескивая краску на гигантский холст.
Церковь и политика — тот же кабак.
О кардинале, с которым кто-то из фриков «встречался на карнавале, где был наряжен эскорт-девушкой», говорят, что у него «репутация лучшего экзорциста», с той же интонацией, с какой напоминают писательнице, что в университете она слыла лучшей минетчицей.
Теперь она козыряет классовой сознательностью, которой посвятила 11 книг, не считая книги по истории компартии и пьесы — страшно подумать, что это такое — «Девичья ферма». Ей вовремя напоминают, что вся эта макулатура увидела свет лишь благодаря ее связи с генсеком ИКП.
Соррентино четко обозначает возраст героев — под генсеком может подразумеваться (ну не Пальмиро же Тольятти) лишь благородный и трагический красавец Энрико Берлингуэр, настигнутый смертью прямо на митинге: прощанию с ним посвятил фильм («Прощание с Энрико Берлингуэром», 1984 год) коллектив из 64 ведущих режиссеров Италии. Если с церковью у итальянского кино давняя ненависть-любовь, то насмешки над компартией — это не просто что-то новенькое, это таки кощунство, немыслимое во времена «Сладкой жизни».
К лестному сравнению своего фильма с шедевром 1960 года Соррентино буквально принуждает. Не довольствуясь множеством визуальных рифм, он вкладывает в уста Джепа утреннее приглашение удачно снятой накануне красавице съездить на побережье «посмотреть на морское чудовище». То самое чудо-юдо рыбу-кит, на которое пялились герои Феллини.
В результате, конечно, не поехали: стоило приглашениями разбрасываться.
Лучше и честнее было бы, если бы Соррентино превратил «Сладкую жизнь» в мюзикл, как это сделали на Бродвее, а затем — в Голливуде, с «Ночами Кабирии» («Милая Чарити» Боба Фосса, 1969 год) и «8 ?» («Девять» Роба Маршалла, 2009 год). Хотя по степени не то что непонимания, а нечувствования Феллини «Великая красота» — вполне себе мюзикл.
Претенциозные бездельники и шарлатаны, светские идиоты и уроды одинаковы во все времена. Если бы Феллини интересовала лишь пустота, как она интересует Джепа, вяло вдохновляющегося замыслом Флобера написать роман «про ничто», и самого Соррентино, снявшего «про ничто» фильм, «Сладкая жизнь» не была бы великой, загадочной поэмой, возможно, лучшим фильмом Феллини.
«Dolce vita» 1950-х не просто круглосуточная тусовка светской слизи. Это беспробудное поклонение богине-жизни как таковой. Война закончилась только вчера. И каждый, кто выкаблучивался у Феллини, родом из той войны, которая, казалось, навсегда убила саму радость жизни. Ударное слово — не «сладкая», а «жизнь». И поток жизни, по Блоку «пустой, безумной и бездонной», захлестывает и плещущуюся в фонтане Треви американскую звездочку, и распоследнего папарацци. Это жизнь не дает Марчелло (Мастроянни) написать свой роман.
Джеп свой роман под названием «Человеческий аппарат» давно написал и с тех пор повесил свой предполагаемый — в него Соррентино просит поверить на слово — талант на крючок. В 1968-м ему было 20 лет: надо полагать, тот грозовой год, самый великий в истории Италии после 1945-го, никак его не коснулся. Его собственная пустота не объяснима даже разочарованием в революции. Разочарование — вполне творческое чувство.
Предполагается, что Джеп не только талантлив, но еще и искренен и обладает трезвым умом, но маскирует эти достоинства цинизмом. Было бы что маскировать. Свидетельства его трагической, одинокой человечности Соррентино одолжил в секонд-хенде чувств.
У Феллини человеческая история не погребена под гротескными виньетками, Соррентино выдает виньетки за историю. Финальный катарсис Феллини подменен у Соррентино сценкой в жанре «Сиськи покажи!». Джеп вспоминает как о самом светлом переживании в своей жизни, как ему показала грудь девушка на пляже его юности. «Сиськи» в контексте фильма — это и юность, и любовь, и творчество. И мама, наверное.
Впрочем, разница между Соррентино и Феллини не меньше, чем между эллинами и римлянами. Красота Древнего Рима была не менее вульгарна и развратна, чем красота светских оргий. И, по совести, не итальянским режиссерам сокрушаться о срамоте, правящей бал на древних камнях.
Паоло Соррентино снял фильм не без помощи сюжетных линий, придуманных Федерико Феллини
Новые римляне, перейдя с шерри-бренди на кокаин-героин, превратили «красотищу» в декорацию срамоты, которую герой и созерцает, переходя с тусовки в бордель, с юбилея на вернисаж
Михаил Трофименков
![]()
Рим эпохи карликов
ПОЧЕМУ РЕЖИССЕР «ВЕЛИКОЙ КРАСОТЫ» НЕ ТАК ВЕЛИК, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ ВАМ
Камера скользит по римским достопримечательностям, за кадром хор ангельски выводит «В горах мое сердце», отбившийся от группы китайский турист, не видя ни хора, ни собора за спиной, засматривается на панораму так, что падает в обморок. Над вскружившей ему голову красотой загорается поясняющий титр «Великая красота». Нетрудно, впрочем, заметить, что никакой особенной красоты в кадре при этом нет — только простор, даже буквальная пустота. Следующие два с половиной часа — та же история, та же развернутая панорама глянцевого ничего. Герой, алчущий красоты (или, по крайней мере, умеющий ее распознать и оценить), находит лишь пустоту, но зато размах, масштаб последней оказывается и вправду великим — до головокружения, обморока, судорог осознания своего с этой пустотой единства.
О пустоте, в сущности, все фильмы Соррентино, режиссера, раз за разом провоцирующего разговоры о ренессансе итальянского кино: в рецензиях на «Великую красоту» доводилось читать, что именно она и легитимизирует неаполитанца в качестве Большого Итальянского Режиссера. Критикам нравится стиль Соррентино, не всегда монументальный, но непременно барочный, глянцево-гротескный; от вялых либо инфантильных соотечественников режиссера выгодно отличают броскость, отсутствие как страха, так и пиетета перед совсем уж карикатурной сатирой. Пространство его фильмов населено пьющими карлицами, священниками-идиотами, политиками с дегенеративными мордами либо нормальными на лицо, но дегуманизированными во всем остальном обывателями. Добавьте еще и аудиовизуальную восторженность («Нет такого ракурса съемки с крана, который бы Соррентино не нравился», — писал о его «Изумительном» Дэвид Бордуэлл).
Феллини, Кубрик, Скорсезе, Пазолини, братья Коэн, даже Спайк Ли (с которым Соррентино роднят любовь к так называемому dolly shot), монтажная лихость и готовность часто посреди фильма вдруг сорваться в натуральный видеоклип) — в фильмах Соррентино так легко, так приятно находить реминисценции стилей всеми (ну, почти) любимых режиссеров, так радостно замечать вежливые отсылки к классике; это сам по себе, без шуток, редкий талант.
Чем эффектнее эти стилистические излишества, впрочем, тем оглушительнее они контрастируют с содержанием. Соррентино не приемлет традиционного сторителлинга, его фильмы складываются из эпизодов-виньеток, их жанр и развитие в большей степени определяются манерой монтажа, нежели нарративной логикой. Это, впрочем, не значит, что в них ничего не происходит. Герой «Красоты», исписавшийся уже после первой книги пижон-литератор Гамбарделла, перемещается по Риму в поисках смысла — и попадает в компанию то философствующей стриптизерши, то лишенной любой рефлексии 100-летней монахини. Окружающие его персонажи в основном убивают время на обкокаиненных вечеринках и светских вечерах, но то и дело мрут и сами, оставляя рядом с героем вместо себя ту самую пустоту, буквально пустое место — ощутимое настолько, что существование Гамбарделлы парадоксальным образом на время наполняется смыслом.
Сюжеты предыдущих фильмов Соррентино также формируются вычитанием, исчезновением, смертью; мертвые в них, пожалуй, поважнее живых. Оскандалившийся певец из дебютного «Лишнего человека» начинает вставать на ноги (и находить исчезнувший смысл жизни в мести) только после того, как умрет его полный тезка, бывший футболист с рухнувшими тренерскими амбициями. Джулио Андреотти по-разному проживает десятилетия на посту премьер-министра, но «Изумительный» начинается с убийства Альдо Моро и заканчивается едкими словами покойного соратника Андреотти по партии о герое фильма. Пустота, калейдоскоп алчных и порочных политических и криминальных чудовищ, изводящий и преследующий Андреотти весь фильм, определяются именно отсутствием в кадре Моро. Неожиданная тоска героя по убитому — залог той человечности, которая проявляется в протагонистах Соррентино лишь при осознании того, что пустоту невозможно заполнить. Андреотти, Гамбарделла, бухгалтер мафии из «Последствий любви» и горбун-ростовщик из «Друга семьи», пожилой рокер-гот в исполнении Шона Пенна из «Где бы ты ни был» — все они грустные клоуны, вдруг обернувшиеся Орфеями, спустившиеся в пустыню реальности и изрекающие веские истины прямиком оттуда.
Эта роль явно льстит и самому Соррентино, который очевидно ищет в пустоте бытия его оправдание, проще говоря, правду. Не тем ли, в конце концов, занимались что Феллини, что Антониони?
«Меня очень занимает желание Флобера написать роман ни о чем», — неоднократно произносит герой «Великой красоты». Соррентино признает невыполнимость этой задачи, но не может устоять перед соблазном. Раз за разом, фильм за фильмом он обнаруживает одну и ту же проблему — столкнувшись с великой пустотой лицом к лицу, по уши окунув в нее зрителя и давая понять, что Ничто вот-вот трансформируется в Нечто, он отворачивается, выкручивается, цепляется за те пережитки жанровых сюжетов и нарративные клише, от которых сам же демонстративно отказывался. В «Друге семьи» уродливый герой-ростовщик, преподав урок принципиальности и извращенной человечности куда более бесчеловечным, чем он, должникам, оказывается в финале этими должниками обчищен. В «Изумительном», стоит Андреотти простить себя за убийство Моро, как кодой следует титр с издевательскими словами последнего о премьере — Соррентино тем самым поддается распространенному представлению об Андреотти как о беспринципном чудовище. Джеп Гамбарделла избавляется от сорокалетнего страха начать новый роман. Шон Пенн смывает с лица макияж. Подводя своих героев к бездне, заглядывая в нее, старые мастера (Антониони — во всех фильмах, Феллини — по крайней мере, в «Дольче вита») могли в финале своих фильмов идти на любые ухищрения, но пути назад они уже не предусматривали. Соррентино на подобное не хватает духу, и маленькие люди, вечные герои «папиного кино», — писатели, репортеры, скучающие домохозяйки и тоскующие по непонятному яппи — снова становятся у него маленькими людьми. Антониониевская трагедия опрощается до фарса с карликами, так любимый Феллини Рим с его великой красотой и не менее великой терпимостью — до безвкусного павильона. Да что Рим — достаточно сравнить амплуа Марчелло Мастроянни (актера-персоны) и так любимого Соррентино гуттаперчевого притворяшки-протея Тони Сервилло. Первый был наполнением, второй есть идеально пустой сосуд.


