Алексей Остудин
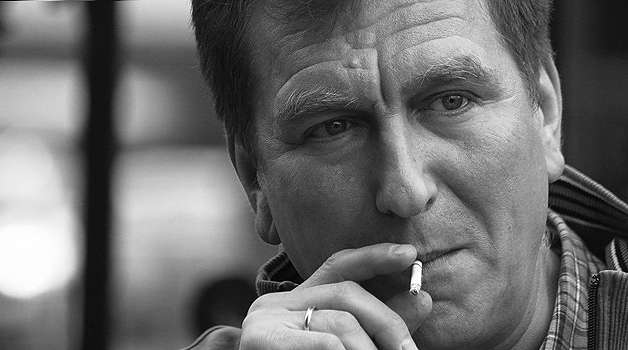
Остудин
Алексей Игоревич
Родился в Казани в 1962 году. Учился в Казанском государственном университете, на Высших литературных курсах при Литературном институте. Публиковался в журналах «Смена», «Студенческий меридиан», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», альманахе «Истоки», газетах «Труд», «Литературная газета» и «Лит. Россия». Выпустил шесть книг стихотворений в издательствах Харькова, Киева, Петербурга, Москвы и Казани: «Весннее счатье» 1989, «Шалаш в раю» 1990, «Улица Грина» 1993, «Бой с тенью» 2004, «Рецепт невесомости» 2005 и «Проза жизни» 2007. Трижды лауреат Волошинского конкурса, шорт-листёр Бунинской и Державинской премий. За книгу «Проза жизни» в 2007 году награждён премией им. М. Горького. Живёт и работает в Казани.
Пацаны
Засушенный Левиафан насущный
сгодится нам под пиво или водку.
Оставь надежды — всяк сюда идущий,
пересчитавший прутиком решётку.
На переезде пёс кусает воздух,
как самовар, захлёбываясь паром,
вокруг сплошные тернии, а звёзды
задушены коньячным перегаром.
В бутылку не попав из самопала,
придёшь в кино, а там сплошные «Даки».
И время пролетает, как попало,
на вырезанных лыжах из бумаги.
Мы этот мир прощупали с изнанки,
в центральный парк протискиваясь боком,
где наполняют жестяные банки
берёзы свежевырубленным соком.
В пятнадцать вёсен сладко сердцу ёкать,
воздушный поцелуй, как чай из блюдца.
Мы выросли без страха и упрёка,
с такими никогда не разберутся.
Мифотворчество
От жизни нет прибыли в нашем полку —
зацепку какую найти бы,
течёт Амазонка на полном скаку
подлодкой в степях Атлантиды,
лишь застит глаза насекомая взвесь,
в саргассовы эти чащобы
с избытком ума голове бы пролезть,
втащить остальное ещё бы,
система эпох создавалась в три де,
но всё устаканилось вроде,
титаны — в обиде, герои — в биде,
как буквы, застрявшие в ворде,
хлопочет, с камнями прощаясь, праща
Давид головою качает,
кто дует в горячие ноздри борща,
кто фыркает в блюдечко с чаем,
в теплице калошей скрипит баклажан,
с Ниф-Нифом рифмуется нимфа,
и учит картавить своих прихожан
историк, по имени Мифа.
Оперативка
только три в остатке вещи — телевизор и кровать,
остальное из заначек выгреб авитаминоз,
жизни питьевой фонтанчик — кому в рыло, кому в нос,напевая, типа собин с окончанием на ов,
ты готов, но не способен за иксив отдать укдов,
тьма у жизни версий демо — в каждой проявляешь прыть,
три в остатке важных дела — выпить и поговорить,на «Lufthansa» копишь мили, рвёшь лохматых зомби в «Doom»,
выпили, поговорили — третье не идёт на ум,
даже четверть этой трети, что как плавные сырки
за подкладку тырит ветер, всем разъёмам вопреки.
Старый телевизор
За то, что бабье лето и т. д., антоновские яблоки в охотку,
с утра, такой единственной, тебе я посвятил футбольную погодку,
где, с занавеской в окнах не в ладу, похож на сумасшедшую указку,
цветёт засохший кактус раз в году, блондинок молодых вгоняя в краску,
увы, румяной юности друзья, прошла пора выпендриваться скопом —
один успешкой вырвался в ферзя, другой холопом скачет по европам,
быть равноправным каждому дано, всех несогласных время раскатало,
и не с кем пить поганое вино, переключать советские каналы,
остались пыль да копоть про запас, любимую едва не проворонил,
у спутника над нами глаз-алмаз — кристалл Swarovski в солнечной короне,
скачаешь, на досуге, новый патч — отыщется канал такой же редкий
по ссылке из программы передач в за телек завалившейся газетке,
где почему — всегда по кочану, показывают что-нибудь, и ладно —
я непременно старый починю, сколоченный в Союзе, ящик панды,
уверен, обойдёмся без франшиз — с тобой, родная, будущее ближе,
пусть тумблером пощёлкивает жизнь, пока за нами Бог и пассатижи.
Тыры-пыры
Пока товарищи не сбрендили, торчу, как пропуск на штыке,
а кто-то раскрутился в блендере и липнет брызгами к щеке,
пока на солнце лужи морщатся, и в души ужас не проник,
выносит вредная уборщица в совке картонный броневик
на сероводородном топливе из-под приютских одеял,
не всяк, кому утёрли сопли вы, умом страну свою объял,
ощупал лапами мосластыми, полям, лесам и рекам рад:
стрижи поскрипывают ластами, пасёт улиток виноград,
продукт конкретной моногамии, наскрёб по нычкам на вино,
что затоптали так ногами и не лезет в горлышко оно,
ветрище тащит тучи волоком, а ты во сне — воздушный змей,
набил подушку пыльным войлоком больной фантазии своей,
над фраерами и барыгами в сквозном березняке паришь,
где в сарафанах девки прыгают через пылающий Париж,
свежа шампанского затрещина, лимон — в порезах, старый жмот,
и дышит устрица, как женщина, перевернувшись на живот.
Летняя оптика
Не всегда удаётся пейзаж целиком —
съехал с гор, завалился за море,
вертикальную съёмку ведёт телефон —
просочился сквозь щелку в заборе,
а оттуда черёмуха, как нашатырь,
искры света, как брызги из кадки,
не хватает за бёдра твоей широты
так и ходишь безухая в кадре,
заскучаешь — убавлю веснушек на треть,
фотошопом, что хошь, залатаю,
ты настроила выдержку — ждать и терпеть,
потому что моя золотая,
на экране не гнётся фейсбуковый лук
с тетивою из козьего пуха,
из-под тучи лучи, как липучки от мух
дышат пылью и щёлкают сухо,
тонет взгляд, напряжением дня завершён,
чайной ложечкой в банке с вареньем,
и копирует тьма, за скриншотом скриншот,
бесконечное это мгновенье.
За ландышами
Баржа-самоходка — хвост трубой,
воет, будто Герда ищет Кая,
рюкзаки и спальники прибой
оловянной пеной припекает,
всплеск луны и — новый перекат,
и палатки, чёрные от ила,
наступил разбитый в кровь закат,
где до нас тупили бензопилы,
на мочалом вязанных плотах
гитарист и мастер шпили-вили,
с языком английским не в ладах,
но рычит страшнее баскервилей,
потные штормовки дурачья
войлоком набиты майской ночи,
в ледяных наручниках ручья,
в треснувших наушниках сорочьих,
до утра промаешься и — пшик,
крепкий чай, и далее, по плану —
ландыши охапками душить,
как мастино неаполитано.
Шахматисты
Михаилу Гофайзену
Им сводить наколки не с руки,
хитрые, как мати на допросе,
млеют от портвейна старики,
по весне встречающие осень,
коротают вечер вороной
во дворе, за столиком фанерным,
пешки, как усмешки, за спиной —
вечная жильда, кто ходит первым,
на закуску хлеба чернослив,
месяц с ветки тополя скрипучей:
звёздами вселенной насолив,
чесноком прокалывает тучи,
расползлись по клеткам в разнобой,
будто разноцветные обмылки,
бюст коня с отколотой губой,
и король с ермолкой на затылке,
у подъезда дворник стук-постук,
на скамье болельщиков зарубки,
только шаткий столик, а вокруг
бродят фонари в шотландских юбках,
всё у бывших мачо на мази,
память с ярлыком на каждой склянке —
Зорро записался на узи,
Дон Кихот — на клизму от ветрянки,
чахнет Кант, гриппует Фейербах,
в пух и прах осины разодеты,
вот тебе щелбан и вечный шах,
и дымок последней сигареты.
Слепой
Он двигался, во рту катая ртуть,
выравнивая слух и осязанье…
На тросточку нанизывая путь —
за шагом шаг, как петельки вязанья.
На поворотах, правилен и прям,
воображал линейку коридора…
И в русскую рулетку, по-утрам,
играл с ним «чижик-пыжик» светофора.
Май провожал меня в десятый класс.
Слепой ходил в спец. цех трудиться вроде.
И мы пересекались здесь не раз,
на этом пешеходном переходе…
Дежурно: «Здрасьте!» скажешь и — вперёд,
за опозданье взыскивали строго.
Но как-то затолкал его народ,
пришлось перевести через дорогу.
Кивал мне раньше, тросточкой звеня.
Теперь же улыбается с хитринкой
издалека…
— «А если я — не я?»
— «Запомнил, как стучат твои ботинки!»
Однажды всё в душе оборвалось —
я был любимой девушкой обижен…
И вдруг знакомый голос:
— «Что стряслось?»
— «С чего бы» — говорю…
— «Ну, я же вижу!».
нач.-сер. нулевых
Диоген
Терпенье и покой до Пасхи, сидят на корточках бомжи,
и, зыркая глазами хаски, крикливы галки и свежи,
всё, что на сердце накипало, и хамство дворника учту —
собрало из говна и палок мою весеннюю мечту,
аэрофлотовские мили давно профукав, я уже
не новичок в червивом мире на предпоследнем этаже,
жую, как в детстве, камедь, ту ведь — не растворимую в борще,
когда о прошлом больно думать, о настоящем — вообще,
на складе многослойных высей достать, наверно, не предел,
такой отпугиватель мыслей, чтоб только ночью не гудел,
по самый пуп в житейском море, не удержать былую стать,
как много Гоголь сжёг калорий и Гегелю не сосчитать,
во вражьи вглядываясь лица, пока верховный не воскрес,
пытаюсь искренне поститься, но вру и набираю вес,
умяв омлет высокомерья, залез в привычный короб я
терпеть, как щёлкает имперья голодным клювом воробья.
Колдунья
Сравнения хромают, но спешат,
пора податься в тайные агенты,
чтоб марганцовку с магнием смешать,
и обмотать кусками изоленты,
пройдусь с такой хлопушкой, начеку,
а ты, воображала, будь любезна,
дай покурить грузинского чайку,
плесни пивка из украинской бездны,
нас судорогой времени свело
и вяжет до конца в одной заботе
поймать в потёмках фосфор за светло,
как маску в неисправном самолёте,
где с потолка струится керосин,
и бортмеханик, взвешивая риски,
с мельдонием виагру замесил,
чтоб у врагов отсохли олимписьки —
ты понимаешь, ласковая, пусть
кто впереди — всегда получит сзади,
кому приятна выспренняя грусть,
когда страна, то в жопе, то в засаде,
наворожи мне сытости в тепле,
а то затылок стынет после стрижки,
оставь немного места на метле
для мужа из вчерашнего мальчишки,
который, как и я, затёрт во льдах
истории: монголы, печенеги…
и счастье не в покое, а в ладах
с тобой в горящем сене на телеге.
Юность
Всё ясно, если первый встречный
принцессу взял за полцены —
сим-сим, не дьюти фри, конечно,
но держат те же пацаны.
А мне пора компот из вишни,
«нарзан» на пике склона лет:
на циферблате третий лишний —
секундной стрелки тоже нет.
А было, в поле — сплошь татарник,
грозы нечаянной компресс,
и дышишь, как сквозь накомарник,
входя в густой и жирный лес.
Грибов и ягод запах винный,
далёкий топот по земле,
и, вдруг, забрызганная глиной,
она у лошади в седле.
Шалаш, наверное, не место,
целует, гладит по плечу,
конечно, чья-нибудь невеста —
но я такую же хочу!
***
Гой еси!
как искрится, догорая, эта мебель дорогая
Виноваты не вы, это Вий
научился читать без домкрата,
оказалось «и» краткое — «й»,
значит, срочно послали куда-то:
не достаточно слов в общаке,
и в печи то сосна то берёза,
от подушки канва на щеке,
как стекло — в хохломе от мороза,
разыгрался у ветра бронхит,
на сосульках лабает неплохо,
март-мокрушник ещё расчехлит
барабанные «палочки Коха»,
чтобы жадным треплом не прослыть,
юной нимфе несу ахинею
про люцерну и нежную сныть
из учебника Карла Линнея,
обнимаю подружку слегка
всей мощёй шестирукого шивы,
и встают на дыбы облака,
как в окошке стиральной машины,
но в неверном сиянии дня
по загривку холодной речушки,
если нимфа обманет меня,
уплыву на спасательной шлюшке.
Бодрое ультра
Огнетушитель приготовь, пока не вспыхнула рябина —
ей осень полирует кровь закатом из гемоглобина,
забейся в норку и — молчок, быть на виду — себе дороже,
где дятел, как дверной крючок, в ушко сосны попасть не может,
вся дичь, в предчувствии стряпни, стремится глубже закопаться,
расходятся кругами пни, сухие отпечатки пальцев,
тяжёлый заяц, на скаку, на двести градусов духовен
печётся, с дырочкой в боку, и блеет одинокий овен
в тумане моря, где облом гремит ведром из-под сарая,
в витрину упираясь лбом замрёшь, игрушку выбирая,
пришла пора в бутылку лезть, давить на клавиши штрих-кода —
не посрамим былую жесть, родной захват для электрода,
торчит из ходиков орёл, ему сто лет гореть в гареме,
на белку стрелку перевёл, и за цепочку тянет время,
мы за него поднимем лай в гранёных рюмках, холодея —
давай, за статую, давай, опять за голую идею,
где банных шаек перестук, прилипший листик на затылке,
посмотришь с ужасом вокруг — одни будёновцы в парилке,
и, наблюдая молодёжь, пока страна впадает в спячку,
с губы улыбку сковырнёшь, как надоевшую болячку.
Погодная война
Будто пёс обгладывает кость,
сумерки водой холодной давятся.
Диктор обещал: сиводя дость —
дратуйте, и мне не очень нраица.
Хорошо, что гром не завезли —
уточняют правильно как пишется.
Ты меня за вискас не казни,
чёрный кот, с глазами, как яичница.
Знаю, принесут сейчас зубров-
ку и киндза-дзы букет задаром,
я, вооружённый до зубов
книгой и вчерашним перегаром,
разберусь во всем, что включено,
даже пересказанное вкратце
свежее индийское кино:
ревность, смерть любовников, и… танцы.
тут, в какую тему ни лягни,
будут, сто пудов — американцы,
ураганы, всякие фигни,
лесбиянки, гомики, и… танцы.
Возраст
«но другого Олинька помнила соколика»
Даже Станиславскому не верю я,
лицедеям свойственно, наверно,
не будить уснувшую артерию
в поисках блуждающего нерва,
даже — журналистам независимым,
на чужой мотив легко быть щедрым —
если доигрался до фортиссимо,
стало быть, управишься с крещендо,
я же — рядовой сотрудник города,
подворотен сумерки и пена,
седина упрямо лезет в бороду,
бес — в Рембо, но это у Верлена,
главное, сырком закусишь плавленным,
выпив водки, с привкусом резины,
и почти не выглядишь подавленным,
словно помидор со дна корзины.
Дауншифтинг
Кажется, зима — насмарку и, по-русски, нихт ферштейн.
Бузины электросварку не раскрасил Эйзенштейн.
Оставляю город людный, и — туда, прости, жена,
где, как в зачехлённой лютне, абсолютна тишина.
Примем беленькой по махонькой, без традиции нельзя,
всё бы хиханьки да хаханьки — до свидания, друзья.
Здесь, скажу я вам, не Дания, и меня, как кур в ощип,
вдруг толкнуло на создание — а оно не верещит,
расправляет молча простыни и перины тормошит,
и простых желаний россыпи исполняет от души.
Вытянусь на банной полочке, покурю в густую ночь,
где не волчье, слышишь свОлочь ты, а поморское — сволОчь.
Утром, погремев засовами, через лес начнём грести
прямо — к Богу, невесомыми, у него же и в горсти.
Тщета
Когда стаканы делали из меди,
цвели ромашки всюду сплошь одни,
нас выручали добрые соседи —
напористые люди с лошадьми.
За веком век процокал монотонно,
сегодня — только вожжи шевельнём —
научимся выращивать айфоны,
похерив грядки с конским щавелём,
не просто колотить вокруг дубинкой,
блевать, таскать подругу за шиньон,
где встал забор с расстёгнутой ширинкой,
и тужится в асфальте шампиньон,
а начинать, по-умному, от печки —
чтоб каждый, кто ступил на этот пол,
старался, редкозубый, как Овечкин
в рекламе за проигранный футбол,
работать на страну, оставив шутки,
без продыха, затея не нова —
пусть наблюдает, с завистью, из будки
Австралии собачья голова.
Ну а пока, в нордическом припадке
рискуя навернуться в эту грязь,
по вымытому топчемся на пятках,
от швабры уворачи и ваясь.
Час Быка
На запад перца и гвоздики,
где мы империю плетём,
верблюды тянутся великим
электрошёлковым путём,
их молнии толкают в спину,
червивым солнцем кормит высь,
но манде не хватает рина,
и мара с куйей не сошлись.
Там до последнего патрона
идёт реакция Перке —
над городом таблетки брома
гремят в аптечном пузырьке.
Плывут, проваливаясь в зелень,
горбы мохнатые, пока
гроза выдавливает землю
из дождевого червяка,
и, в чащах мальвы и левкоя
давясь натянутой лапшой,
деревья умирают стоя
у человека над душой.
Детский сад
Тарахтят советские мопеды,
голый сквер сгорает со стыда —
этот остров явно не Манхеттен
приплывать на щепочке сюда:
откопав секретик за сараем,
туесок берёзовой коры,
в дурака на солнышке играем,
расстреляв семью царя горы.
Нас метлой гоняет тётя Дуся —
сквозь крапиву выберемся вскачь.
Пусть трубач, как маленький, обдулся —
сам, смотри, от страха не заплачь!
Крымский пасьянс
Небо провисло, как мокрая марля:
трезвое утро, бухой виноград…
Пахнет олифой очаг Папы Карло –
носом проколотый чёрный квадрат.
Кошка на коврике тесто замесит,
цепь конуры застрекочет в упор.
Плавит стога свежескошенный месяц,
сено вокруг расчесав на пробор.
Верно, и я этой грязью раскисну.
Горло, хоть маслом касторовым смажь —
если и пискнет чего за отчизну —
яблочко сдавит какая-то фальшь.
С горки последняя лесенка спета,
пруд «эскимо» камышовым оброс,
дамы, по пояс в воде, и валеты,
и виноградные косточки слёз.
Время Байкала
«…лучше гор могут быть только море…»
Изъездишься — в пыль, посещая священный Байкал,
в попутном кафе принимая бурятские позы,
где в кожу асфальта простор, как гвоздей, навтыкал
былинки стихов и отточия чеховской прозы.
Здесь быть осторожным природа заставит сама —
устало забулькивать пивом вечернюю копоть:
сплетаясь, ползут два ужа — Баргузин и Сарма
сквозь девичий стыд чабрецом истекающих сопок,
им время — людей будто крошки сдувать со стола,
высасывать с болью траву-камнеломку из трещин,
пока напрягает двуглавую мышцу орла
урла облаков, и сама от натуги трепещет.
Как тянется время, когда погружается в сон
холодное море, в укусах огней поселковых…
Шагами наладишь цепную реакцию псов
на свору ворон, пролетающих, словно подковы!
Тяжёлому солнцу недолго в разливе берёз
моторной ладьёй, не знакомой с законами Ома,
на грани провала греметь на подшипниках гроз
с охапкой сетей, что не терпится бросится в омуль…
нач.-сер. нулевых
Летняя фуга
Уж вермут близится, а полночи всё нет,
которая ушла за разговором…
Ты навсегда одета в лунный свет:
в твоём саду – Содом и помидоры!
Вокруг неосторожным взглядом брызнь –
чем глубже сон, интрига несуразней,
за это наказаньем будет жизнь –
и нет подлей и медленнее казни!
Решая, кто дотянет до утра
пинцетом муравья таская сахар,
накапай из пипетки комара
в стакан немного Моцарта и Баха!
