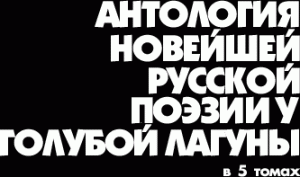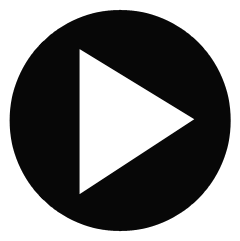Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны

за 9 лет до смерти Кузьминского в США
Никита Елисеев пишет шедевральный панегирик
и Самому ККК, и его титанической Антологии
Трудолюбивый лентяй: двадцать лет спустя…Антология новейшей русской поэзии. Сост. К.Кузьминский, Г.Ковалев. Изд. 2-е, испр. — М., «Культурный слой», 2006. — 535 с.
Отчего Константин Кузьминский не едет в Россию? Хоть на время, на миг, на момент, поглядеть-посмотреть, что изменилось, что осталось прежним? От лени? От безделья? Между прочим, та еще лень, то еще безделье… Запомнить такое количество стихов с изощренной рифмовкой, с прихотливым синтаксисом, составить девять томов такой антологии, поставить памятник своему поколению, своей эпохи — не-е-е, это нельзя назвать бездельем. Просто есть кипучие бездельники и есть трудолюбивые лентяи. Кипучий бездельник носится взад-вперед, как угорелый, дым столбом и пар из ушей, результат скакания — ровная, вытоптанная поверхность и чу-у-ть курящийся дымок. Поработал. Трудолюбивый лентяй лежит пузом кверху, покуривает пахитоски, попивает водочку, в результате покуривания-попивания-полеживания девять томов… Помните, дивную историю про композитора Россини? К нему пришел приятель, Россини валялся на диване. «Вот, — сказал Россини, протягивая приятелю исписанный нотный лист, — я тут накропал, посмотри…» Ну и как-то он неловко нотный лист протянул, приятель не среагировал, словом, листок спикировал под диван. Минута молчания. Наконец, приятель собирается нагнуться и достать листок. «Не надо, — машет рукой Россини, — ну его, я сейчас новую напишу…» Так вот: почему Кузьминский не едет в Россию? А зачем ему ехать? Он свою Россию воспроизвел в девяти томищах — не больше, в них вся родина его. Кроме вот этих томов иных ему не надо домов. Его Россия осталась в промежутке между 1956-м и 1975-м, когда его выперли из страны. Ну вот он и увез с собой свою Россию, подстольную, подпольную, странную, изломанную, фантастическую и правдивую русскую поэзию того времени. А вслед за тем, спустя пять лет после отъезда, воспроизвел эту поэзию в «Антологии новейшей русской поэзии. У Голубой лагуны«. Непротиворечивая противоречивость В первом же томе, ныне вышедшем в России стараниями издательства «Культурный слой», он назвал своих предшественников: всех тех, кто был забыт, кто был задвинут более удачливыми, более прославленными современниками; всех тех, кто был убит и замолчан. При всей своей пристрастности, субъективности, не полемичности даже, а ругмя-ругательности Кузьминский на редкость, на удивление принципиален. Эта принципиальность порою вызывает ощущение полной, очевиднейшей противоречивости, непоследовательности. Ну вот пожалуйста: первый том, статья «Поколение ненареченных«: «Символом нашего времени стало поколение погибших. Павел Коган, Всеволод Багрицкий, Михаил Кульчицкий, Николай Отрада — три выпуска Литинститута погибло в первые два месяца войны…» Помилуйте? Как это возможно? Всеволод Некрасов, верлибры которого Кузьминский опубликовал в том же томе, уж так поиздевался над ставшей хрестоматийной строчкой из поэмы Павла Когана «Первая треть» насчет «так-точности» дней тридцатых годов, что вряд ли согласится на свое соседство с автором «Бригантины«. И то: Кульчицкий, Коган, Всеволод Багрицкий погибли за Советскую власть, которая гробила Роальда Мандельштама, Алика Ривина, Александра Есенина-Вольпина, всех тех, чьи тексты опубликовал Кузьминский в первом томе. Разве можно равнять Михаила Кульчицкого, написавшего: «И вот опять к границам ближним составы сизые ползут и коммунизм все так же близок, как в 19-м году», с его современником, Аликом Ривиным, о той же грядущей войне написавшем: «Вот придет война большая, / Заберемся мы в подвал. / Тишину с душой мешая, / Ляжем на пол, наповал…// Сева, Сева, милый Сева, / Сиволапая свинья…/ Трупы справа, трупы слева, / Сверху ворон, сбоку — я». А почему бы и нет? Стихи Кульчицкого на редкость точны, социологически точны. В самом деле, всякий коммунизм — военный, всякий коммунизм — казарменный. Война — жестокое напряжение всех сил перед гибелью или победой, вот питательная почва для коммунизма. К тому же Алик Ривин — однорукий поэт, погибший в первые же дни войны, — обращается к этой именно компании. Милый Сева — Всеволод Багрицкий, поэтому в последнем четверостишии цитируются стихи его отца, Эдуарда: «Справа — нога и слева — нога, цейс посередке…» («справа — трупы, слева — трупы…»). И чтобы было совсем понятно: в свое стихотворение Ривин впускает ворона из того же текста Багрицкого-старшего: «…подлетит в упор, каркнет «неверморе» он, по Эдгару По…» («сверху — ворон, сбоку — я»). Но оставим это. Речь у нас о субъективности и принципиальности Константина Кузьминского, а не об Алике Ривине и Всеволоде Багрицком… Для Кузьминского важно не то, что Коган и Кульчицкий погибли за Советскую власть, а то, что они погибли. Для него важно не то, что их стали печатать, а то, что их стали печатать 20 лет спустя после их гибели. Кузьминскому плевать на любую идеологию, — хотя с идеологией Павла Когана, например, не все так просто, — Кузьминскому важно, что эстетически уж очень не подходили эти ребята к советской гладкописи, поэтому по странному, но праву, он называет их символом своего поколения. Погибли? При жизни не были напечатаны? Выступили против силы, во много раз превышавшей их человеческие силы? Были эстетически неприемлемы для соцреализма в его высшей фазе развития? Наши… И трудно не согласиться с такой позицией… В конце концов, не кто-нибудь, а Павел Коган очень точно обозначил проблематику будущего самиздата в своей поэме 40-го года: «Если ты поэт — всерьез, взаправду и надолго, ты должен эти двести лет прожить по записям и полкам…» Придется повториться, Кузьминский сначала поражает своей непоследовательностью, но потом, вглядевшись и вчитавшись, поражаешься уже другому — жесткой, едва ли не ригидной, косной принципиальности поэта, его поэтическому догматизму. Вот статья все в том же первом томе антологии: «Читали-Чли-Читают-Чтут«: «Когда в современных литературоведческих статьях встречаешь джентльменский набор имен: Ахматова-Пастернак-Мандельштам-Цветаева, как единственно определивших литературную традицию наших дней, с удивлением хочется спросить, а куда же делись остальные? Будто не Борис Слуцкий первыми двумя сборниками («Память» и «Время») повлиял на раннего Бродского, будто не из Заболоцкоговырос Аронзон, будто никто не читал Сельвинского«. Как же так? В том же томе в статье «Поэты-лауреаты» уж как топчется Кузьминский на стихах Слуцкого про читателя, который отвечает за поэта, уж как издевается над его же стихами про переводы с монгольского и польского… Непоследовательность? Отнюдь нет! Коль скоро Борис Слуцкий — забыт и отставлен, коль скоро он своими стихами взрывал эстетическую рутину — то он — наш. Коль скоро он печатал для заработка стихи третьего, а то и тридцать третьего сорта, то почему бы не потоптаться? Согласитесь, в этом нет ничего непоследовательного. В этом есть жесткая, принципиальная, едва ли не догматическая позиция. Эту самую позицию Кузьминский разъяснил и растолковал в одной из первых статей антологии «Кого здесь нет» словами Виктора Шкловского: «Венгеров … понимал, что литература делается многими, это общий труд и неизвестно еще, кто возглавит эпоху. Поэтому надо изучать и еще не прославленных и даже забытых»… Поэтому, любя и ценя Бродского, цитируя его напропалую, даже называя его «архетипом современной поэзии», Кузьминский не посвящает ему ни раздела, ни отдела, ни страницы, ни главки в своей антологии: Бродский для него слишком знаменит. Его тексты и так знают, его и так изучают. Нет, у Кузьминского иной подход. Чем менее известен поэт, тем более — сюда его! «О Чудакове никто ничего не знает. Тем менее я… Говорят, его стихи любит Бродский… знает массу Чудакова наизусть. Что еще известно о Чудакове? Ничего…» После чего выдается, выкладывается семь великолепных, разных (будто писали разные люди) стихотворений. Некоторые из них на грани фола, на грани кича, еще немного — и это Эдуард Асадов, но грань не переступается, или наоборот переступается уж очень откровенно, резко, наотмашь: «Ничего не выходит наружу, / Твои помыслы детски чисты. / Изменяешь любимому мужу / С нелюбимым любовником ты…// Я свою холостую берлогу / Украшаю с большой простотой, / Обвожу твою стройную ногу / На стене карандашной чертой…», или начало стихотворения, которое Бродский совершенно справедливо назвал «лучшей из од на паденье NN в кружева и к ногам Гончаровой», только две строчки, дальше тоже хорошо, но две строчки каковы: «Пушкина играли на рояле. / Пушкина убили на дуэли…» Сергей Чудаков и его биографы Я, собственно говоря, не без умысла остановился на Сергее Чудакове, ибо этот поэт, этот «русский Вийон», по не очень верному определению его друга, Олега Михайлова, конечно, «советский Вийон», помогает ответить на несколько очень важных взаимосвязанных вопросов: Не устарела ли антология? Нужно ли ее издавать так, как ее издают в «Культурном слое» — без дополнительных комментариев, а факсимильно, так же, как она была издана в Америке двадцать лет тому назад? Или комментарии нужны? И, наконец, в чем особенности этой антологии, очевидные, но не бросающиеся в глаза? Ныне о Сергее Чудакове известно все или почти все, что может быть известно о поэте. Лев Аннинский в «Знамени», Олег Михайлов в «Нашем современнике», а спустя десять лет в «Новой России» опубликовали о нем обширнейшие статьи-воспоминания. В книге о Тарковском есть даже описание внешности Сергея Чудакова. Сообщено, что было у него странное скуластое лицо, немного монгольского типа. Это его Тарковский хотел снимать в роли колокололитейщика Бориски, но тут Сергея Чудакова посадили в тюрьму, и Бориску сыграл Николай Бурляев. Очень здорово сыграл, но таким образом пропадала рифмовка фильма. В начале фильма над Русью летит летающий мужик, которого играет поэт Николай Глазков, придумавший слово «самиздат» в сороковых годах, вернее «самсебяиздат», так значилось на его рукописных книжечках. В конце фильма колокол для Руси делает самиздатский поэт, Сергей Чудаков, у которого ни одного стихотворения не опубликовано. К тому же немного изменился бы характер роли. Бурляев великолепно играет абсолютного фанатика, Павку Корчагина XV века, тогда как Чудаков, судя по его биографии, сыграл бы … черт, как бы это помягче, словом, он бы добавил в характер колокололитейщика наглости, авантюризма, да попросту плутовства. Но я ведь о Кузьминском, извините… Я ведь собирался ответить на вопросы, выделенные выше курсивом. Сейчас отвечу… Итак, о Сергее Чудакове известно все, излагаю: сын начальника лагеря и заключенной, учился на журфаке, был профоргом, на третьем курсе провел профсоюзное собрание и добился увольнения бездарных профессоров, спустя некоторое время сам вылетел турманом из университета, после чего в вузе не учился.. (Здесь, правда, некая двусмысленность. Олег Михайлов, сообщивший об этом, не пишет, когда Сергей Чудаков совершил свой хунвейбинский демарш. (Все-таки согласитесь, студенты должны учиться, а не выгонять профессоров, даже и бездарных.) Так вот, если собрание было проведено в 1952-м, то это значит, что Чудаков принял участие в позорной космополитической кампании и вылетел из университета в порядке восстановления исторической справедливости. От самых оголтелых старались и стараются избавиться всегда. Если собрание было проведено в 1953-м, то это значит, что Чудаков попытался погнать из универа стукачей и закоперщиков космополитической кампании, за что и пострадал. Согласитесь — важная вещь хронология…) Был книжным вором. Напечатал несколько рецензий, одно интервью с Ильей Эренбургом в газете «Московский комсомолец». Был сутенером. Дальше у биографов начинаются расхождения. Олег Михайлов пишет, что Сергей Чудаков поставлял девочек скульптору Льву Кербелю и сотрудникам посольства республики Чад. Аннинский, что поэт и его девочки обслуживали советских кинозвезд. Я склонен верить Аннинскому, республика Чад уж очень литературна, правда? Просто Чудаков хвастался Олегу Михайлову, а тот не заметил цитаты из Гумилева про изысканного жирафа, который как раз на озере Чад и бродит. Потом Сергей Чудаков попал в тюрьму, Аннинский пишет: за сводничество. Михайлов глухо на что-то намекает, но четко называет только то, что Сергей Чудаков был в дурдоме. В 1973 году пронесся слух, что Сергей Чудаков замерз насмерть в параднике. Слух донесся до Бродского в Америке, который и написал на смерть Сергея Чудакова одно из лучших своих стихотворений: «Имяреку тебе…» Это стихотворение любил читать наизусть Довлатов, особенно вот эти строчки: «Тщетно драхму во рту твоем ищет Харон». Но Чудаков не умер, а вновь материализовался и вновь бросился во все тяжкие — сутенерские и книжно-воровские. Умер во время перестройки. 60-е и 90-е Для чего я пересказал всю эту историю? Для того чтобы вы посравнили и посмотрели, чем отличается подход Кузьминского от современного подхода. Или, скажем поточнее, чем отличается подход типичного шестидесятника от подхода современного человека. Не в том дело, что Аннинский и Михайлов — ровесники Кузьминского, а в том дело, что они остались здесь, в Москве, и менялись вместе со всей страной, тогда как Кузьминский, уехав в 1975-м, законсервировался, сохранился в шестидесятых. Он сохранил пафос шестидесятых, пафос восстановления исторической справедливости, реабилитационный пафос. Тогда как пафос поздних восьмидесятых и девяностых был радостно-разоблачительный. Шестидесятник Кузьминский пишет о своем друге, ставшем официальным советским поэтом, Глебе Горбовском, что никому его не отдаст — ни Союзу писателей, ни его официальным публикациям, — и тут же публикует изумительные стихи Горбовского. Стихотворение «Кухня» написано так, словно Горбовский видел фильм Поланского «Жилец» или Поланский читал стихи Горбовского — и то, и другое невозможно. Просто и Поланский, и Горбовский очень много повидали соседей в скученных пространствах для жилья первой половины ХХ века. Я не хочу обидеть ни Олега Михайлова, ни Льва Аннинского, сообщивших мне столько интересного про поэта, стихи которого мне так понравились в антологии Кузьминского, в конце концов, я ведь и сам современный российский человек, мне и самому близок разоблачительный пафос. Сейчас поясню. Шестидесятник оглядывал пейзаж после огромной, жуткой социальной битвы ХХ века и думал, кого я еще не упомянул, о ком не сказал доброе слово. Все матерят Сельвинского, а ведь какой был поэт! Ну, скурвился, а кто не…? Цитирую Кузьминского (писано в 1980-м): «…Гумилева в конце концов реабилитируют. С ним приходится считаться. Другое дело — с поэтами «малыми». Скажем, Карп Карпович Коротков. Кому до него какое дело? Или Тихон Васильевич Чурилин, гениальный Александр Туфанов, никому не известный Александр Беленсон?… Неофициальную поэзию зачинали поэты «официальные». Стихи, ходившие по рукам в списках, принадлежали поколению «отцов»… Леонид Лиходеев: «Руки некуда девать. / Так много рук. / Сигаретой / хоть одну спасу от дрожи…» Повторюсь, это — пафос шестидесятничества. Уж как материт, костерит Кузьминский Евтушенко и Вознесенского, но приводит стихи Андрея Вознесенского: «Отцам за Иссык-Кули, / За шахты, за пески, / Не орденами, пулями / Сверлили пиджаки…» Пафос современности иной. Взгромоздившись на пригорочек, оглядеть окоем и призадуматься: кого же я еще не обосрал? Отсюда поразительный парадокс антологии Кузьминского. Какие бы легенды, сплетни и слухи он бы не передавал о том или ином поэте, но образ поэта возникает живой, обаятельный, извините, поэтичный. Сравните с тем, что сделали из своего друга Лев Аннинский и Олег Михайлов. Такой монстр вылупился из их благодарных воспоминаний. Шестидесятник даже гадость скажет, и получится похвала, а современный человек захочет кого-то похвалить и всенепременно закончит каким-то таким поношением, что нужно срочно выносить не только святых, но и вообще все, что подвернется под руку. «Люблю поэтов, когда они «малые» Поэтому правильно печатать «У Голубой лагуны» так, как она и была написана в 1980-1986-м. Это — не справочное издание, но памятник литературы, литературный памятник прошедшей эпохи. Многие из поэтов, о которых Кузьминский пишет, мол, не напечатано ни строчки, удостоились сборников, иные посмертно, иные при жизни. Поэтому если кто заинтересуется стихами Владимира Уфлянда или Михаила Еремина — господи! Да что ж он не найдет их сборников, их стихов? Здесь есть еще одна благородная и благодарная черта антологии… Кузьминский дает много поэтов и много разных поэтов, не так уж много их стихов, но зато все стихи — очень яркие. Они вколачиваются в память, а в силу их разности не оттеняются, а как бы это сказать: осветляются друг другом. Вся современная поэзия — насыщенна. Потому подряд много читать Генриха Сапгира или Евгения Кропивницкого — перенапряжешься. А в небольших количествах — в самую-самую масть. Сойдет для начала. То есть антология, как это ни странно, создана и для тех, кто всерьез, научно, занимается андеграундной поэзией, и для тех, кто (применим официальный оборот) «только начинает знакомство со всем тем богатством, которое накопила русская поэзия второй половины ХХ века». Девиз Кузьминского — первая заповедь: «Не сотвори себе кумира». Вот почему он так язвит по поводу квадриги: «Пастернак-Мандельштам-Ахматова-Цветаева». Вот почему с таким удовольствием помещает в свою антологию огромную статью Льва Лосева про поэтов «филологической школы» (Еремина, Уфлянда, Красильникова, Виноградова), в которой имеет место быть следующее примечательное рассуждение: «Если бы в 1930 году застрелилась Ахматова, и к власти затем пришел бы Бухарин, и А.А. была бы названа «лучшей, талантливейшей поэтессой нашей эпохи»: станция метро «Ахматовская» (мозаика с сероглазыми королями), танкер «Ахматова», переиздания вплоть до «Библиотеки пионера и школьника» — это был бы более трудный путь для выживания культуры: лучше через будетлянство и кубофутуризм добраться до Ахматовой и Цветаевой…», чем (я продолжу) от Ахматовой и Цветаевой добраться до подсчета их любовников и любовниц. Это и впрямь изумительный факт. Люди, истово занимающиеся Маяковским, пусть и отвергающие свою первую поэтическую любовь, как Юрий Карабчиевский, все одно пытаются или икты считать, или решить проблему революции, социального насилия, социального переворота, между тем, как люди, истово занимающейся Ахматовой, как-то очень быстро отставляют в сторону всякие революции (с ними все ясно) и принимаются считать не икты, но акты… Половые. Странная, знаете ли, но — закономерность. Вернемся к Кузьминскому и его антологии. Он хорошо понял удивительную особенность нашей культуры. Великие писатели здесь не подтягивают следом за собой своих современников, друзей и недругов, но закрывают их. Если есть Пушкин, то зачем Баратынский? Если есть Толстой, то какой там Герцен? Если есть Достоевский, то при чем тут Бутков? В результате культ великих писателей не цементирует культуру, а распыляет ее, дробит. Отсюда запальчивость Кузьминского: «Мы не знаем, кем была бы Ахматова, если бы Любови Столице, Марии Шкапской, Анне Барковой не заткнули бы ебало в двадцатые годы…» Это та догматическая принципиальность, которая порой приводит к ошибкам. Что ни говори, а Анна Ахматова — великая поэтесса, которой тоже как-то так в двадцатые годы закрыли … да … именно, подберем синоним к непристойности: «истерзанный рот». Мария же Шкапская, равно как и Анна Баркова — очень хорошие поэтессы. Но … Кузьминский — человек принципиальный, и вот его принцип: «Люблю поэтов, когда они «малые». И не люблю, когда лауреаты. Ленинской премии или Йельской — не важно. Не люблю, и все». Личные воспоминания Мне повезло: я видел Константина Кузьминского, легендарного ККК, в 1967 на Невском. Тогда мне было семь лет, но эту картину я запомнил надолго. По нынешним временам ничего особенного. Но тогда … тогда это был хэппенинг, зрелище, человек-картина, человек-праздник. Навстречу нам с отцом в виду колоннады Казанского собора шел мужик в отличных джинсах, в рубахе, расстегнутой до пупа, в черных очках с чисто промытыми стеклами. Волосы у него были длиннющие, борода такого же размера. В одной руке — холщовая сумка, в другой — палка. И никакого юродства! Никаких ухмылок окружающих, никакого брезгливого отстранения: вот, мол, вырядился, придурок. Странное, боязливое уважение. Мужик шел и улыбался. Солнышко светит, тепло, хорошо, чего еще надо, почему бы не поулыбаться? Я проводил его глазами и тихонько спросил у отца: «Кто это?» Отец объяснил: «Константин Кузьминский» «А…почему он … такой?» Отец пожал плечами: «Битник. Поэт…» Потом мне повезло еще больше, и я услышал, как ККК читает стихи. То есть сначала я увидел, как он вошел в нашу коммуналку и как попятилась в неподдельном ужасе наша квартуполномоченная. Она была внучкой бывшего, дореволюционного владельца всей этой квартиры. Это надо пояснить, поскольку этот факт рискует умереть. Уж сколько я читал псевдонаучных современных описаний коммунально-квартирного быта, и никто из всех этих социологов гребаных не упоминает об этом факте. Во время уплотнения бывшие владельцы квартир становились квартуполномоченными. Потом, если их не ссылали и не расстреливали, квартуполномоченными становились их дети. Поэтому в замечательной, кроме всего прочего, своей социологической точностью повести Лидии Чуковской Софья Петровна — квартуполномоченная. Да, так вот квартуполномоченная попятилась так, как, наверное, попятился ее дед перед революционными матросами. Потом Кузьминский увидел фаршированную рыбу, приготовленную моей бабушкой, воскликнул: «О! Это — фыш!» И смел «фиш» за минуту. Да и фиг с ней, фаршированной рыбой, потому что дальше он читал стихи. Потом я как-то так ловил подрастающим, подростковым ухом все сведения об этом потрясшем мою детскую душу человеке: что он (что с ним не делай) любит змей! Уверяет: змея — элегантна, красива, настоящий, мускулистый, грациозный ручей. Ну да — опасна, а тигр — не опасен? Что он водил экскурсии в Павловске, и экскурсанты ходили за ним толпами, чтобы послушать, какой Павел Первый был замечательный, несчастный, благородный человек… В ответ на идеологические возмущения в инстанциях объяснял: «Я — легитимист». Отставали до той поры, пока не нашелся грамотный, который объяснил: легитимист — это вроде как монархист… Да, и когда Кузьминский уехал, услышал, как один замечательный поэт резко, с обидой сказал: «Ну и пусть едет… У него стихи написаны для звону, абсолютно бессмысленны. Что по-русски, что по-английски — не все ли равно?» К тому времени я уже прочел предисловие Андрея Белого к его роману «Маски» и помнил: «Сумароков писал, что стихи Ломоносова «писаны более для звона словесного, чем для смыслу». Можно себе представить, как улыбнулся поэт-ученый от такого наскока «пошлячка»?» К тому времени я уже знал, что это только в плохих книжках хорошие поэты любят друг друга и друг друга хвалят, а в нормальной литературной ситуации хорошие поэты друг друга ругают. Позже, много позже я понял, что суровая советская действительность с ее идеологическим прессом и была той плохой книжкой, в которой хорошие и разные поэты хвалили друг друга… 15 мая 2006 г. |