Как два миллиона лет ритуального бормотания сделали нас людьми — о книге Роберта Белла «Религия в человеческой эволюции»
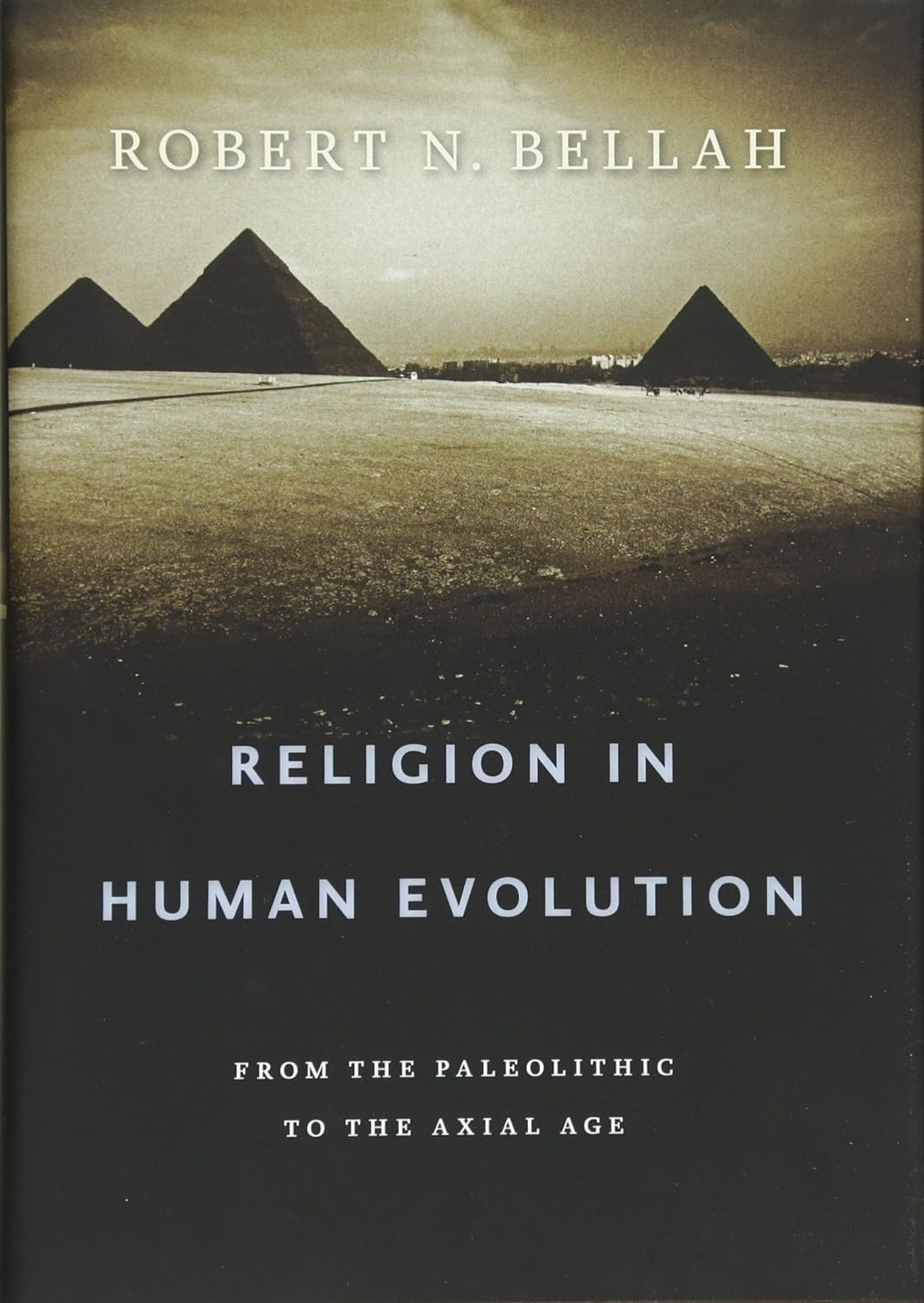
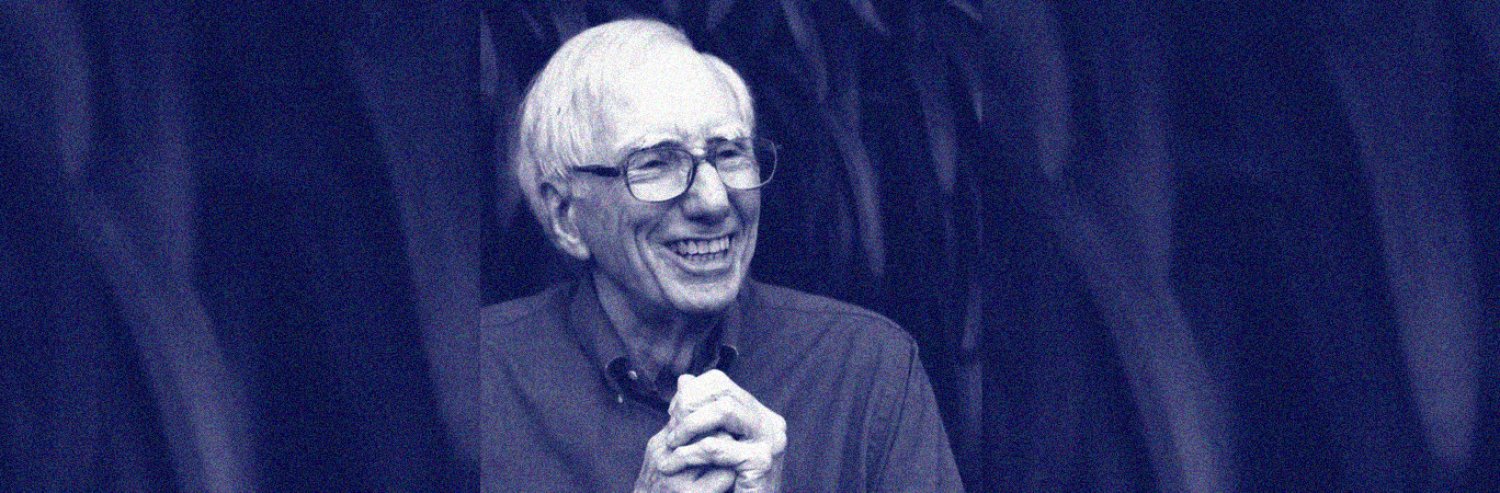
Если религия — это не «опиум для народа», а важный фактор эволюции человека, то, может быть, ее начало удастся разглядеть там же, где лежат истоки биологической эволюции вообще — в образовании Вселенной после Большого взрыва? Американский социолог Роберт Белла написал 700-страничный труд, чтобы проследить историю развития культуры как особенной области, в которой давление естественного отбора оказывается ослаблено, а ключевую роль обретают такие элементы формирования устойчивых сообществ, как мимесис, ритуал, миф и, наконец, немногие «осевые» вероучения, открывающие возможность индивидуального предстояния перед Богом.

С определенной долей уверенности можно сказать, что прошло время, когда религию считали «пережитком прошлого», «опиумом для народа» и «сказками первобытных скотоводов», а в науке видели «прогрессивную замену» для нее и «подлинного благодетеля человечества». Ибо быстро стало понятно, что «радио есть, а счастья нет». Сегодня мы живем в таком мире, где фактор религии по-прежнему важен, а кое-где даже первостепенен. Тем острее ставятся вопросы, в чем значение религии для человека и насколько она укоренена в его природе, каковы ее происхождение и законы развития, наконец, каким должно быть «правильное» место религии в жизни и социуме, чтобы избежать крайностей слепого фундаментализма и не менее ограниченного сциентизма. Неудивительно, что поток публикаций на эту тему не иссякает. И тем бо́льшую ценность приобретают труды обобщающие, итоговые, на стыке многих дисциплин. Все это в полной мере относится к семисотстраничному opus magnum американского социолога Роберта Беллы «Религия в человеческой эволюции: от палеолита до осевого времени» (2011), недавно вышедшему на русском языке.
Роберт Нилли Белла (1927–2013) за свою более чем полувековую научную деятельность написал не так много книг, но почти каждая становилась заметным событием. Особенно много шума наделала статья (из которой потом выросло несколько крупных работ) «Гражданская религия в Америке» (1967), где Белла, следуя интуиции Жан-Жака Руссо, утверждал, что наряду с церковной религией и не сливаясь с ней существует сложная и хорошо организованная гражданская религия, выросшая из «исторического опыта нации» и обзаведшаяся своими «священными текстами», памятными местами и датами, а также, разумеется, совместными ритуалами. Нам в России после семидесяти лет безусловной веры в одно «всесильное учение», а сейчас на фоне крепнущего культа «Великой Победы» это кажется очевидным, но можно представить, как такая мысль потрясла Америку, воспитанную на идеалах Просвещения. И хотя Белла впоследствии не раз пересматривал свою оценку гражданской религии, о ней, по его словам, ему «никогда не давали забыть».
Еще одним значительным прорывом стало исследование Беллой с коллегами феномена индивидуальной религии, привлекательность которой начала расти в «цветущие шестидесятые» в связи с кризисом утилитарного индивидуализма, «неспособного обеспечить осмысленную модель личного и социального существования». В самой, пожалуй, известной книге Беллы «Привычки сердца» (1985) анализируется поворот от «института к индивиду», от «традиции, церковности — к человеческой субъективности, к самореализации, внутреннему миру человека, для которого главный авторитет — он сам». Этот феномен (грядущее появление которого приветствовал еще Герберт Спенсер) даже получил свое название — шейлаизм, от имени респондента Беллы, медсестры Шейлы Ларсон, которая не ходила в церковь, но верила в Бога, любила себя и прислушивалась к своему «внутреннему тоненькому голосу». И хотя сам Белла отмечал, что шейлаизм в конечном итоге ведет к эгоцентризму и человеческой разобщенности, его работы инициировали широкое междисциплинарное изучение индивидуализированной «духовности» как основной формы религиозности в эпоху постмодерна.
К своей главной книге Белла шел, можно сказать, всю жизнь. Еще в 1964 году в эссе «Религиозная эволюция» он предложил пятичленную классификацию религий, разделив их на: примитивные (например представления австралийских аборигенов), архаические (полинезийские культы, Египет, Месопотамия и проч.), исторические (древний иудаизм, конфуцианство, буддизм, традиционное христианство, ислам), ранний модерн (протестантское христианство) и модерн (религиозный индивидуализм). Впоследствии под влиянием известной книги Карла Ясперса «Смысл и назначение истории» исторические религии получили характеристику осевых — в полном смысле этого слова, то есть как такие, которые можно назвать осью человеческой цивилизации. Дело оставалось за «малым»: дать детальную характеристику осевых мировоззрений, показав их генезис не только из архаических и примитивных культов, но и из эволюционно еще более ранних форм деятельности, общих у нас с приматами и прочими животными. Иными словами, объединить эволюционную биологию со штудиями древнегреческих и древнекитайских текстов в широкой культурологической перспективе.
Как мало кто другой, Белла оказался готовым для этого. Он свободно говорил на японском языке и грамотно на китайском, французском и немецком, изучал арабский и вэньянь, мог читать на древнегреческом и древнееврейском. Будучи, по собственному признанию, «убежденным дюркгеймианцем», он испытал влияние Макса Вебера, Толкотта Парсонса и Эрика Фегелина (автора фундаментального пятитомника «Порядок и история»), сотрудничал с Клиффордом Гирцем и Шмуэлем Эйзенштадтом, еще одним исследователем осевых цивилизаций. При работе над «Религией в человеческой эволюции» (занявшей, кстати, тринадцать лет) Белла опирался на такое количество различных источников, что порой кажется, будто в этом собрании обширных цитат тонет голос самого автора. Впечатление, разумеется, ошибочное. Просто когда тебе за семьдесят и ты признанный специалист в своей области, ты больше озабочен не оригинальностью мысли, но ее добросовестностью. Впрочем, нас интересуют прежде всего самостоятельные взгляды Беллы. В чем они выражаются?
В первую очередь в захватывающих дух масштабах. Белла — сторонник так называемой большой истории (Big History), не разделяющей собственно историю и эволюцию, поэтому начинает рассказ о происхождении религии с… Большого взрыва. Но, конечно, по-настоящему мы подступаем к главной теме тогда, когда у животных (рыб, рептилий и особенно млекопитающих) появляется родительская забота — способность, «которая имеет основополагающее значение для развития эмпатии и этики… а также религии». Родительская забота создает «область снятого напряжения» — крайне важный для Беллы термин, означающий, что давление естественного отбора на детенышей ослаблено. Освобожденные от трудностей борьбы за выживание, они «изобретают» игру — удивительный вид деятельности, характеризующийся расслабленностью, непринужденностью, эгалитарностью и обладающий высоким эвристическим потенциалом. Игра для Беллы — как и для знаменитого автора «Homo ludens» — краеугольный камень всех дальнейших построений. Не будучи повседневной активностью, игра создает «параллельный мир», альтернативный способ жизни, подобный сну, но, в отличие от него, значительно более социальный и творческий. Игра — настоящее начало.
Называя такие виды человеческой деятельности, как религия, искусство и наука, «серьезной игрой» (термин Йохана Хейзинги), Белла ведет речь как минимум о том, что все они возникают в «области снятого напряжения», постоянное расширение и наполнение которой и есть культурная эволюция человечества. Проблема в том, что между стихией чистой животной игры (в изображении которой Белла опирается, в частности, на наблюдения такого авторитетного приматолога, как Франс де Вааль) и самой примитивной культурой из описанных полевыми антропологами лежат более двух миллионов лет развития, археологии неведомого. Мостом через эту пропасть для Беллы становится ритуал. Вопреки расхожему мнению, что животные во всем, кроме разума, превосходят человека, Белла напоминает о нашем уникальном «умении принимать новые телесные позы и производить плавные последовательности новых телодвижений», которые мы активно используем в гимнастике, танце и жестах. Поскольку наши ближайшие гоминидные родственнички танцуют, мягко скажем, неважно, а для людей же, напротив, чем архаичнее общество, тем важнее танец, — так что «племенные религии не столько продуманы, сколько станцованы», — напрашивается вывод, что на «плавные последовательности телодвижений» у естественного отбора был особый спрос. Похоже, именно танцуя, люди становились людьми.
Но если жест и танец, как считает Белла, находят свое культурное воплощение в ритуале, то в чем была его новизна и эффективность? Сперва Белла дает довольно общий дюркгеймианский ответ: «ритуал был той инновацией, которая обеспечивала солидарность» в первобытной группе, ставшей слишком большой, чтобы обойтись только родством, — но затем уточняет суть этой солидарности. Указывая на тот известный факт, что «мы разделяем с шимпанзе и бонобо тенденцию к деспотизму и доминированию», Белла, вслед за антропологом Кристофером Бемом, автором книги «Иерархия в лесу», задается вопросом: «как же получается, что простейшие из известных нам сообществ, а именно племенные охотники-собиратели, совершенно эгалитарны и, вероятно, остаются таковыми тысячи, если не миллионы лет?» Их ответ довольно элегантен: дело не в том, что наши далекие предки каким-то образом «открыли» «пещерный коммунизм» или «райскую анархию», а в том, что жесткое доминирование никуда не делось, оно только приобрело новую форму «всех против каждого», кто попытается дорваться до единоличной власти. Полемизируя с Рене Жираром, Белла пишет, что «первым убийством у культурно организованного человечества было убийство не козла отпущения, но выскочки, который воплощал в себе угрозу возрождения деспотизма альфа-самца приматов». А ритуал, в свою очередь, был тем позитивным механизмом, который, награждал «чувством полного социального принятия за отказ от доминирования». Как тут, однако, не вспомнить знаменитую теорию Зигмунда Фрейда о том, что объединившиеся сыновья убили и съели своего отца-деспота, чем положили «начало социальным организациям, нравственным ограничениям и религии»!
Все эти размышления позволили Белле обосновать подробную схему «ритуальной» эволюции человечества. Она начинается, когда люди, разделяя с животными способность «понимать непосредственную ситуацию и отвечать на нее» (этап эпизодической культуры), учатся использовать тело, жест и голос (но пока еще не язык) «для образного изображения событий и коммуникации» (этап миметической культуры). Белла предполагает, что миметический ритуал, возникший около двух миллионов лет назад, состоял из эмоционального бормотания, криков, танцев и того, что он, вслед за Стивеном Брауном, соавтором книги «Происхождение музыки», называет «музыко-языком» (musilanguage) — единым предком языка и музыки одновременно. В таком ритуале люди впервые, в отличие от «животных-солипсистов», «могли участвовать в содержании чужого ума и обмениваться своим содержанием». Поэтому миметический ритуал стал «конституирующим для общества как такового».
Два миллиона лет бормотания кажутся слишком долгим сроком, но не будем спешить с иронией. Человеческая эволюция только набирала обороты. Давно установлен, но не перестает удивлять тот факт, что на протяжении полутора миллионов лет первые Homo наколотили олдувайской гальки в таком количестве, которое явно избыточно для любого практического применения. Не было ли ее изготовление бесконечным и однообразным ритуалом, однако, как доказывает Белла, отнюдь не бесполезным? У Федора Гиренка есть теория, которая так же придает палеолитическому бормотанию важное значение. Согласно ей, сознание архантропов было аутичным и галлюцинаторным, порождало не членораздельную речь, но самопроизвольные звуки и «гебефренический смех». Американский социолог в такие психоаналитические глубины, конечно, не опускается, но тоже, можно сказать, прибегает к экзистенциальному языку, когда утверждает, что «ритуал обеспечивал первоначальный смысл существования».
Примерно 200–250 тысяч лет назад (цифры, разумеется, условные) миметический ритуал настолько усложнился, что потребовал полноценного языка для адекватного отображения своего содержания. Так появился миф — связный нарратив, способный на «всеобъемлющее моделирование всей человеческой вселенной». Тут равно важны обе характеристики: и тотальность, и повествовательность; первая удерживает еще более усложнившееся общество от беспорядка, вторая ограничивает степень концептуализации на уровне простого описания и в лучшем случае метафоры.
Посвятив немало страниц основательному разбору примеров мифических систем (от очень примитивного музыкального ритуала бразильского племени калапало до таких религиозно изощренных цивилизаций, как Гавайи, Месопотамия и Древний Египет), Белла подступает наконец к осевому прорыву. Исследуя, что называется, с карандашом в руках четыре главные осевые культуры — Древний Израиль, Древнюю Грецию, Китай и Индию (остальные, сокрушается он, например зороастрийский Иран, не дают достаточно верифицированных данных), — он отстаивает тезис, согласно которому именно в это время, в середине первого тысячелетия до нашей эры, человечество перешло к четвертому этапу своей культурной эволюции, который характеризовался появлением критического, умозрительного мышления и универсальной эгалитарной этики. В отличие от архаических обществ, сконцентрировавших религиозное внимание исключительно на фигуре царя-жреца, осевая эпоха возвращает человеку духовные равенство и самостоятельность: его предстояние перед Богом, его ответственность перед предками, его усилия ко спасению, его, наконец, гражданский долг не могут быть отданы кому-то другому и кем-то другим исполнены. Это то, с чем мы живем и сейчас.
Здесь нет возможности даже кратко перечислить все идеи богатой на них книги Беллы. Несомненно, достойно удивления, как автор организует материал в главах, посвященных Греции и Китаю. Посвящая весь их объем сугубым, казалось бы, философам и этическим мыслителям — Пармениду, Гераклиту, Сократу, Платону, Конфуцию, Мэн-цзы, Сюнь-цзы, — он еще раз напоминает нам, насколько поздним, по сути модернистским, было разделение философии и религии и что древние мудрецы являлись, подобно иудейским пророкам и индийским аскетам, в первую очередь учителями жизни и устроителями новых общественных ритуалов, призванных заменить старые, доосевые, уже не столь эффективные. Именно так, в религиозном ключе, нужно воспринимать и Парменидово экстатическое «Есть!», и конфуцианские апелляции к Небу, и платоновский миф о Сократе как об идеальном человеке и правителе. В конце концов, разве не говорил напрямую нам Эмпедокл: «Я не человек, а бессмертный бог!» — фраза, которая в учебниках философии обычно проходит по ведомству курьезов.
Кажется странным, что, указав на критическое мышление как на величайшее достижение осевого прорыва, мы продолжаем говорить о мифе. Бесспорно, не чем иным, как мифами, были великие осевые утопии, появление которых подытожило ту эпоху. Буддийское всемирное царство отшельников из джатаки о немом принце, «новое небо и новая земля» Второисайи, даже в какой-то степени «Государство» Платона стали изображением целого мира «снятого напряжения», «где давление обычных нужд и потребностей жизни прекращается». Это, как настаивает Белла, оказалось возможным не только благодаря инновациям четвертого этапа культурной эволюции, но и потому, что сохранялись достижения предыдущих трех. Своего рода кумулятивный эффект, когда миф и мимесис никуда не делись, в то время как к ним добавился логос, послужил причиной столь жизнеспособных преобразований. Так и должно быть, но так было не всегда.
Впервые именно модерн успешно осуществил радикальный эксперимент по полной замене мифа и мимесиса умозрением. Колоссальные успехи практической науки породили новую утопию, утопию технического прогресса, которая сумела сместить своих осевых предшественниц. Однако новый царь горы оказался опасно одномерным. Ведь у мифа своя истина, которая не пересекается с научной. И речь сейчас не идет о каких-то малоинтересных богословских догматах. Белла приводит прекрасный пример: само наше «я», за которым так долго и безуспешно гоняются когнитивные науки, есть чистейшей воды повествование, рассказ о себе, личный миф, если угодно. Но значимость его для нас от этого никак не умаляется. Причем то, что не поддается рациональному вскрытию, может быть понято и выражено, например, литературой. «В важных сферах жизни истории нельзя заменить теориями», — убеждает нас автор.
Как ясно даже из этой рецензии, христианство и ислам, несмотря на их осевую «закваску», в книгу не поместились. Белла предполагал написать продолжение, где бы довел религиозную эволюцию как раз до эпохи модерна. Этого, увы, уже не случится. Но осталась его надежда, что люди, играя, не перестанут изобретать все новые и новые культурные способности, а прежние, в свою очередь, не придут в забвение, продолжая жить в культуре на равных. Даже если это «всего лишь» ритуальное бормотание.
В июле 2013 года, всего за одиннадцать дней до смерти, в письме к Джеку Майлзу, автору бестселлера «Бог: биография», Белла писал:
Я уже понял, что моя следующая книга, которая попытается, пусть не в таком большом объеме, охватить 2000 лет, прошедшие с конца осевой эпохи, должна завершиться на обнадеживающей, а не на мрачной ноте… Пугать людей до смерти кризисом, нависшим над нами, не мотивирует к действию, а лишь побуждает переключить внимание на что-то другое. Я намерен показать, что столкновение с реальностью — это наша возможность испытать, что могут сделать перед лицом опасности все те способности, которые мы приобрели за нашу долгую эволюционную историю, и какую радость это принесет, если использовать их творчески.
Валерий Шлыков
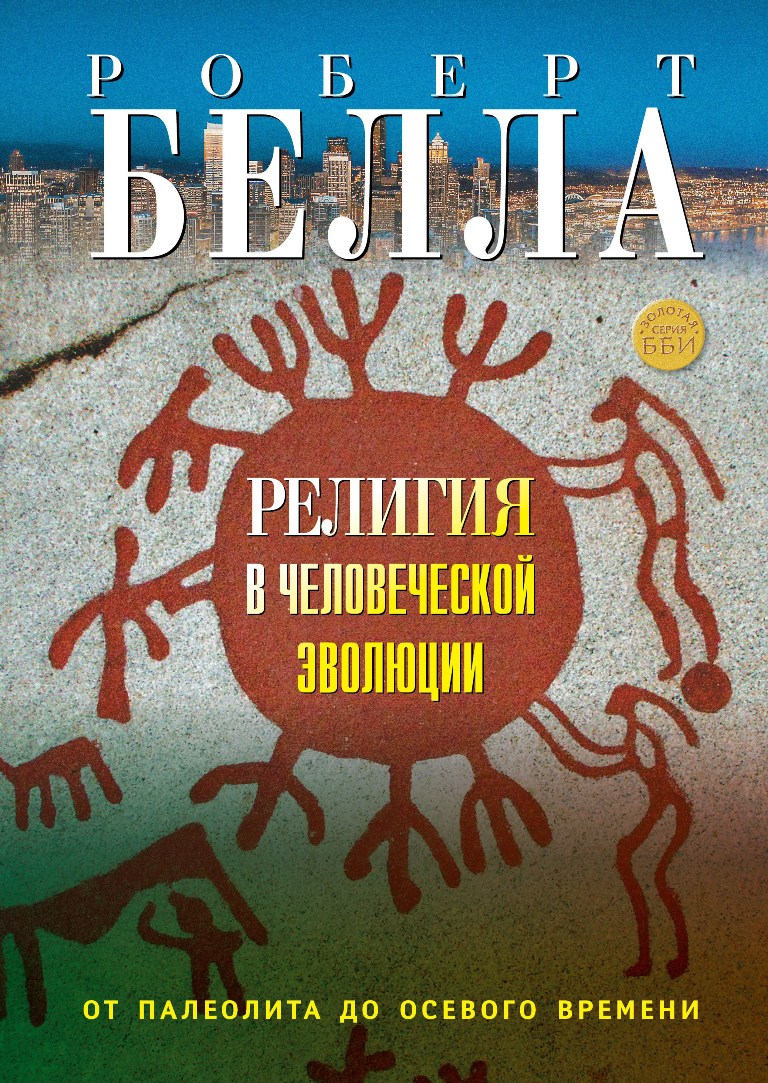
Роберт Белла. Религия в человеческой эволюции: от палеолита до осевого времени.
М.: ББИ, 2019. Перевод с английского Алексея Васильева и Августина Соколовского.
