Лев Пирогов о Мирославе Немирове

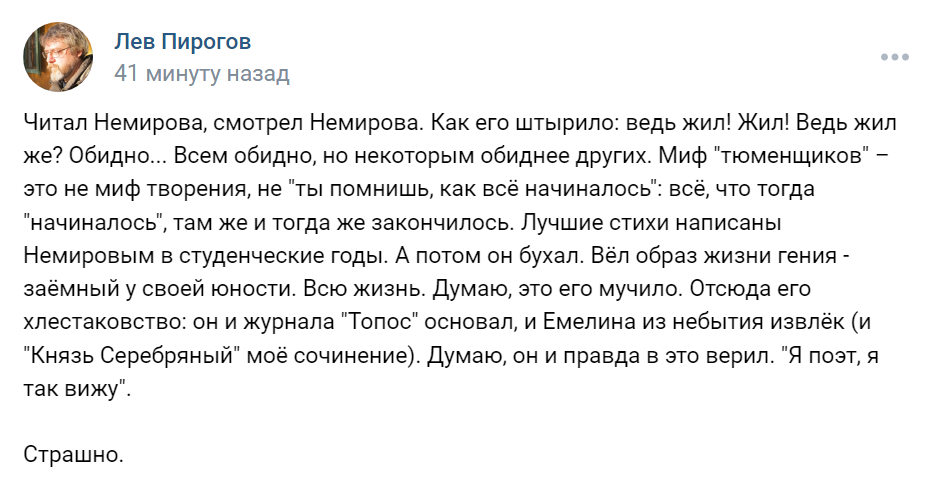
Часть I

Значит, вот как. Если бы вам было не все равно на писателей, кого бы из них вы выбрали потрогать живьём — из классиков? Пушкина? Гоголя? Лермонтова? Тургенева? Достоевского? Толстого? Чехова?
В нынешнем времени, где всё возможно, выберите, если вас интересует моё мнение, Мирослава Маратовича Немирова.
Да, я в курсе за остальных. Но.
Художественный, литературный, гастрономический и всевозможный другой вкус может у людей: а) наличествовать, б) отсутствовать, в) быть развитым сверх меры. При этом люди с чрезвычайно развитым вкусом входят в конфликт не с теми, у кого его вовсе нет, а с теми, у кого он развит нормально. «Вкус бывает у портных», — презрительно говорил Иосиф Бродский, заставляя вспомнить о римском философе Сенеке, утверждавшем, что, именуя живописцев «художниками», мы должны также называть художниками поваров, борцов и других людей «масляных и жирных профессий».
Он, впрочем, утверждал это в негативном для живописцев смысле.
Людям, начисто лишённым вкуса, легче снискать симпатию тех, у кого он гипертрофирован, чем тех, у кого он развит должным образом (а значит регламентирован). Пример: Моцарт, «слепой скрыпач» и Сальери. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля». А Моцарту было смешно. Весело!
Моцарту было хорошо смеяться. Он гений. «Легче!.. Гению легче!..», — вопил персонаж художественного фильма «Тема» в исполнении Михаила Ульянова (лучший фильм о творчестве в отечественном кинематографе). А каково тем, чья гипертрофия вкуса не подкреплена гениальностью? Кто, как собачка, всё понимает, а сказать ничего не может?
Им тяжело. Знаю не понаслышке. Однажды в одном собрании мне довелось быть декламатором такого стихотворения:
Это что за свёкла-репа,
что за глупая морковь.
Я бы жизнь отдал за это,
кровь отдал бы и носки.
Это что вдруг за картофель,
не картофель, а говно?
За такой картофель-мофель, извините,
не отдал бы ничего.
Но у девочки Наташи
в огороде лук растёт.
Ради лука у Наташи
я отдал бы помидор большой.
Мне казалось, зал взорвётся аплодисментами. Ведь стихотворение душевное, хорошее, про любовь! А кроме того… Ну, об этом потом, что кроме того. Представьте же себе моё недоумение, как оно нос к носу сталкивается с недоумением вежливо молчащего зала… Ну, с тех пор я уже не так наивен, конечно, и от вас уже не жду одобрения.
И правильно делаю.
Загвоздка вот в чём. Культура складывается из двух, на первый взгляд, противоположных феноменов. Первый — это искусство соблюдения запретов. Нельзя убить того, кто тебе не нравится, нельзя почесаться на виду у других, нельзя говорить то, что думаешь. Второй процесс — искусство нарушения запретов. Нарушение запретов не предполагает их отрицания. Нельзя убивать — но на войне приходится. Это как бы даже и хорошо (молодец, много врагов уничтожил), но всё равно плохо. Нельзя говорить то, что думаешь (может выйти грубость, глупость, конфуз), но прямоту и честность мы относим к людским достоинствам. При этом прямодушный человек, из-за прямодушия которого страдают другие люди, называется «мудаком». Нельзя почесаться, но можно сделать это специально — так, чтобы вышло смешно.
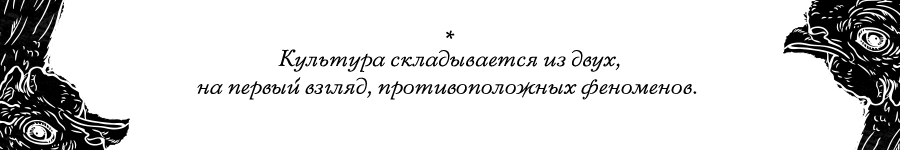
Или не вышло.
Шарлатаны от искусства любят выставлять себя непризнанными гениями, то бишь людьми, чей вкус возвышается над средним общепризнанным уровнем. «Не доросли ещё до моей музыки», — говорил Незнайка. Отчаявшись разобраться в хитросплетениях современной эстетики, мы согласны признавать за художников и поваров (с одной стороны), и тех, кто контемпорарно какает посреди площади (то есть занят делом противоположным). Это происходит оттого, что мы позабыли (или, вернее, привыкли не принимать в расчёт) главный критерий, который отличает собственно искусство от всеразличных его подобий. Критерий этот — служение благу. Если результатом творческого акта является обращение души к добру (прозрение, раскаяние, умиротворение, сытость) — это искусство. Если нет, то нет.
И тут есть нюансы. Скажем, боевой гимн вроде бы возбуждает агрессию — плохое чувство. Но на самом деле — притупляет страх смерти, чувство хорошее. Нарушение культурного запрета должно апеллировать к необходимости его соблюдения. Смешно почесаться можно, потому что это напоминает людям, что чесаться нехорошо. А вот смешно покакать уже не получится. Почему?
Потому что в культурном жесте нарушения запрета, одновременно являющемся апелляцией к этому запрету (шире говоря — «апелляцией к должному»), присутствует указание на объект или на обстоятельство («некоторые некультурно чешутся»), но не воспроизводство самого этого объекта или обстоятельства (кучка выкаканного говна). Если заменить выкакивание говна на поливание цветочков (вот, дескать, такой хэппенинг: художник поливает цветочки), это всё равно будет шарлатанство и профанация, хоть поливание цветочков и обращено ко благу. Искусство не воспроизводит явлений жизни, оно на них указывает. Художник не творит красоту (распространённое заблуждение, происходящее от нашей мыслительной и языковой неряшливости). Художник показывает красоту.
Главное различие между графоманом, успешно притворяющимся художником, и, собственно художником состоит в том, что графоман стремится красиво выразиться, а художник находит красоту в мире, обращает на неё наше внимание и скромно стоит в сторонке. Один из прекраснейших образов русской литературы заключён всего в пяти словах: «Солнце светило под колёса поезда» (Пастернак, «Доктор Живаго»). Графоман разразился бы тут целым абзацем (в котором бы, конечно, не обошлось без прилагательного «янтарный») и не дал бы читателю продраться к хранящемуся в памяти образу: жёлтое закатное солнце стелит лучи параллельно земле. А ведь говорят «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»…

Ф-фух… Нам осталось сделать последний шаг, чтобы разобраться в «загвоздке». Итак, художник показывает. А последний шаг состоит в том, что можно не показать, а указать. Помните анекдот про профессиональных рассказчиков анекдотов? В своей компании они анекдотов не рассказывают, а просто говорят: «Номер тридцать один!» И хохочут. Классика! Или: «Номер сто шестнадцать!» Ну, это так себе…
Можно не показывать красоту, а просто указать направление. «Красота там». Это важный момент для понимания того, о чём нам предстоит говорить дальше. Собственно, пример с солнцем под колёсами поезда — это и есть в большей степени указание на красоту, чем её показывание. Читатель должен включить память, воображение, читатель должен хоть раз в жизни залюбоваться зрелищем, о котором ему напомнили. Иначе образ не заработает. «Рассказчик анекдотов должен знать анекдот, номер которого ему назвали».
Для чего такие сложности? Вернее, отчего так происходит?
Кто-то, чуть ли не Эйнштейн, однажды рассказывал, что в физике есть несколько уровней рефлексии. На первом уровне располагаются наблюдаемые явления природы и физические законы, выводимые из этих явлений. На втором — явления природы, которые напрямую не наблюдаются, но могут быть выведены (предсказаны, найдены, экспериментально воспроизведены) на основании законов первого уровня. На третьем — законы, выводимые из явлений, выведенных из законов второго уровня… Современная теоретическая физика, говорил этот кто-то, находится на пятом-шестом уровнях рефлексии.
Значит ли это, что современная теоретическая физика — сплошное фуфло?
То же с искусством. Чем больше ты им занимаешься (воспроизводишь или воспринимаешь, неважно), тем выше уровень рефлексии. Рефлексию можно гнать от себя, как Ахматова — стихи («Сегодня весь день ко мне шли стихи. Но я гнала их» — дневниковая запись), и тогда получится Пушкин, получится Моцарт — «гениальное просто». А можно поддаться ей, бессильно пасть в её объятия и кувыркаться в них, как дельфин в море пива… Как уже говорилось выше, «гению — легче». Противостоять искушениям — тоже.
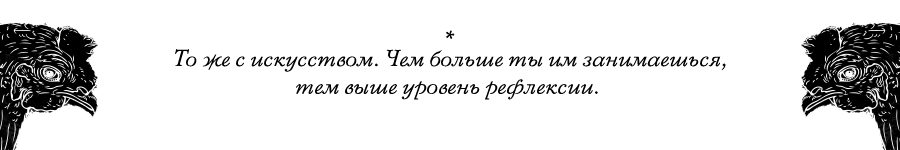
Разберёмся с вышеприведённым стихотворением про овощи. В чём заключена его невнятная прелесть? Для это сперва нужно знать, что такое «постмодернистская чувствительность». Справедливости ради, слово «постмодернистская» тут просто дань моде 70–80-х годов, когда было принято во всём усматривать «постмодернизм». Проще было бы сказать «чувствительность слабака» или «гамлетовская чувствительность», то есть чувствительность безнадёжного рефлексанта. Валентин Катаев называл это «мовизмом» — задолго до того, как слово «постмодернизм» вошло в сокровищницу гуманитарной мысли. Что же это за чувствительность такая?
Это, как объяснил Умберто Эко, когда вы не можете сказать возлюбленной «люблю тебя безумно», потому что так выражаются персонажи бульварных романов, а вам почему-то вдруг не хочется низводить ваши отношения до уровня бульварных романов. (Это, разумеется, иллюзия — что они будут низведены. Возникает она из-за той самой «гипертрофии вкуса», то есть в данном случае из-за повышенной чувствительности к языку.) Итак, вам кажется, что вы и ваши чувства чересчур высоки для тех низменных слов, которые приходят вам на ум. Но выразиться по-другому, как Пушкин с Моцартом, вы не умеете. И начинаете выкручиваться. Говорите: «Как говорят персонажи любовных романов, люблю тебя безумно». В результате, разумеется, получилось ещё хуже, но всё же с тонким (настолько тонким, что почти неуловимым) указанием на должную высоту. Вы, по крайней мере, обозначили, что стоите выше бульварных романов. То есть показав низкое (вслух назван лишь бульварный роман), указали на высокое (подразумеваемую высоту ваших чувств).
Это сложно, да. Но сложность — разновидность экспрессии. Существует правило: не умеешь делать хорошее искусство — делай сложное. И будь готов к тому, что Дуся с хорошим вкусом за такое объяснение в любви плюнет тебе в рожу. А вот Дусе вовсе без никакого оно может понравиться. «Ишь, заворачивает, едрить! В романах… да как говориться… и-ых, жызнь моя горемычная-а-а!..» (А поскольку именно Дуси второго типа задают тон на всех этажах массовизированного общества, сложное искусство пользуется у публики успехом наряду с откровенно идиотским. Если что сегодня и окатят презрением, так это искусство простое.)
В сложном произведении должны быть реминисценции — «указания на». Указать на красивое — значит приобщиться к красивому, более того (уровень рефлексии возрастает), сам жест указания на что-либо отправляет нас в ситуацию приобщения к красоте, на что бы мы ни указывали. (Это типа как слюноотделение у собаки Павлова начинается не от запаха или вида пищи, а всего лишь от света лампочки.) В стихотворении про овощи реминисцируется следующее хрестоматийное стихотворение Ирины Токмаковой:
Купите лук, зелёный лук,
Петрушку и морковку!
Купите нашу девочку,
Шалунью и плутовку!
Не нужен нам зелёный лук,
Петрушка и морковка.
Нужна нам только девочка,
Шалунья и плутовка!
Для краткости определим это стихотворение как гениальное. Что делает его таковым? Глубина мысли при простоте формы. Заметим, в стихотворении не говорится, как это обычно положено: «Ни за какие блага мира не отдадим нашу девочку». Наоборот, здесь собираются приобрести её вместо овощей, предлагают купить, как овощ!.. Это делает стихотворение странно волнующим, а смысл его — расширительным. Любовь (в данном случае чадолюбие) намеренно (как бы в шутку) низводится до обладания объектом любви, но разве не эта же самая подмена всерьёз случается с нами во взрослой жизни?..
Лирическое «мы» второго четверостишия отказывается от реальных благ (всякой там петрушки — или, как теперь говорят, «всей хурмы») во имя химеры обладания предметом любви. Это жертвенный акт, он добавляет стихотворению высоты. Но «шалунья и плутовка» наверняка ускользнёт от обладания (как минимум не будет отвечать возложенным на неё ожиданиям), безнадёжность мероприятия тоже прошита в смысловой структуре стихотворения и добавляет ему фатальности. Перед нами классический случай, когда произведение, которое выглядит просто — как произведение о чём-то конкретном (шутливый диалог между посетителями и хозяевами лавки зеленщика) оказывается произведением о бесконечно сложном устройстве жизни, как бы вобрав, впитав в себя эту сложность.
Это и имеется в виду, когда говорят «всё гениальное просто». На самом деле гениальное сложно, но оно не упивается этой сложностью, не настаивает на ней и не будет оскорблено, если этой сложности никто не заметит. Эта сложность не для репрезентации, не для восприятия кем-то. Она ничья, то есть общая. То есть — Богова.
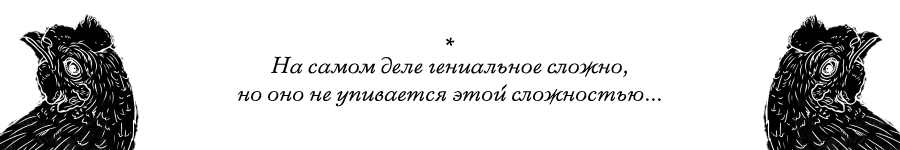
К смысловой структуре стихотворения Токмаковой отсылает нас стихотворение про картофель-мофель. Грубость и заземлённость, особо контрастирующие с токмаковской воздушной лёгкостью, возникают из-за того, что автор приглашает читателя ступить на территорию «постмодернистской чувствительности» — дескать, наши чувства столь сильны, что у нас нет слов для того, чтобы их выразить, поэтому от бессилия я буду говорить нарочито грубо и плохо («мовизм»). Использую рифму «кровь — любовь», например. Но поскольку она стыдная, и я это знаю, в отличие от тех, для кого собственная беспомощность не является проблемой, уберу её внутрь строчки, а любовь переделаю в «любовь-морковь». И так далее.
Заметим, что у девочки Наташи есть лук. Лук — это то, что коррелирует с понятием «слёзы». «Трудно, как это трудно — любить тебя не плакать!» (Лорка). Ну а кульминационный образ помидора, который не жаль отдать ради того, что есть у Наташи, — это, догадались? Большой, красный, брызжет переполняющим его соком… Сердце, конечно. Есть даже такой сорт помидоров — «Бычье сердце».
Перейдём теперь к настоящим стихам.
Они, как следует из подзаголовка статьи, будут представлены в настоящем исследовании творчеством Мирослава Маратовича Немирова. Если я возьму на себя смелость утверждать, что Мирослав Немиров — самый гениальный из современных поэтов, это будет воспринято вами как полемическое преувеличение, и вы сразу станете смотреть на меня, как солдат на вошь, то есть — сверху вниз. Поэтому я не скажу, я же хитрый. Скажу так: он один из наиболее интересных современных поэтов, не относящихся к шарлатанам, шарманщикам и продавцам сувениров. Если ты знаешь (понимаешь, чувствуешь) Мирослава Немирова, ты знаешь, понимаешь и чувствуешь современное искусство. Я бы сказал шире — значит, ты современный человек.
Быть современным человеком не хорошо и не плохо, но именно этим — не умением устанавливать на смартфон нужные обновления, а способностью воспринимать поэтические тексты Немирова — поверяется это качество. Это типа как качает тебя хип-хоп или не качает. Помните этот ролик: немножко толстоватые граждане в лицах и одеждах шестидесятых годов возмущаются своим посещением рок-концерта году эдак в 1978–79-м. Мы, говорят, тоже молодые люди, нам всего сорок лет, мы себя не считаем отжившими… Но мы не понимаем!..
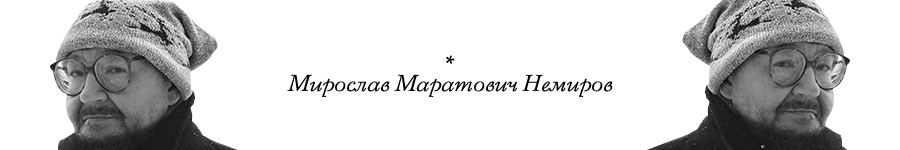
Не понимаете — всё в порядке. Это не такое важное дело, чтобы всем убиться, но непременно понять. Тьфу на него. Но если понимаете, значит… Значит, просто в вас есть ген огурца. Типа, как в клубнику подсаживают ген каракатицы, чтобы она не плесневела. Или не помню, кого… Неважно.
Рассказ о такой масштабной фигуре русской поэзии (а если предположить, что литература как вид человеческой деятельности не забудется ещё лет пятьдесят, о Немирове обязательно напишут учебники, но я сомневаюсь, что она не забудется), так вот. Рассказ о такой фигуре хочется начать по правилам — с биографии. (Хотя я начал его ещё больше по правилам — с методологической главы. Знаете, как в диссертациях?)
Мирослав Маратович родился где-то так в начале шестидесятых в городе Ростове-на-Дону. Русский. Папа — Марат Иваныч, если я правильно помню. Немировы чудаки, вечно называют своих детей чёрти как. Думаю, в этом сказывается их родовой талант — к чудинке. Талант к гениальности, к способности вытанцевать коленце, выкинуть номер. По-нашему, по-шукшински…
Инженеры-родители забросили растущий младонемировский организм в немыслимую Сибирь. Там, где-то в Тюменской области, в самом её сердце, в Тюмени, он очнулся для культурно-значимой жизни как нескладный рыжий поэт. Филфак, сизый дым, кажется, ещё есть беломорина в пачке. Портвейн… не знаю, какой портвейн пили в Тюмени. Всякая легендаризированная шелупонь — Бога Мяков, Артурка Струков, царствие небесное уже некоторым…Но — определённо! — был чай на полночных кухнях. Держали и камни в ладонях.
Немиров очень дорожит этой юностью, часто о ней рассказывает, были там у них все эти рок-группы: «Инструкция по Выживанию», «Гражданская Оборона» и прочее многозначительное старьё, милое сердцу безнадёжно расставшегося с молодостью человека. Это его право. Это его история. Но, по мне, по мнению бесстрастного историка мировой культуры, отдельно взятый Немиров хоть и оказал влияния на умы поменьше, чем «Гражданская Оборона» (так сложилось), но представляет в культурно-историческом смысле никак не меньше, чем вся она. Чтоб ещё не побольше.
Впоследствии, после некоторого количества лет, переживаний и странствий, осел ближе к столичному региону. В настоящее время проживает в г. Королёве Московской обл. Наш современник. Можно потрогать. Написать в фейсбук. Попросить встретиться. Время есть. Рассказывать потом внукам: «Вот как-то говорил я с Мирославом Немировым…».
Значит, что его характеризует? Во-первых, удивительное чутьё. Звериное чутьё на очертанья стиха, четырежды негритянское чувство ритма. Был такой художник — Анатолий Зверев. Я горжусь, что пил однажды в метро (прямо на платформе) с человеком, который знал его лично. Жаль, не помню, как того человека зовут, и он не помнит, как меня зовут, тоже. Этот Анатолий Зверев прославился тем, что на Фестивале молодёжи и студентов в пятьдесят каком-то году что-то там очень талантливо нарисовал шваброй с тряпкой, обмакнутой в ведро с краской. Не выпендрился, а нарисовал талантливо. Такое было чувство ритма у человека. Он ещё, пока не сильно бухал, любил так делать: становился с блокнотом на улице и рисовал каждого — каждого! — проходящего мимо него человека. Пусть три, четыре линии успеешь черкнуть — но именно те.
Анатолий Зверев мой кумир. Мой любимый художник. Не потому, что он лучше других. А потому, что он воплощает моё стремление к идеалу. Идеалу художника. В поэзии таким существом является Мирослав Немиров.
Я знаю про Бориса Рыжего и Дмитрия Воденникова. Ничего не имею против них. Но, как вам сказать… Художник не тот, кто нахерачил портрет так, что на него сели мухи отложить яйца — думали, настоящий. Художник тот, кто нарисовал портрет половой тряпкой — и вы поняли, что это портрет. Увидели. Согласимся, что достучаться до понимания — это дороже, чем умилить, «понравиться», выдавить слезу или «пробить на хи-хи».
Тут я с некоторым сожалением (и чувством вины) должен взять паузу и отложить знакомство с собственно стихами Немирова до после Нового года. Это вам читать быстро, а мне писать медленно. И за деньги.
Ну, разве только одно. Одно — и всё.
Слегка новогоднее:
Выходишь в ночь и возвращаешься в ночь —
Жизнь превращается в щель меж двух тьм.
До жизни такой ну никак не являясь охоч,
Смиряться однако, принужден со этим со всем.
Меж тем природа извергать давай вовсю молекул холода
(А говорят ещё, что будет голода!),
Поэтому, молекул краски и бумаги, в идее денег сплющенных, в кулак зажав пучок,
Пора, пора скорей отправиться на Фомичёвой улицу, ведь там имеется ларёк,
Молекул жидких где водяры чтоб в объёме полулитра покупать,
Чтоб сепарацию молекул жизни от уныния молекул ей осуществлять.
Обратите внимание на «меж тем» в начале второй строфы. Как оно скромно и просто обыгрывает (упрощает, смиряет и делает понятным) самодовольно-щеголеватое «меж двух тьм» во второй строке. Это как на картинах Матисса с рыбками — помните, из Магрибского цикла: вот две красных рыбки в тесном круглом аквариуме, а вот, на соседнем холсте, сидит марокканка на коврике и пара снятых красных тапок перед ней на полу? Рыбки перетекают в тапки, тапки — в рыбки, холсты соединяются, образуя водоворот, в который ухают со свистом пески пустынь и звонки трамваев за окном, сам вытягиваешься в трубочку и засасываешься… Что-то происходит такое с Вселенной. Эта нехитрая конструкция «рыбки — тапочки» завораживает так, будто разглядел что-то по-настоящему важное в механизмах мира, в его сокровенном устройстве. Будто «сделал открытие».
Жизнь — только миг между прошлым и будущим. Прошлое — тьма небытия, из которой, не спросясь, тянут в мир коек, вафельных и белых полотенец. Будущее — тянет в мир цинковых столов и отдаёт формалином. Вычурный, кривляющийся синтаксис сигнализирует о высоте момента, о парадности речи (не хухры-мухры — а поэзия; так простой человек в официальной ситуации по мере сил переходит на канцелярит). Тоническая строка — о её непритязательной и мудрой народности.
Немиров стремится превратить в поэзию разговорную речь, а не заменить разговорную речь поэзией. Но это мы уже вниз пошли, снижаем, надо было на рыбках заканчивать…
Часть II
Продолжим. В прошлый раз мы говорили о том, как устроена современная поэзия, сегодня поговорим о том, как устроена поэзия вообще. Любите ли вы поэзию? Надеюсь, что нет.
Человек, любящий поэзию, знает о ней всё, и ничего сверх того, что он о ней знает, его голова вместить не готова. Вы с ним говорите, тужитесь, размахиваете руками, а он смотрит на вас, как Будда, с бесконечной любовью ко всякой живой козявочке:
— А вот это знаешь?.. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне…
Это про таких Октавио Пас говорил, что поэзию нельзя объяснить, можно только понять. (Ну, типа, как идиота нельзя вылечить, можно лишь к нему приспособиться.) Но он был неправ, конечно же. Поэзию можно не понимать! Сколько угодно. И объяснять тоже можно. Более того, опыт подсказывает, что если человеку долго и упорно объяснять поэзию, в его душе проклёвывается что-то приближающееся к её пониманию. Так что красивые слова красивыми словами, а улитка, катящая свой навозный шарик на гору Фудзи, может не торопиться.
Перейдём к делу.
Среднестатистический человек, слышавший про Мирослава Немирова, знает о нём приблизительно следующее: это такой маргинальный стихоплёт с матюками (иногда даже не в рифму — одни матюки), довольно потешный, в общем, как группа «Синие носы», только в литературе. (Тут я, впрочем, слегка загнул: если среднестатистический человек знает и про Немирова, и про «Синие носы», это уже не среднестатистический человек, а высокоразвитый хипстер какой-то. Вроде не существующей в природе Варвары Туровой.)
Всё правильно. «Станция Речной вокзал», «Хочу Ротару я пердолить», «Где твои сиськи, Твигги» и всё такое. Но, перефразируя анекдот, который по частоте цитирования в моих скорбных трудах соперничает с рассказами о том, как я служил в армии, «это Страдивари для лохов барабаны делал; для настоящих пацанов он делал всё-таки скрипки». Для меня (а кто служил в армии, тот настоящий пацан) Немиров — автор непередаваемо прекрасных, нежных, умных и горьких лирических стихотворений.
Что такое лирическое стихотворение? Сейчас расскажу.
Русский литературовед и лингвист Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853–1920), более чем на полстолетия опередив французских и американских эстетиков и культурологов, дал следующее определение понятию лирики: «Лирика — это ритмизированные аффекты».

Что это означает? Ну вот, например: вы дико влюбились или бешено поругались, у вас дрожат руки, сердце бухает — качает чистый адреналин. Вам нужно успокоиться, прийти в себя. Для этого вы можете: а) ходить из угла в угол; б) закурить. И то, и другое — ритмообразующие действия, они укачивают ваш внутренний хаос, как мать — младенца. (Сунул в рот, затянулся, вынул; сунул, вынул.) Годится также делать уборку и мыть посуду. Однако, если аффект продолжительный, вам потребуются более трудоёмкие, пролонгированные ритмообразующие действия. Например, можно вышивать, рисовать, писать стихи или выпиливать лобзиком. Неслучайно многие из тех, кто стихов не пишет, пытались грешить этим в пору влюблённости.
Итак, хаос взыскует порядка. Его можно насаждать огнём и мечом, а можно наводить тихо, ласково. Сильное, порою нестерпимое чувство, охватившее вас при столкновении с невыразимой сложностью бытия, более нуждается в материнском укачивании, чем в отцовском подзатыльнике. Это обстоятельство и называется лирикой.
А что такое «стихотворение»? Ответ на этот вопрос я раз и навсегда получил на семинаре профессора-стиховеда (или лучше стиховеда-профессора?) Олега Ивановича Федотова: «Стихотворение — это текст, записанный в столбик».
Ну, то есть пространственно ритмизированный. Это не шутка, просто всевозможных противоречащих друг другу и взаимоисключающих признаков «стихотворения» накопилось столько, что единственным общим оказался этот один.
Начальным признаком ритмизации является удвоение. Скажем, если просто произнести слово «палка», — это будет проза. Если же его удвоить, подкрепив обращением: «О палка, палка!..» — получится лирическое высказывание. По типу «Ветер, ветер, ты могуч…». Некоторые исследователи считают, что принцип удвоения был подслушан людьми у птиц. Певчие птицы очень часто повторяют один и тот же пассаж. Собственно, это и позволяет нам называть издаваемые ими звуки «пением».
Обращение к объекту («о палка», «ветер, ты») также является важным элементом лирической поэзии. Для чего нужно обращение в речи? Актуализировать высказывание. А что такое поэзия и вообще искусство? Это актуализация. Скажем, ботинок на ноге — просто ботинок, а тот же ботинок в выставочном зале на постаменте — уже «произведение современного искусства». Потому что он актуализирован в качестве объекта созерцания и размышления. А что его актуализирует в таком качестве? А вот исключительно актуализация в таком качестве и актуализирует…
В поэзии обращение часто бывает скрытым. Например: «Выхожу один я на дорогу, подо мной кремнистый путь блестит» — с кем человек разговаривает? Вроде бы сам с собой. А зачем он сам себе говорит о том, что видит, если он и так это видит, без слов? Мотивом обращения является само по себе объективирование (отделение от себя) пейзажа, окружающей среды. Лирический герой стихотворения как бы обращается к дороге, звёздам и Богу, призывает их в свидетели своих размышлений, своего чувства.
Помните расхожую сказку, она есть у многих народов: некто узнаёт секрет, который ему невмочь хранить, и доверяет его вырытой в земле ямке, барабанчику, калебасу и так далее? Это называется «поделиться». Тебе тяжело нести своё чувство — поделись им с другим, станет легче. Можно, в крайнем случае, с калебасом или вот с кремнистым путём.
А с кем человек делится сокровенным, не ожидая непосредственной реакции, по самому большому счёту? С Богом. Таким образом, лирическое высказывание сродни молитве. Оно должно быть «обезоруженным» — максимально искренним и доверительным: чем меньше искренности, тем меньше поэзии.
Между тем стихотворный инструментарий (начиная с метра и рифмы) стал восприниматься современным человеком как средство отчуждения искренности: чем «технологичнее» стихотворение, тем больше в нём «ремесла» и меньше «провидения», «божьего дара», «случайности» — одним словом, «Настоящего». Отсюда возникает куча приёмов по уничтожению стихотворной технологии: мовизм, наивизм, отказ от метра в пользу силлабо-тоники, белый стих (отказ от рифмы), верлибр (отказ от всего, кроме столбика и «молитвенности»).
Короче говоря, современный поэт пишет «нескладно», чтобы не казалось, что он притворяется. Разумеется, он не специально это делает. В поэзии вообще мало что происходит «специально».
И последнее из предварительных замечаний — о красоте. Не нужно думать, что красоту увидеть легко. Дескать, если она есть, то и увидишь, а если нет, то нет. Это жесточайшее заблуждение. Всё равно что сказать «любить легко» или, там, «умереть легко». А вы-то пробовали хоть раз?!

Как часто мы проходим мимо красивого, не замечая его. Для того чтобы увидеть красоту, нам обычно необходимы особые обстоятельства: обалденный закат в полнеба в стиле обложек сборников «ромэнтик коллекшн», спрыснутые водой розы (типа это у них роса), наклеенные ресницы и так далее. Увидеть красоту не там, где она продаётся, а там, где она на кусте растёт, порой так же сложно, как решить математическую задачку на сообразительность. Но если мы не видим решения, это не значит, что его не видят другие.
Поехали. Поэт Мирослав Немиров:
Ах, какой сегодня день такой задумчивый!
Ах, какой он тусклый, матовый, мерцающий,
Ах, какой такой весь заторможенный и сумеречный,
Весь такой короче просто — настоящий.
Весь такой, короче, он серейший.
Лед сухой, и снег подтаявший, и небо
Пасмурное, хмурое такое, что, короче, речи
Длинные вести скорей неторопливые охота, чтобы
Ах, следить какую-нибудь этакую, например, науку,
Ах, вести беседы о любезности, к примеру, —
Так пойдем же, друг, пойдем скорей вперед по переулку!
Там отличнейший один, я знаю, есть магазиньеро!
Здесь мы видим всё, о чём говорили выше. «Ах» — приём актуализации высказывания и одновременно выражение аффектации перед красотой мира. Главное в стихотворении, конечно же, «образ дня». Если вы угадали, о каком дне идёт речь, то стихотворение ваше, а вы — его. Бывают дни такие — пасмурные, но не насупленные, а пасмурно-светлые, заторможенные, будто ты в нём ватой обложен, даже шевелиться не хочется, чтоб не растрясти этот блаженный покой, будто отпустила застарелая боль, и всё хорошо — просто так хорошо, потому что жив, без причины.
А может и совсем другой день имелся в виду, неважно, главное представить его себе — тот, который вам близок, который зацепит.
Красота мира превосходит предполагаемую красоту текста; текст не должен перевешивать то, о чём идёт речь (помните, в прошлый раз мы писали: художник не создаёт красоту, а показывает её), поэтому поэт сознательно отодвигает от нас подальше привычные эффекты стихотворной красивости, используя усложнённые неточные рифмы типа «серейший — речи» и «мерцающий — настоящий» и сверх необходимого усложняя синтаксис. Но делает он это с лукавством: ведь понятно же, что, угадав «сложную» рифму, мы испытываем больше удовольствия, чем когда воспринимаем простую. Мы «догадались», «сделали это сами». То же самое — когда удаётся расплести фразу, интонационно не совпадающую со стихотворной строкой. Стало быть, читателю или слушателю выказывается уважение, — его приглашают к сотворчеству, почти в соавторы.
Многократное «ах» выражает задыхание — «так хорошо, что дышать не могу», то есть так хорошо, что аж плохо. С этим надо что-то делать, и прямое обращение к другу в последней строфе есть разрешение аффекта, «развязка»: пошли в магазиньеро, взяли «Три семёрки» и попустило, можно жить дальше. Разрешение напряжения, выдох «после двух или трёх, а то четырёх задыханий» подчёркивается тем обстоятельством, что последняя рифма в стихотворении — уже точная: к «примеру — магазиньеро». То есть — всё-таки вырулил на ровную дорогу, задышал спокойно.
Идём дальше:
Джаз, сия музыка небрежная, нарядная,
Сия шикарная. Она подпрыгивает.
Она наяривает и раскачивается в радио,
Ведь это лето, и как будто так все обстоит,
Как будто здесь Америка! ее просперити!
Да впрочем, фиг ли там просперити, — как просто молодость!
И трам-парам (тут не придумал), трам-парам и те проспекты все,
Турам-парам (тут не придумал тоже) вот так тойсть, —
Ведь это лето. Да еще и девушки! и в летних сумерках
Их ноги золотистым светятся, и так себя они все проявляют
такие золотистые, загадочные, узкие
Как точно шпроты в масле, вот как прям они таинственно мерцают!
Лишние слоги в строках подобны лишним нотам в усложнённой джазовой музыкальной фразе (да простит мне Артём Владиславович Рондарев мою привычную ему дикость); ритм сохраняется, но усложняется — типа, «восемнадцать шестнадцатых» (на самом деле, поменьше, просто я считать не умею).
Дань традиционной поэтике — сравнение женских ног в колготках с маслянисто-золотыми шпротами, довольно точное (особенно когда лайкровые.) И надо ж было правильно заметить, что шпроты мерцают именно таинственно! Ведь это лакомство, праздничная еда советского человека, их появление на столе, как правило, предвещает многие прочие удовольствия: выпивку, шутки-смех, фильм «Белое солнце пустыни», хоккей с чехами и завтрашнее похмелье. Поэтому шпроты мерцают — многообещающе.

А дань авангардной поэтике — это «турам-парам» и «тут не придумал». Во-первых, опять жест доверия читателю (типа, «ну, вы понимаете», «мы оба понимаем», «ты же можешь вообразить, дружище, что там дальше было, какой хоккей»), а во-вторых, если помните, в прошлый раз мы говорили, что современный художник может даже не показать на красоту, но лишь указать на неё, «обозначить направление к ней». Так живописец может предельно обобщить форму — росчерком, цветовым пятном, не прорисовывая её, доверив детали зрительской фантазии.
Часто мы думаем, что ненатуралистическая живопись «коверкает» природную форму, тогда как на самом деле смысл такого обобщения формы в другом — в попытке обнажить её внутреннюю структуру, её «устройство», суть, увидеть предмет таким, каким он был «за миг до творения», то есть в Божьем замысле, в эскизе. Это уже не просто доверие зрительской фантазии, а подпрыгивающее «турам-парам» — не шутовское кривляние. Если бы я не боялся пошлости, сказал бы, что это камлание шамана, устанавливающего связь между миром вещей и миром духов (а я и не боюсь).
Вот они, нижний и верхний мир, соединяются в его танце, причём, обратите внимание, не высокое опускается к низкому, а наоборот, низкое воспаряет:
И только-то, Господи, — грязь,
Грязь, да лужи, но вот ведь именно это —
Весна! И парят
Прохожие в небе безветренном.
И растаявший снег
Порождает такие туманы,
Что является город как спящим и снящимся сам себе точно во сне,
Почему и является весь пребывающим точно на дне
Неба. И люди в нем этак колышутся, точно водоросли. Или, желаете ежели, — ангелы.
Так сказать, «картина Шагала». Что Шагал — это хорошо, мы знаем, нам это уже внушили. А если без Шагала, если не на картине, а вот прямо на улице — самому увидеть? Не слабо?
Весна, машина любви.
Дурацкая, сверкающая, срочная точно пожарная.
И вот, весна, она лавиной валит, —
И хрен пожалуешься.
Весна, которая — цвета фольги.
Которая цвета, если желаете, ртути.
Ага. Угу. Ура! гип-гип!
Апрель. Утро.
Апелляция к эксплицитному (как сказал бы Артём Владиславович) читателю в форме «если желаете» сквозит скрытой мольбой: «Люди! Ну хоть как-нибудь, ну посмотрите же! Видите ли вы то же, что вижу я?». Сердце лопается от переполняющей его красоты — «держите меня семеро».
Но семеро держать не спешат. Им недосуг, некогда, они как-нибудь потом. А он постоянно под напряжением, зовёт их, дёргает, путается в ногах, мешает. Как тот в компании, кто хочет ещё выпить, когда всем остальным достаточно. (Художник Константин Сутягин рассказывал: «Иду как-то раз к электричке по переходу над путями и вижу: такое небо!.. такое небо! А никто не смотрит, все обходят меня — и дальше, будто и не происходит ничего особенного. Обидно».)
С одной стороны, это и правильно: художник редкая птица, он и должен быть одинок. Гордый и бледный… подняв воротник плаща… Либо — умалиться, научиться довольствуется малым, компанией таких же аутсайдеров в прокуренном «клубе» и чтеньем друг другу под рюмочку.

(В кафе «Билингва» на полном серьёзе проводился вечер под названием «Встреча русских писателей с водкой». У главного входа стоял тазик с редиской. Её можно было брать из тазика и рассовывать по карманам на закусь. Первую дозу водки вновь прибывающим русским писателям наливали бесплатно. У бокового входа беседовали о чём-то Лев Рубинштейн и Людмила Улицкая. Когда концентрация русских писателей в атмосфере превысила чаемые санитарные нормы, они куда-то исчезли. Москва, 2004-й примерно год.)
Было бы очень романтично утверждать, что фиглярничающий и матерящийся Немиров возник как защитная или протестная реакция на всё это безобразие. Но нет. Скорее сработало то обстоятельство, что матерная лексика — это эмоциональный и семантический «прокол пространства» — способ перехода в иное измерение, где не действуют привычные языковые ограничения. Кто умеет говорить матом, тот знает, как трудно бывает перевести матерное высказывание на обычный язык. Нередко адекватный перевод вообще невозможен. Мат позволяет сказать «сразу многое», а иногда вообще всё. А ведь именно к этому и стремится поэзия.
Кроме того, по характеру Мирослав Маратович человек деятельный и властный. Он всю жизнь что-то организовывает: какие-то рок-группы, творческие содружества… (Скажем, Всеволод Емелин, за честь открытия которого борются больше людей, чем городов — за право считаться родиной Гомера, своей окончательной славой обязан именно продюсерскому проекту Немирова «Осумасшедшившие безумцы». Я присутствовал на том собрании, где Емелин сорвал свою первую в жизни овацию, это было первое выступление «безумцев». Сам Немиров на нём читал Пушкина и любви народной не снискал.)
Вот характерное признание в эфире передачи «Школа злословия»:
— Да, я хочу власти. Но не над всем миром, нафиг он мне нужен. Я с ним и не справлюсь, да и неинтересно… Я же человек искусства — над искусством… У нас центров силы должны быть сотни, тысячи, а у нас два!
Тут он, конечно, лукавит: «тысяча центров силы» — это всё равно что ни одного, но обратите внимание, как риторика похожа на риторику нашего Президента, который тоже говорит, что «должно быть множество центров силы», но американцы-то понимают, что он имеет в виду…
В общем, бледнеть и запираться в башне слоновой кости не в мирослав-маратычевой натуре. Он скорей в морду даст, ну или будет третировать непокорных матом, руганью и скоморошеством, до некоторой степени оправдывающим ругань и мат. И тут вот что получается: башня слоновой кости рано или поздно станет мейнстримом, потому что башня слоновой кости — это «ромэнтик». А Немиров не станет никогда, как не стали Бурлюк и Хлебников.
Маяковский стал, потому что ему большевики помогли, хозяева дискурса. (А могли и не помочь, как не помогли Андрею Платонову.) В своё время Немиров до некоторой степени правильно рассудил, что нынешние хозяева дискурса — это либералы, и попытался установить с ними контакты: с кириенковцами, с Гельманом… Но дело в том, что либералам, хоть они с виду и весёлые ребята, авангардисты не нужны. Им тоже подавай сурьёз, свой «ромэнтик коллекшн». Про ужасы тридцать седьмого года и трагическую смерть лесбиянки от непонимания. А Немиров же не сможет проникнуться этой насекомой проблематикой, если и напишет что, получится сплошной стёб. А за стёбные стулья и деньги стёбные. Бесконечная мудрость и красота мира — это несерьёзная заявка на грант.
Немирова, несмотря на его «шлейф», могло бы реактулизировать Министерство культуры, которому всё равно, что реактулизировать: левиафон — так левиафон, хер на мосту — так хер на мосту, — что консультанты скажут. Для этого нужен человек, вхожий в кабинеты министерства культуры, но есть ли такой среди поклонников таланта Немирова, я не ведаю. Пока же всё получается примерно таким образом (дети и беременные женщины отошли от экрана):
Как же так выходит, Ольга Юрьевна?
Что ж меня вы с премией-то кинули?
Это уж дурного получается образчик юмора!
Поступили вы со мною, Ольга Юрьевна, как просто пидары!
Прочитал я, Ольга Юрьевна, в газете сообщение, —
По итогам года премии вы присудили
В «Знамени» своём за лучшее в нём за год бывшее стихотворение.
Не нашел я средь премированных, Ольга Юрьевна, своей фамильи!
Это уж выходит, Ольга Юрьевна, пощёчина!
Вы меня, выходит, лишь в насмешку напечатали!
А на самом деле, получается, не уважаете ну ни на крошечку!
За говно считаете, а не писателя!
Не хотелось б, Ольга Юрьевна, вам говорить обидное,
Но пример, однако, классиков нас учит,
Как на подлости такие реагировать.
Что писал хотя б Катулл в подобном случае?
— Дрянь продажная, — писал издательнице он, — зараза блять ебучая,
Падла кривобокая, пизда противная,
Хуй ли петришь ты, — писал, — в поэзии, говно вонючее! —
Так поэту изъясняться свойственно, когда обидели его.
Так что, Ольга Юрьевна, питая всё же к вам почтение,
Ограничусь вышесказанным пока умеренным.
В случае ж указанных явлений повторения,
Предыдущую строфу я развернуть принужден буду до аж полного стихотворения.
Гай Валерий Катулл (ок. 87 — 54 гг. до Р. Х.) — знаменитый латинский поэт, современник и враг Цезаря, тонкий лирик, известен более всего своими ругательными посланиями («Ameana, puella defututa…»), написанными языком площадной брани. Первым сообразил сочетать «нежную лирику» и похабщину в одном физическом тулове. Во всяком случае, первым на этом прославился. Автор мема «ненавидеть и любить»:
И ненавижу её и люблю. «Почему же?» — ты спросишь.
Сам не знаю, но чувствую так — и томлюсь.
Кацусика Хокусай (1760–1849) — традиционный японский художник, классик японского и мирового изобразительного искусства. Оказал (посредством парижских Всемирных выставок) значительное влияние на пути развития европейского искусства (импрессионисты, ар-нуво, модерн). Получилось так, что художник хороший, а влияние оказал довольно паскудное, потому что ничего хорошего впоследствии из импрессионизма и модерна не вышло. Хотя, конечно, дышали.
Пригов, Дмитрий Александрович — трудно сказать, кто. Творческий интеллигент широкого профиля. Сочинил такое дикое количество стихотворений, что среди них оказалось немало запоминающихся. Под конец жизни прославился тем, что сидел в шкафу и кричал кикиморой.
Немиров, Мирослав Маратович — герой настоящих заметок, более известен как автор лубочной поэзии. Один из последних больших русских поэтов эпохи «модерн» (от англ. modernity — «современность»; не путать с направлением в искусстве рубежа XIX — XX вв.), творчество которых характеризуется проектностью и чувством сопричастности Большому времени.

