«Все лишь бредни – шерри-бренди, – Ангел мой».

ДЕЛО ОБЕРНУЛОСЬ НЕ ПО ТРАФАРЕТУ
Бенедикт Сарнов
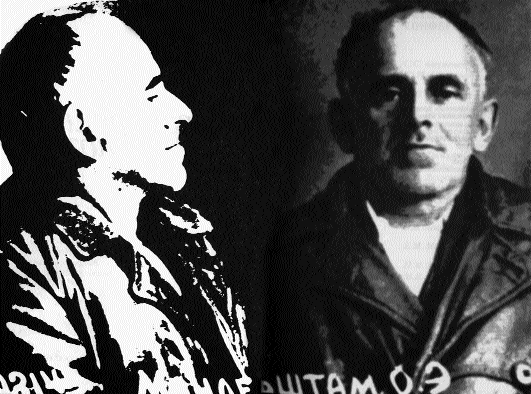
Предыдущий отрывок я оборвал на том, что одна подробность письма Бухарина к Сталину пробудила у диктатора новый интерес к делу Мандельштама и к его судьбе. Этой подробностью, обратившей на себя особое внимание Сталина, был постскриптум бухаринского письма. Точнее – упоминание в этом постскриптуме имени Пастернака.
Узнав, что «небожитель», как он однажды его назвал, «в полном умопомрачении от ареста Мандельштама», Сталин позвонил Пастернаку. Тот телефонный разговор теперь уже стал легендой. Не только в том смысле, что оброс множеством слухов, самых разнообразных пересказов, версий и интерпретаций, а в самом прямом, буквальном. Как всякая легенда, он стал источником не только мемуарных, исторических и квазиисторических, но и чисто художественных откликов и толкований.
Эти художественные интерпретации, быть может, тоже заслуживают внимательного и даже подробного разбора. Но для нашей темы важна прежде всего фактическая сторона дела. Тут тоже существует множество версий – разных пересказов этого знаменитого телефонного разговора. И хотя источником каждого такого пересказа был рассказ самого Пастернака, отличаются они друг от друга порой разительно.
Чтобы приблизиться к наиболее достоверному варианту, приведу самые известные из них, чтобы попытаться затем отвеять всю шелуху, привнесенную в изложение этого разговора пристрастностью каждого его перелагателя.
Итак:
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ
«Борису Пастернаку позвонил Поскребышев и сказал:
– Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин!
И, действительно, трубку взял Сталин и сказал:
– Недавно арестован поэт Мандельштам. Что вы можете сказать о нем, товарищ Пастернак?
Борис, очевидно, сильно перепугался и ответил:
– Я очень мало его знаю! Он был акмеистом, а я придерживаюсь другого литературного направления! Так что ничего о Мандельштаме сказать не могу!
– А я могу сказать, что вы очень плохой товарищ, товарищ Пастернак! – сказал Сталин и положил трубку».
(Виталий Шенталинский. Рабы свободы.
В литературных архивах КГБ. М., 1995. С. 239)
Этот текст взят из следственного дела Мандельштама. Точнее – из свидетельских показаний драматурга Иосифа Прута, записанных при реабилитации Мандельштама.
Версия наименее достоверная из всех известных (именно поэтому я начал с нее), отражающая скорее ходившие тогда в писательской среде слухи и сплетни, нежели рассказ самого Пастернака. Излагая ее, И. Прут сослался на то, что слышал этот рассказ от Семена Кирсанова. От кого услышал его тот – неизвестно. Так что очевидную его недостоверность можно списать на «испорченный телефон».
Но о том, что Б.Л. «перепугался», не сумел защитить товарища, просто-напросто струсил, – говорят многие. В том числе и узнавшие о содержании разговора, как все они уверяют, из первых рук.
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ
«Это случилось незадолго до мандельштамовской ссылки, когда небольшая горстка друзей поэта собралась вместе, чтобы обсудить, как можно ему помочь.
Борис Пастернак запаздывал. Его могли задержать разные обстоятельства, и мы не особенно беспокоились.
Наконец раздался звонок в дверь; Евгений Хазин, хозяин квартиры, где мы собрались, пошел открывать и вернулся с Пастернаком. Борис выглядел огорченным, взволнованным и нервным. “Со мной произошло нечто ужасное! – сказал он. – Ужасное! И я вел себя как трус!”
А затем Пастернак рассказал нам вот что. Сегодня утром, когда он сидел и работал, зазвонил телефон, и ему пришлось подойти. Незнакомый голос поинтересовался – кто у телефона, не товарищ ли Пастернак. Когда Борис ответил утвердительно, голос сообщил: “Подождите, сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин!”
“Я был в шоке!” – рассказывал Пастернак. Через некоторое время голос Сталина произнес с характерным грузинским акцентом:
– Это товарищ Пастернак?
– Да, товарищ Сталин.
– Какое ваше мнение, как нам поступить с Осипом Мандельштамом? Что нам с ним делать?..
Наверное, не многие из нас могли бы очутиться лицом к лицу с диктатором, который вызывал страх у целой страны. Борис Пастернак не был бунтарем, как Мандельштам. Он был мечтателем, и он струсил. Грубое слово. Но так и было.
Вместо того, чтобы просить за Мандельштама, Пастернак промычал что-то вроде: “Вам лучше знать, товарищ Сталин”. В сталинском ответе звучала насмешка: “Это все, что вы можете сказать? Когда наши друзья попадали в беду, мы лучше знали, как сражаться за них!” После этого Сталин бросил трубку».
(Галина фон Мекк. Такими я их помню… //
Сохрани мою речь 3/2. М, 2002. С. 101, 102)
В этой версии появляется уже новый, чрезвычайно важный мотив. Оказывается, Сталин звонил Пастернаку не просто для того, чтобы узнать его мнение о Мандельштаме. Он хотел посоветоваться с ним насчет того, как ему поступить с проштрафившимся поэтом, что с ним делать.
Свои мемуары, из которых взят э
тот фрагмент, Галина Николаевна фон Мекк (кстати сказать, внучка той самой Надежды фон Мекк, которая покровительствовала П.И. Чайковскому) писала уже в эмиграции, в Англии, где оказалась, пройдя через все прелести сталинского ГУЛАГа. Вспоминая даже то, что слышала (поверим ей) собственными ушами и из уст самого Бориса Леонидовича, она, естественно, не могла быть стенографически точна, особенно в передаче прямой речи. И реплика Сталина в ее передаче («Как нам поступить с Осипом Мандельштамом? Что нам с ним делать?»), и ответная реплика Пастернака («Вам лучше знать, товарищ Сталин») – более чем сомнительны.
И все-таки мотив этот (хотя бы даже и как один из ходивших тогда слухов) заслуживает внимания. Тем более, что он возникает и в некоторых других версиях.
ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ
« – Вы знаете, что Боря однажды отказался поддержать Мандельштама? Вам это известно или нет?
– Я об этом слышал дважды. И очень бы хотел, чтобы вы сказали, как вам это известно.
– Известно очень просто. Мне Боря сам рассказывал. Дело было в том, что Сталин позвонил ему на квартиру. Боря сперва не верил и говорит: “Будет дурака ломать”. Наконец, его там всерьез одернули, и он стал слушать. Сталин его спрашивает: “Какого вы мнения о Мандельштаме?” И Боря струсил, начал объяснять, что он его плохо знает и т.д., хотя был в курсе, что Мандельштам арестован. Сталин страшно обозлился: “Мы так товарищей наших нэ защищали”, – и бросил трубку…
– А вы думаете, что, если бы он твердо защитил, то…
– Видите, какая ситуация… Это было очень рискованно. Но чем было рисковать? Вот когда я сидел в тюрьме (в 1934 г.), меня спрашивали про Оболдуева, и я отвечал, что Оболдуев, – мне очень жаль, что я о нем говорил в этом заведении, – замечательный поэт…
– Скажите, то, что вы расск
азали мне о Пастернаке, вы знаете с его слов или со слов Шкловского?..
– Это он сам рассказывал Марии Павловне… Струсил. Напустил в штаны. А нельзя было. Сталин был такой человек… Конечно, жестокости невероятной, но все-таки… Вот, представляете себе мизансцену. С чего бы Сталину звонить? Ведь могла быть такая штука: ему говорят: “Мы Мандельштама взяли”. Он спрашивает: “А стоило?” – “Да за него ни одна душа заступиться не может”. – “Ну, как же это “не может”? – говорит Сталин. – Дайте мне Пастернака”. Звонит ему и вдруг нарывается…»
(С.П. Бобров. Из магнитофонной записи
его беседы с В.Д. Дувакиным // Осип и Надежда
Мандельштамы. М., 2002. С. 201, 202)
Оставим на совести рассказчика все его оценки, в том числе и прямо непристойные («Напустил в штаны» и т.п.). Не будем придираться и к бросающимся в глаза противоречиям его рассказа: сперва он говорит, что сам услышал всё прямо и непосредственно «от Бори», а потом, что «Боря» рассказывал, как было дело, не ему, а Марии Павловне…
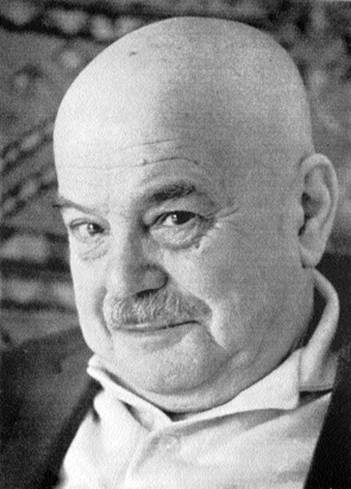
В.Б. Шкловский: «Он переписывался со Сталиным, перезванивался со Сталиным – и не защитил Мандельштама».
Мария Павловна – это жена Сергея Павловича, переводчица М.П. Богословская. Ее рассказ тоже сохранился в магнитофонных записях В.Д. Дувакина, и в свое время (чуть позже) мы к нему вернемся.
А сейчас отметим главное из того, что мы услышали от С.П. Боброва.
Весь этот его рассказ, конечно, недостоверен хотя бы уже потому, что точка зрения рассказчика сильно искажена явным его недоброжелательством по отношению к бывшему другу. Но при всем при том, похоже, что Сергей Павлович искренне верил, что, если бы Борис Леонидович в том разговоре повел себя смелее (как он сам, когда его спросили про Оболдуева), судьба Мандельштама могла бы повернуться иначе.
Ту же мысль – с большей уверенностью и совсем уже впрямую, без обиняков, – высказал в беседе с тем же Дувакиным В.Б. Шкловский.
ВЕРСИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
« – Он переписывался со Сталиным, перезванивался со Сталиным – и не защитил Мандельштама. Вы знаете эту историю?
– Нет. Не защитил?
– Да. Сталин позвонил Пастернаку, спросил: “Что говорят об аресте Мандельштама?” Это мне рассказывал сам Пастернак. Тот смутился и сказал: “Иосиф Виссарионович, раз вы мне позвонили, то давайте говорить об истории, о поэзии”. – “Я спрашиваю, что говорят об аресте Мандельштама”. Он что-то еще сказал. Тогда Сталин произнес: “Если бы у меня арестовали товарища, я бы лез на стенку”. Пастернак ответил: “Иосиф Виссарионович, если вы ко мне звоните об этом, очевидно, я уже лазил на стенку”. На это Сталин ему сказал: “Я думал, что вы – великий поэт, а вы – великий фальсификатор”, – и повесил трубку… Мне рассказывал Пастернак – и плакал.
– Значит, он просто растерялся.
– Растерялся. Конечно. Он м
ог бы попросить: “Отдайте мне этого, этого человека”. Если б знал. Тот бы отдал… А тот растерялся. Вот такая, понимаете ли, история…»
(Там же. С. 48, 49)
Уверенность Виктора Борисовича, что если бы Пастернак попросил Сталина «отдать ему этого человека», тот бы отдал, конечно, наивна. Прямую речь собеседников Виктор Борисович тоже передает весьма приблизительно. (Кроме реплики Сталина «Я бы на стенку лез», она нам еще встретится.) Но из этой версии мы впервые узнаем, что в ответ на упрек вождя Пастернак все-таки не смолчал, слегка даже огрызнулся («Если вы ко мне звоните об этом, очевидно, я уже лазил на стенку»).
Тот факт, что Пастернак в некотором смысле действительно «лазил на стенку», признают даже явно недоброжелательно относящиеся к нему свидетели.
ВЕРСИЯ ПЯТАЯ
«Кого он недолюбливал, так это Мандельштама. И все же, несмотря на свою нелюбовь к Мандельштаму, не кто другой, как Пастернак, решился похлопотать за него перед высшей властью. Обратиться к самому Сталину он не решался. Немыслимо! Стихи, написанные Мандельштамом о Сталине, были невозможно, немыслимо резки и грубы… Тем не менее он обратился к Бухарину с просьбой заступиться за Мандельштама, не спасти его, а хотя бы смягчить его участь.
Бухарин спросил:
– А что он себе напозволял?
– В том-то и дело, что я ничего не знаю. Говорят, написал какие-то антисоветские стихи. Он арестован.
– Постараюсь узнать. И обещаю сделать возможное, вернее, что смогу сделать.
Через несколько дней я обедал у Пастернаков. Помнится, в четвертом часу пополудни раздался длительный телефонный звонок. Вызывали “товарища Пастернака”. Какой-то молодой мужской голос, не поздоровавшись, произнес:
– С вами будет говорить товарищ Сталин.
– Что за чепуха! Не может быть! Не говорите вздору!
Молодой человек: Повторяю: с вами будет говорить товарищ Сталин.
– Не дурите! Не разыгрывайте меня!
Молодой человек: Даю телефонный номер. Набирайте!
Пастернак, побледнев, стал набирать номер.
Сталин: Говорит Сталин. Вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?
– Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами – об этом я всегда мечтал.
Сталин: Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне незачем.
На этом разговор оборвался.
Конечно, я слышал только то, что говорил Пастернак, сказанное Сталиным до меня не доходило. Но его слова тут же передал мне Борис Леонидович. И сгоряча поведал обо всем, что было ему известно. И немедленно ринулся к названному ему телефону, чтобы уверить Сталина в том, что Мандельштам и впрямь никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусости “отрекся от никогда не существовавшей дружбы”. Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Телефон не ответил».
(Н. Вильмонт. О Борисе Пастернаке.
Воспоминания и мысли. М., 1989)

Н.Н. Вильям-Вильмонт: «Я слышал только то, что говорил Пастернак, сказанное Сталиным до меня не доходило…»
Автор этой записи – Николай Николаевич Вильмонт – был в то время одним из самых близких к Пастернаку людей. К тому же, как явствует из его рассказа, он сам, собственными ушами, слышал всё, что говорил Сталину Пастернак, то есть добрую половину этого разговора. Вторую же половину Борис Леонидович пересказал ему сразу, так сказать, по горячим следам происшедшего на его глазах события. Казалось бы, уж куда достовернее?
Однако тень явного недоброжелательства к «ближайшему другу», я бы даже сказал – с оттенком какого-то тайного злорадства – явно ощущается и в этом пересказе. Не так просты, видно, были эти отношения. То ли потом между друзьями что-то произошло, и это «что-то» наложило свою печать на поздние воспоминания Вильмонта о событиях полувековой давности. То ли оттенок некоторого сальеризма и в золотую пору их дружбы окрашивал отношение Николая Николаевича к Борису Леонидовичу. Не будем копаться в этом, доискиваясь до тайных причин этого очевидно недоброжелательного пересказа. Отметим только, что полностью доверять ему нельзя, о чем особенно красноречиво нам говорит
ВЕРСИЯ ШЕСТАЯ
«К нам иногда заходил О. Мандельштам, Боря признавал его высокий уровень как поэта. Но он мне не нравился. Он держал себя петухом, наскакивал на Борю, критиковал его стихи и все время читал свои. Бывал он у нас редко. Я не могла выносить его тона по отношению к Боре, он с ним разговаривал, как профессор с учеником, был заносчив, подчас говорил ему резкости. Расхождения были не только политического характера, но и поэтического. В конце концов Боря согласился со мной, что поведение Мандельштама неприятно, но всегда отдавал должное его мастерству.
Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Н. С. Тихонов, много читали наизусть Борины стихи, и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать одни за другими свои стихи. У меня создалось впечатление, о чем я потом сказала Боре, что Мандельштам плохо знает его творчество. Он был, как избалованная красавица, – самолюбив и ревнив к чужим успехам. Дружба наша не состоялась, и он почти перестал у нас бывать.
Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован. Боря тотчас же кинулся к Бухарину, который был редактором “Известий”, возмущенно сказал ему, что не понимает, как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму… В квартире, оставленной Боре и его брату родителями, мы занимали две комнаты, в остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре. Я лежала больная воспалением легких. Как-то вбежала соседка и сообщила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: “Здравствуйте, Иосиф Виссарионович”, – меня бросило в жар. Я слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным, как со мной. С первых же слов я поняла, что разговор идет о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлен его арестом и хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признает за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно, освободить его. А вообще он хотел бы повстречаться с ним, т. е. со Сталиным, и поговорить с ним о более серьезных вещах – о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно.
Он вошел ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Пастернак так взволнован арестом Мандельштама… Я спросила Борю, что ответил Сталин на предложение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, что Сталин сказал, что поговорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: “Вызовите меня к себе”. Но вызов этот никогда не состоялся. Через несколько часов вся Москва знала о разговоре Пастернака со Сталиным. В Союзе писателей всё перевернулось. До этого, когда мы приходили в ресторан обедать, перед нами никто не раскрывал дверей, никто не подавал пальто – одевались сами. Когда же мы появились там после этого разговора, швейцар распахнул перед нами двери и побежал нас раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпались в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обед расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила».
(З.Н. Пастернак.
Воспоминания. М., 1993)

А.А. Ахматова: «Борис сказал все, что надлежало,
и с достаточным мужеством».
Эту версию тоже нельзя рассматривать как вполне достоверную. Но она представляет для нас свой, особый интерес. Не только потому, что принадлежит жене поэта, то есть самому близкому к нему человеку, но и потому, что бросает свет на обстоятельства, которые во всех других изложениях описываемого события остались «за кадром».
Взять хотя бы рассказ Зинаиды Николаевны о том, как переменилось после сталинского звонка отношение к Пастернакам в Союзе писателей. Эта маленькая деталь не только красноречиво рисует «их нравы». Она интересна прежде всего тем, что звонок Сталина Пастернаку, несмотря на резкость тона, упреки в трусости и явное нежелание вождя беседовать с поэтом на посторонние темы, в Союзе писателей был воспринят как знак высочайшего благоволения.
Но гораздо важнее в приведенном отрывке рассказ З.Н. об отношениях Пастернака с Мандельштамом. Рассказ этот безусловно правдив, и из него с несомненностью следует, что Пастернак не лукавил, говоря Сталину, что никакой дружбы с Мандельштамом у него не было. Дружбы и в самом деле не было, были даже расхождения – «не только политического характера, но и эстетического».
То обстоятельство, что в рассказе жены Пастернак выглядит лучше, чем в рассказе Н. Вильмонта, большого значения не имеет. Так же, как и то, что Сталин, если верить Вильмонту, был с Пастернаком груб, а если верить Зинаиде Николаевне – напротив, любезен. Поверим, что Сталин и в самом деле не бросил трубку, а сказал, что с удовольствием поговорил бы с поэтом и на разные отвлеченные темы, но просто не знает, как это сделать. Суть дела от этого не меняется.
При всем различии этих двух версий в главном они очень похожи. Похожи тем, что и в рассказе «ближайшего друга», и в воспоминаниях жены поэта особенно ясно виден «угол отклонения» от реальности. Виден так ясно, может быть, как раз потому, что отклоняются они не просто в разные, а в противоположные стороны. Этот «угол отклонения», конечно, в той или иной мере присутствует в любых воспоминаниях, любых свидетельских показаниях. Но иногда он совсем незаметен, а в иных случаях – к сожалению, весьма редких – близок к нулевой отметке.
Как раз вот такой случай являет нам
ВЕРСИЯ СЕДЬМАЯ
«Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело… Потом звонил Пастернаку. Остальное слишком известно…
Бухарин в конце своего письма к Сталину написал: “И Пастернак тоже волнуется”. Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. “Если бы мой друг-поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти”. Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. “Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?” – “Писательские организации не занимаются этим с 1927 года”. – “Но ведь он ваш друг?” Пастернак замялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: “Но ведь он же мастер, мастер?” Пастернак ответил: “Это не имеет значения”.
Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы.
… “Почему мы всё говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить”. – “О чем?” – “О жизни и смерти”. Сталин повесил трубку».
(Анна Ахматова.
Листки из дневника)
Под этими ахматовскими «листками» стоит дата: 8 июля 1963 года. Трудно сказать, на чем основывалась уверенность Анны Андреевны в том, что «остальное слишком известно». Но то ли из-за этой своей уверенности, то ли из-за вообще свойственной ей склонности к лаконизму, разговор Б.Л. со Сталиным она изложила предельно скупо. Я думаю, гораздо скупее, чем могла бы.
Об этом свидетельствует изложение того же разговора Надеждой Яковлевной, во многом совпадающее с изложением Анны Андреевны буквально.
ВЕРСИЯ ВОСЬМАЯ
«… Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгели: очевидно, всем Пастернак передавал это в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.
Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: “Про коммунальную кончил?” Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами.
Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или “ко мне” и не хлопотал о Мандельштаме: “Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь…”
Ответ Пастернака: “Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали…” Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова “друг”, желая уточнить характер отношений с О.М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: “Но ведь он же мастер, мастер?” Пастернак ответил: “Да дело же не в этом…” “А в чем же?” – спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. “О чем?” – “О жизни и смерти”, – ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал с ним снова соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел…
Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой».
(Надежда Мандельштам. Воспоминания)

О.В. Ивинская: «Вождь говорил на «ты», грубовато, по-свойски…»
Как и в коротком пересказе Ахматовой, в изложении Надежды Яковлевны разговор начинается со слов Сталина, что с Мандельштамом все будет хорошо, все распоряжения на этот счет уже отданы. Стало быть, Пастернаку он звонил совсем не для того, чтобы советоваться с ним, как поступить с опальным поэтом: казнить или помиловать. Таким образом, версия Шкловского насчет того, что если бы у Пастернака хватило смелости сказать Сталину: «Отдайте мне этого человека!», участь Мандельштама была бы иной, окончательно отпадает. Когда Сталин звонил Пастернаку, судьба Мандельштама (на тот момент) им была уже решена.
Рассказ Надежды Яковлевны – самый полный и, я думаю, самый достоверный из всех имеющихся.
Интересно, конечно, было бы узнать и ту реплику Бориса Леонидовича, которую она не захотела процитировать. Может быть, это та, которую приводит Вильмонт? («Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним».) Но, учитывая слова Н.Я. о самопоглощенности и эгоцентризме Бориса Леонидовича, скорее – та, которую приводит Ахматова: «Что мы всё о Мандельштаме и Мандельштаме…»
Гадать, впрочем, тут не приходится, поскольку в одном из еще не рассмотренных нами пересказов того разговора эта реплика как будто приведена. Я имею в виду сделанную В.Д. Дувакиным магнитофонную запись рассказа Марии Павловны Богословской (жены Сергея Боброва), к которой я обещал вернуться. Итак
ВЕРСИЯ ДЕВЯТАЯ
« – Я тогда только что приехала из ссылки в Москву, добиваться, чтобы Сергею Павловичу чем-нибудь…
– Помогли.
– Да. Или напечатали его… Потому что его после ссылки в Москву не пустили, и он 4 года жил в Александрове. И вот, я приехала добиваться, чтобы что-нибудь из его вещей напечатали… Одним словом, я пошла к Пастернаку. Я шла и все время про себя только и думала: “Не дай мне Б-г сразу попасть под чары Пастернака”. Пастернак обладал необыкновенным даром обольщать людей, засмотритесь на него – и готово: вы уже проглочены. А мне важно было поговорить о Сергее Павловиче. И я начала разговор о том, что Сергей Павлович сделал и, может, ему возможно как-то помочь… Пастернак сразу нахмурился и сказал, что у него никаких возможностей нет. “Вы знаете о моем разговоре со Сталиным?” – “Нет, я ничего не слышала, ничего не знаю”. Вот тут он мне его и рассказал. Сказал еще: “Мне… неудобно было говорить, у меня были гости…”
– А вы даже не знали, что Мандельштам арестован?
– Может быть, знала, а вот о том, что шел разговор, чтобы его вернуть или еще что-то, могла не знать. Я не в курсе была, потому что была так поглощена нашими собственными бедами. Так вот, Пастернак мне сказал, что ему звонил Сталин. В тот день у него было много гостей. Он взял трубку. – “С вами будет говорить Иосиф Виссарионович”. Он ответил: “Ах, оставьте эти шутки”. – И положил трубку. Кажется, чуть ли не до трех раз так было: он брал трубку и не верил, что с ним будет говорить Сталин. Потом, наконец, ему строгим голосом сказали и…
– Пришлось поверить.
– Да. Сталин его спросил, как он относится к Мандельштаму, что он может сказать о Мандельштаме? “И вот, вероятно, это большая искренность и честность поэта, – сказал мне Пастернак, – я не могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое. Вот я и ответил, что ничего о Мандельштаме сказать не могу”.
– То есть Пастернак не сказал: “Это большой поэт?”
– Нет, он ничего не сказал. Так он мне говорил, что не сказал ничего. И оправдывал себя тем, что не может кривить душой. А почему этот разговор зашел? Потому что я ему показывала какие-то стихи Сергея Павловича. Он сказал, что это не те стихи Боброва, которые он любит. И кроме того… он вообще бессилен что-нибудь сделать… “Сами понимаете, после этого разговора мой престиж сейчас невысок“».
(Осип и Надежда Мандельштамы. М., 2002. С. 203, 204)
Если верить этому рассказу (а ему, я думаю, верить можно), реплика Пастернака, которую Н.Я. не захотела цитировать, стало быть, звучала так: «Я не могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое».
Конечно, реплика эта была, как говорит Н.Я., «очень в стиле Пастернака», а стиль, как мы знаем, это – человек. Но при всем при этом Н.Я, я думаю, была не совсем права, заметив, что эта смешноватая реплика «никакого отношения к делу не имела».
О том, что «к делу» она имела самое прямое и непосредственное отношение, нам довольно ясно дает понять
ВЕРСИЯ ДЕСЯТАЯ
«Этот разговор стал впоследствии знаменитым, и ходило и до сих пор ходит много разных версий о нем. Я могу лишь воспроизвести эту историю в том виде, как она мне запомнилась после того как Пастернак мне ее рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него, его жены и сына, не было никого. Он снял трубку, и голос сказал ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак предположил, что это какая-то идиотская шутка, и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова, и голос в трубке как-то убедил его, что звонок – настоящий. Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидовичем Пастернаком; Пастернак ответил утвердительно. Сталин спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам читал стихотворный пасквиль о нем, о Сталине? Пастернак ответил, что ему представляется неважным, присутствовал он или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с ней, но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказывая мне этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные метафизические рассуждения о космических поворотных пунктах в истории, о которых он хотел поговорить со Сталиным – такая беседа должна была явиться событием огромного исторического значения. Я вполне могу себе представить, как он в таком духе говорил и со Сталиным. Так или иначе, Сталин снова спросил его, присутствовал ли он или нет при том, как Мандельштам читал свои стихи. Пастернак снова ответил, что самое главное – это то, что ему надо обязательно встретиться со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя откладывать и что от нее зависит всё, так как они должны поговорить о самых главных вопросах – о жизни и смерти. “Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить”, – сказал Сталин и положил трубку. Пастернак попытался перезвонить Сталину, но, совершенно естественно, не смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему, видно, глубокое мученье: в том виде, в каком она изложена здесь, он рассказывал ее мне, по крайней мере, дважды».
(Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями. В кн.: Исайя Берлин. История свободы. Россия. М., 2001. С. 456, 457)
Итак, по меньшей мере дважды рассказывал Борис Леонидович эту историю сэру Исайе. И дважды в этом его изложении Сталин спросил у него, читал ли ему (или при нем) Мандельштам свое крамольное стихотворение. И дважды он сумел избежать ответа.
Я и раньше – зная только версии, приведенные мною перед этой, – не сомневался, что на протяжении всего этого мучительного для него разговора со Сталиным Пастернака точила одна мысль: знает ли Сталин, что Мандельштам читал ему свое самоубийственное стихотворение? Неужели – знает? А может быть, все-таки не знает?
И вот из рассказа Исайи Берлина мы узнаем, что вопрос этот дважды прямо ему задавался. Даже если предположить, что на самом деле этого не было (ведь рассказывал он сэру Исайе о своем разговоре со Сталиным в 45-м, то есть двенадцать лет спустя), такая «ошибка памяти» только подтверждает, что так и не заданный (пусть даже не заданный) этот сталинский вопрос на протяжении всего их разговора висел над ним, как дамоклов меч.
Отметим это на будущее и перейдем к следующей версии. Строго говоря, вполне можно было бы ограничиться и приведенными десятью: их более чем достаточно, чтобы составить довольно полное и отчетливое представление о том судьбоносном разговоре. Но я не могу обойти еще одну, одиннадцатую, потому что в ней содержится одна, хоть и не меняющая сути дела, но весьма примечательная подробность, не отмеченная ни в одной из предыдущих десяти.
Итак
ВЕРСИЯ ОДИННАДЦАТАЯ
«Когда в коммунальной квартире номер девять четырнадцатого дома Волхонки раздался звонок из Кремля: “С вами будет говорить товарищ Сталин”, – Б.Л. едва не онемел; он был крайне неподготовлен к такому разговору. Но в трубке звучал “его” голос – голос Сталина. Вождь говорил на “ты”, грубовато, по-свойски: “Скажи-ка, что говорят в ваших литературных кругах об аресте Мандельштама?”
Б.Л., по свойственной ему привычке не сразу подходить к теме конкретно, а расплываться сначала в философских размышлениях, ответил: “Вы знаете, ничего не говорят, потому что есть ли у нас литературные круги, и кругов-то литературных нет, никто ничего не говорит, потому что все не знают, что сказать, боятся”. И т.п.
Длительное молчание в трубке, и затем: “Ну хорошо, а теперь скажи мне, какого ты сам мнения о Мандельштаме? Каково твое отношение к нему как к поэту?”
И тут Б.Л. с захлебами, свойственными ему, сам начал говорить о том, что они с Мандельштамом поэты совершенно различных направлений: “Конечно, он очень большой поэт, но у нас нет никаких точек соприкосновения – мы ломаем стих, а он академической школы”, и довольно долго распространялся по этому поводу. А Сталин никак его не поощрял, никакими ни восклицаниями, ни междометиями, ничем. Тогда Б.Л. замолчал. И Сталин сказал насмешливо: “Ну вот, ты и не сумел защитить товарища”, и повесил трубку.
Б.Л. сказал мне, что в этот момент у него просто дух замер; так унизительно повешена трубка; и действительно он оказался не товарищем, и разговор вышел не такой, как полагалось бы».
(Ольга Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком.
В плену времени. М., 1992. С. 80, 81)
По содержанию разговора эта версия к тому, что мы уже знаем, решительно ничего не добавляет. Но есть в ней, как я уже говорил, одна маленькая деталь, существенно меняющая если не смысл, то, во всяком случае, тон, стилистическую окраску всего этого разговора.
Оказывается, вождь обращался к Пастернаку на ТЫ!
Не верить Ольге Всеволодовне невозможно: она ведь слышала и записала этот рассказ со слов самого Бориса Леонидовича. Трудно представить, чтобы эта подробность была плодом собственной ее фантазии.
А подробность – впечатляющая.
Впечатляющая настолько, что один литературный критик (Владимир Соловьев), опираясь именно на эту подробность, слепил (сам он, понятно, обозначает это другим, более респектабельным термином: «смоделировал») еще одну, свою версию этого легендарного диалога.
Для полноты картины приведу и ее.
ВЕРСИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ
«Вот что мы получим, поменяв местоимение в наиболее достоверной записи этого телефонного разговора:
– Говорит Сталин. Ты что, хлопочешь за своего друга Мандельштама?
– Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами – об этом я всегда мечтал.
– Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. А вести с тобой посторонние разговоры мне незачем.
И бросил трубку».
(Владимир Соловьев. Призрак, кусающий себе локти.
М., 1992. С. 126)
Сконструировав эту свою «наиболее достоверную» версию, автор «реконструкции» совсем уж пренебрежительно роняет:
«Тиран развлекался – всё вышло, как было им задумано. Один поэт был уничтожен, другой унижен, раздавлен.
Какая там крепкая четверка!»
(Там же)
Последняя реплика метит в Надежду Яковлевну, которая говорит, что они с Анной Андреевной, обсудив между собой поведение Бориса Леонидовича, дружно пришли к выводу, что он вел себя «на крепкую четверку».
Небрежную «реконструкцию» Соловьева можно было бы и не приводить. Но я счел нужным привести ее не только, как выразился ранее, для полноты картины, а еще и потому, что она бросает некий свет на все предыдущие версии.
Ведь все они – при всей их разноголосице – в конечном счете исходят из того, что «тиран развлекался». Все, в общем, не сомневаются, что едва ли не главная цель этого сталинского телефонного звонка состояла в том, чтобы унизить «небожителя». И все (даже Надежда Яковлевна с Анной Андреевной) выставляют бедному Борису Леонидовичу свою оценку за поведение.
Вильмонт ставит ему тройку, Надежда Яковлевна с Ахматовой – крепкую четверку, Бобров – двойку, Соловьев – чуть ли даже не единицу.
Оценивать поведение Пастернака в его разговоре со Сталиным по пятибалльной системе, а особенно глядя на это из другой исторической эпохи – занятие не только глупое, но и довольно бесстыдное. Но раз уж (с легкой руки Анны Андреевны и Надежды Яковлевны) мы вступили на этот сомнительный путь, осмелюсь высказать и свое мнение.
На мой взгляд, Борис Леонидович провел тот нелегкий разговор на пять с плюсом. Как я уже говорил, все ответы Пастернака, вся логика его поведения диктовалась одной-единственной сверлящей его мыслью: «Знает или не знает Сталин о сакраментальном стихотворении?» И главное: «Знает ли он, что я знаю! Что автор мне его читал!»
Кстати, именно этот довод приводила и Ахматова, объясняя, почему они «с Надей» сочли, что «Борис отвечал на крепкую четверку»:

З.Н. Пастернак: «Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно…»
«… рассказала мне, что в “Les Lettres Fracaises” (эту весть Сосинские привезли) напечатано – со слов Триоле – будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталиным – когда Сталин звонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама.
– Это совершенная ложь, – сказала Анна Андреевна. – И я и Надя решили, что Борис отвечал на крепкую четверку. Борис сказал все, что надлежало, и с достаточным мужеством. (Он мне тогда же пересказал от слова до слова.) Не на 5, а на 4 только потому, что был связан: он ведь знал те стихи, но не знал, известны ли они Сталину? Не хочет ли Сталин его самого проверить, знает ли он?»
(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой.
Т. 2. М., 1997. С. 421, 422.)
Снизив свою оценку поведения Бориса Леонидовича с пятерки до четверки, Анна Андреевна и Надежда Яковлевна не учли, я думаю, одного весьма важного обстоятельства.
Сознаться (или хотя бы невольно дать понять), что он, Пастернак, тоже знает те стихи, было опасно вдвойне. Ведь такое признание грозило бедой не только (и даже не столько) ему, сколько Осипу Эмильевичу, которого, признавшись, он бы «заложил», засвидетельствовав, что тот не только сочинил «клеветнические» стихи, но и распространял их.
Вот он и ушел «в глухую несознанку».
Пастернак говорил со Сталиным так, как, собственно, и надлежит говорить со следователем, старающимся выпытать у подследственного всю подноготную.
***
Да, конечно, ведя с Пастернаком этот свой следовательский разговор-допрос, тиран развлекался. Он играл с поэтом, как кошка с мышью. Это была любимая его игра.
«После постановления ЦК о ликвидации РАППа, в апреле 1932 года, в этой ликвидированной организации произошел внутренний раскол. Одни выступили в поддержку постановления, – среди них были Фадеев и Либединский, другие были не согласны с постановлением, и, может быть, главным из них был Леопольд Авербах. До этих пор Фадеева, Либединского и Авербаха связывала тесная дружба. Однако споры и разногласия зашли так далеко, что, желая оставаться до конца принципиальными, Фадеев и Либединский решили порвать с Авербахом личные отношения… И порвали. Весть о разрыве дошла до Горького, последнее время благоволившего к Авербаху, и вызвала его недовольство, а через Горького и до Ягоды…
В один из выходных дней Фадеев получил приглашение на дачу к Ягоде, находившуюся неподалеку от станции Внуково по Киевской железной дороге. Фадеев поначалу долго отказывался, но за ним была прислана машина, и пришлось ехать. Ему дали понять, что, возможно, на даче будет товарищ Сталин. И, действительно, приехав на дачу, Фадеев увидел Сталина. С Фадеевым он даже не поздоровался. Сталин смотрел молча, чуть усмехаясь в усы. И когда собравшихся уже пригласили к столу, Сталин подошел к Фадееву и вдруг сказал:
– Ну зачем же ссориться старым друзьям, Фадеев? Надо мириться…
Авербах стоял напротив (дело происходило на садовой дорожке), возле него – Ягода.
– А ну, протяните друг другу руки, – сказал Сталин и стал подталкивать Фадеева к Авербаху. Ягода поддержал его:
– Помиритесь, друзья! – и легонько подтолкнул Авербаха.
Фадеев стоял молча. Опустив руки, но Авербах шагнул к нему, протянув руку.
– Пожмите руки! – уже твердо проговорил Сталин, и рукопожатие состоялось. – А теперь поцелуйтесь, ну-ну, поцелуйтесь, – настаивал Сталин.
Они поцеловались. И тогда Сталин, махнув рукой, брезгливо проговорил:
– Слабый ты человек, Фадеев…»
(Лидия Либединская. «Зеленая лампа» и многое
другое. М., 2000. С. 326, 327)

А.А. Фадеев. «В один из выходных дней он получил приглашение на дачу к Ягоде. Ему дали понять, что, возможно, на даче будет товарищ Сталин…»
Об этом любимом развлечении вождя существует множество таких рассказов. Я не удержался от того, чтобы привести хотя бы один из них. А выбрал именно этот, во-первых, как наиболее достоверный (Либединская отмечает, что слышала его от Фадеева не однажды и потому хорошо запомнила), но главным образом потому, что весь этот эпизод, а в особенности обращенная к Фадееву брезгливая реплика Сталина («Слабый ты человек, Фадеев…») с поразительной точностью повторяет «игру» вождя с Пастернаком.
Да, конечно, он хотел его унизить. И не только повторяющейся в разных вариантах брезгливой репликой («Мы, старые большевики, не так защищали наших друзей…», «Если бы мой друг, поэт, попал в беду, я бы на стенку лез…»), но и тем, какой выбрал момент, чтобы бросить трубку: прямо дал понять, что для разговоров с Пастернаком на волнующие того темы («… предрассудки вековые, и гроба тайны роковые», и прочие глупости, о которых болтали Онегин с Ленским) у него нет ни времени, ни желания.
Но не только же для того, чтобы «поиграть» в свою любимую игру, звонил он Пастернаку!
Так для чего же?
Какая была тут у него главная, тайная цель?
Надежда Яковлевна объясняет это так:
«Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню – никаких секретов из этого разговора делать не надо… Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются…
Цель чуда была достигнута – внимание перенеслось с жертвы на милостивца, с ссыльного на чудотворца».
(Надежда Мандельштам. Воспоминания)
При всей убедительности этого соображения оно все-таки не объясняет самую природу чуда, причину его. Почему Сталин проявил такое неожиданное мягкосердечие? Почему велел «изолировать, но сохранить»? Зачем звонил Пастернаку? Этот вопрос не мог обойти ни один из биографов Мандельштама. И каждый из них пытался как-то на него ответить.
«Стихи о Сталине дошли по назначению: преступление против высшей власти было налицо и, по обычаям тех лет, заслуживало смертной казни или, по меньшей мере, отправки в исправительный трудовой лагерь “на перековку”. Сталин же отправил Мандельштама всего лишь на три года в ссылку, да еще в сопровождении жены. Как объяснить эту необычную милость?»
Это размышляет автор самой известной на Западе монографии о Мандельштаме Никита Струве. И предлагает такую разгадку необъяснимого сталинского решения.
«1934-й, пожалуй, наименее кровавый из сталинских годов. После страшного кровопускания коллективизации власть дает стране передышку: начинается выработка “самой демократической конституции в мире”, на мази Первый съезд Союза писателей, готовится мировой антифашистский конгресс в Париже. Сурово наказать поэта еврейского происхождения за стихи, которые нельзя будет обнародовать, настолько они убийственны, – это могло помешать спокойному проведению всех этих мероприятий».
(Никита Струве.
Осип Мандельштам. Лондон, 1988. С. 85)
Объяснение не слишком убедительное. А ссылка на еврейское происхождение поэта и вовсе комична. (Предположение, что еврейское происхождение Мандельштама могло затруднить Сталину расправу над поэтом, рождено, надо полагать, распространенным в среде русской эмиграции представлением, согласно которому советская власть воспринималась как власть откровенно и безусловно еврейская.)
Да и предположение, будто расправа с крамольным поэтом могла помешать Сталину провести съезд писателей в Москве и антифашистский конгресс в Париже, тоже достаточно наивна. Нет, теми, кто жил тогда не в Париже (или Лондоне), а в Советском Союзе, поразительно мягкий приговор Мандельштаму не зря был воспринят как истинное чудо. Н.Я. Мандельштам, как я уже говорил, полагает, что чудо это объяснялось заступничеством Бухарина и – в немалой степени – дошедшей до Сталина реакцией Пастернака. По ее свидетельству, примерно так же думала на этот счет и А.А. Ахматова.
«Хлопоты и шумок, поднятый вокруг первого ареста О. М., какую-то роль, очевидно, сыграли, потому что дело обернулось не по трафарету. Так по крайней мере думает А.А. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция – легкий шум, шепоток – тоже представляет непривычное, удивительное явление».
(Надежда Мандельштам. Воспоминания)
Дело действительно обернулось не по трафарету. Но я думаю, что оно приняло столь неожиданный оборот совсем по другой причине.
P.S.
Когда Мандельштам прочитал Пастернаку своё стихотворение о Сталине, услышал в ответ: “То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, к поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому”. А Надежде Мандельштам, жене поэта, Пастернак позднее сказал: “Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!”.
ссылка
«В русской революции евреи так же пламенно-беспочвенны, как и русская интеллигенция, в сущности заменившая в их сознании русский народ. И, подобно русской интеллигенции, в ходе русской революции еврейство горит голубым огнем. Да еще, в отличие от русской интеллигенции, успевают евреи услышать, что они, с их склонностью к организационным, а не кулачно-мускульным усилиям, — никакие не герои, не мученики, не жертвы революции, а — маклеры ее. После чего опыт можно считать законченным.
То-то они и не живут долго, эти евреи-революционеры. Самоубийц много».
Аннинский Л. С двух сторон // «22». — М.—Иерусалим. — № 122.
«Марксизм импонировал мальчику Мандельштаму своей «архитектурностью» — как противоположность народнической «расплывчатости мироощущения»; однако под влиянием семьи Синани (врач и душеприказчик Глеба Успенского Борис Наумович Синани, чей рано умерший сын был товарищем Мандельштама по Тенишевскому) будущий поэт сближается с эсерами. Весной 1907 года он произносит пламенную речь перед рабочими квартала по случаю событий, касавшихся Государственной думы; в самом конце года, уже окончив Тенишевское, он будет слушать на собрании русских политических эмигрантов в Париже речь Савинкова, поражая присутствующих своей впечатлительностью».
Аверинцев С. С., Поэты, М., «Языки русской литературы», 1996 г., с. 193-199.
