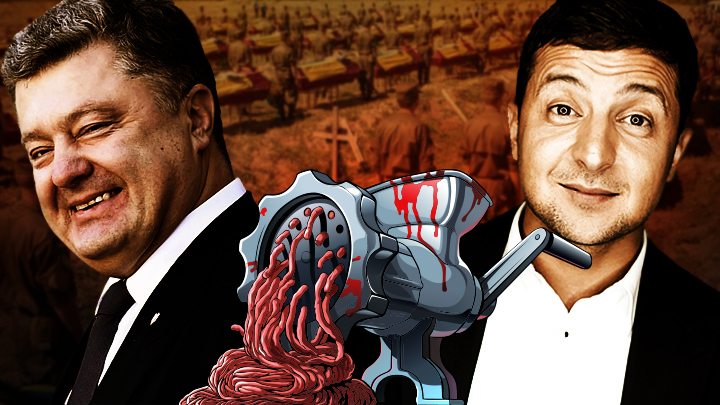Александр Кабанов — «украина моя пуста, даже некого снять с креста»»

Александр Кабанов
1968, Херсон
ГСВГ — Группа советских войск в Германии
В 1992 году окончил журфак Киевского гос. университета им. Т. Г. Шевченко.
Живёт и работает в Киеве.
Главный редактор журнала культурного сопротивления «ШО»,
один из создателей украинского слэма.
Лауреат Григорьевской поэтической премии
От Редакции ФИНБАНА
Саша всегда что-то главное понимал. И, задавая и задавая себе вопросы, правильные ответы находил раньше многих.
***
Наш президент распят на шоколадном кресте:
82% какао, спирт, ванилин, орехи,
вечность – в дорожной карте, смерть – в путевом листе,
только радиоволны любят свои помехи.
Будто бы все вокруг – сон, преходящий в спам:
ржут карусельные лошади без педалей,
вежливые гармошки прячутся по кустам,
топчутся по костям — клавишам от роялей.
Здесь, на ветру трещат в круглом костре углы,
здесь, у квадратной воблы — вся чешуя истерта,
и, несмотря на ад, снятся ему котлы,
плач и зубовный скрежет аэропорта,
голос, рингтон, подобный иерихонской трубе,
только один вопрос, снимающий все вопросы:
«Петя, сынку, ну что — помогли тебе,
ляхи твои, твоя немчура и твои пиндосы?»
Наша война еще нагуливает аппетит,
мимо креста маршируют преданые комбаты,
но, Петр поднимает голову и победно хрипит:
«82% какао, спирт, ванилин, цукаты…»
2015
В 2022-ом Саше б впору было всего-то поменять в строке Петю на Вову… : «Вова, сынку, ну что — помогли тебе, ляхи твои, твоя немчура и твои пиндосы?»
Повторимся. Саша давно что-то главное понимал и правильные ответы находил.
ИСХОД УКРАИНЦЕВ
– Кто это там? Архангел в сержантских погонах –
протягивает тебе иерихонскую трубочку:
подуй в нее, проверься на алкоголь,
а лучше сыграй: “Ой на гор╗ та й женц╗ жнуть…”,
а мы подхватим, подпоем тебе, возрадуемся.
Дрожат травинки на спидометрах газона,
возрадуемся, как мертвые под землей
и как живые под небом: “Пришел наш час!”
Запряжем своих боевых слонов, возрадуемся,
ибо только украинцы способны увидеть
и приручить древних боевых слонов,
ну еще и цыгане, если зажмурятся в полнолуние,
но и таких цыган осталось совсем немного.
Э-ге-гей! Не забудьте запастись в дорогу
самыми лучшими русскими книгами:
будем жечь их на стоянках, толочь в пепел,
а этот пепел – тщательно прессовать в бисер
и метать его перед нашими свиньями –
пусть набирают вес, пусть Достоевский,
граф Толстой, Пушкин, Салтыков-Щедрин,
Мандельштам, Бабель, Булгаков и прочие жиды,
а также примкнувшие к ним: Чехов, Есенин,
Платонов и особенно Анна Ахметова –
сгорая, превратятся в самое вкусное сало,
в пуленепробиваемое и непотопляемое сало,
в пожароупорное и богобоязненное сало…
Мы заткнем этим салом кацапские рты,
газопроводы и задницы коммунистов,
черные дыры в нашей вселенной заткнем,
и отчалим в дальний путь: Э-ге-гей!, волоча
за собой пшеничные поля, вишневые сады,
хаты, крытые черепицей и соломой, наши храмы,
реки, исполненные жаждой – никуда не впадать,
наши гетманские плащи, наше прошлое и
поддельное настоящее, переходя все границы…
– Кто это там? – спросят чужие люди из тумана.
– Это мы, украинцы, – протрубят в ответ слоны.
– Это мы, украинцы, – захрюкают в ответ свиньи.
– Это мы, украинцы, – выкрикнет парочка москвичей,
которых мы взяли с собой, чтобы никогда, никогда
не забывать о том, что мы – украинцы.
2010
А потом эти свои ответы начисто забывал и искренне удивлялся реакции Матрицы:
Письмо Саши Кабанова:
«Дорогие друзья, в связи с тем, что администрация фейсбука заблокировала меня на неделю за стихотворение «ИСХОД УКРАИНЦЕВ», приношу свои извинения тем, кому я, увы, сейчас не могу ответить. Ни в своем блоге, ни в личке. Особо благодарен тем стукачам, которые пожаловались на меня гауляйтеру фейсбука. Чечевичная похлебка ждет вас. Я не подозревал, что здесь, в фейсбуке может возродиться сталинская конспирология, что авторов могут блокировать не за явную публицистику, посты с призывами там, к чему-нибудь, за сиськи-масиськи…. Стихи-то в чем виноваты? А с другой стороны — это благо для меня, манна подземная — будучи отлучен от фейсбука — займусь своим непосредственным делом: написанием новых текстов и прекрасными встречами вживую. Эй, стукачьё, спасибо огромное!»
Кабанов».
2017
цинк
… всё удивлялся и удивлялся. То одному, то другому… Удивлялся даже и пытался протестовать:
***
Я, как счетчик, щёлкаю в пустыне:
свет горит, ещё течёт вода,
слава богу – бог на карантине,
воскресенье, пятница, среда…
Вам хотелось что-нибудь простого,
образ смерти, вне библейских жал,
пробил час, ко мне рванулось слово,
я его над пропастью сдержал.
И теперь в саду не вздрогнет ветка,
и живых детей – на пересчёт,
а собак – тигровая креветка
в марсианских лапах унесёт.
Прижимаясь ужасом к испугу,
что нам делать, нации рабов:
ночью что-то всовывать друг другу,
пить горилку и травить попов.
Как неизлечима эта мука,
что-то в нас пороблено, прости,
даже если выйти из фейсбука –
в божье царство больше не войти.
Будет лето самой высшей меры,
и увидит стадо соросят,
как по всей стране пенсионеры
на шнурах обугленных висят.
Свет горит, но воду вновь отключат,
ты приляг, братишка, на кровать
и смотри, как в телешоу учат
нас на карантине умирать.
25.04.2020
… и всё ближе подходил к страшному:
***
Я из киева не бежал, я из харькова не летел,
конституцию уважал, проституцию расхотел,
мне приснился трамвай шестой –
черный, мертвый, как сухостой,
он лежал на пути во львов, как буханка чужих хлебов.
Над виском прогудит пчела: из грядущего – во вчера,
в скотобойню ведут вола наши ляхи и немчура,
видишь рощу бейсбольных бит, а под ней – пирамиду тел,
я под марьинкой был убит и в одессе с тобой сгорел.
О героях своих скорбя, украинцы ушли в себя,
и на кладбищах смотрят вниз — им не нужен такой безвиз,
будет время для гопака, будет родина, а пока —
украина моя пуста, даже некого снять с креста.
24.06.2018
На своей «Русско—украинской войне» Саша всегда считал себя украинцем. Оказалось — «считал до трёх» ))

ссылка на интервью: https://naspravdi.info/analitika/poet-kabanov-okazalos-esli-ty-ne-lyubish-banderu-ty-shatun-i-ruka-kremlya-tysyachi-lyudey
И в этой войне с совершенно инфернальными силами Саша неизбежно проиграл. Как он сам и признался в 2020-ом:
***
Посмотри на меня, я тебе говорю — повтори,
этот голос внутри, бестолковый, как гугл-переводчик,
и все тянут на пасху своих мертвецов рыбари,
я всегда утверждал, что источник родился из точек.
Но когда я увидел тебя, я забыл о тебе,
чтоб спасти от себя, от ребенка, от дома и пьянства,
и т.д и т.п., и т.д., и т.п., и т.д.,
я — большая страна, только мне не хватает пространства.
Рабский воздух в баллонах, которым дышать западло,
я тебе говорил о любви, как гагарин о боге,
проиграло добро, но опять — победило не зло,
победило село, дорогие мои бандерлоги.
Посмотри на закат, как любовью меня обожгло,
циркулярной пилой мне подрезало крылья и ноги,
проиграло добро, но опять — победило не зло,
победило село, дорогие мои бандерлоги.
21.06.2020
В обреченной на ультранационализм-ультранацизм Украине, Саша со своим русскоязычием и публикациями в Москве неизбежно «сел на шпагат». Вот только своим среди чужих не стал, а чужим среди своих — априори.
К.А.
Снилось мне, что я умру,
умер я и мне приснилось:
кто-то плачет на ветру,
чье-то сердце притомилось.
Кто-то спутал берега,
как прогнившие мотузки:
изучай язык врага —
научись молчать по-русски.
Взрывов пыльные стога,
всходит солнце через силу:
изучай язык врага,
изучил — копай могилу.
Я учил, не возражал,
ибо сам из этой хунты,
вот чечен – вострит кинжал,
вот бурят – сымает унты.
Иловайская дуга,
память с видом на руину:
жил — на языке врага,
умирал — за Украину.
2017
жил — на языке врага…
Странно слышать от человека, который считает этот язык созданным в Киеве, т.е. своим:
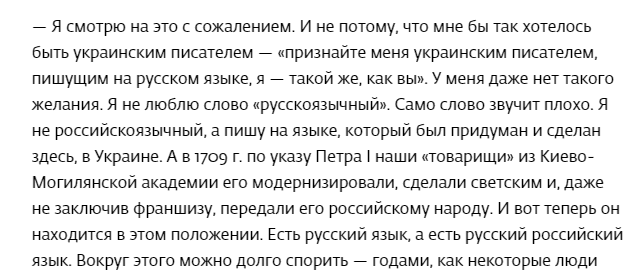
Ссылка на публикацию — https://ukraina.ru/20160403/1016059723.html
Поймет ли Саша, что думает и пишет он не на языке врага — большой вопрос. Возможно — непомерный даже для его огромного дара. Дара бесспорного. Впрочем, и не такие глыбы в этом вопросе тонули…
Лев ЛОСЕВ
1937, Ленинград — 2009, Хановер, Нью-Гэмпшир, США
***
«Понимаю – ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», – говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти берёзы,
эти охи по части могил», –
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актёрскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда – страна негодяев:
и клозета приличного нет», –
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.
1977

Александр Кабанов. Стихи разных лет
***
Отгремели русские глаголы,
стихли украинские дожди,
лужи в этикетках Кока-Колы,
перебрался в Минск Салман Рушди.
Мы опять в осаде и опале,
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.
И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.
Потому, что хамское, блатное —
оказалось ближе и родней,
потому, что мы совсем другое
называли Родиной своей.
Не лепо ли ны бяшет, братие, начаты старыми словесы:
У первого украинского дракона были усы,
роскошные серебристые усы из загадочного металла,
говорили, что это – сплав сала и кровяной колбасы,
будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.
Первого украинского дракона звали Тарас,
весь в чешуе и шипах по самую синюю морду,
эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас,
фамилия Тиранозавренко – опять входит в моду.
Представьте себе просторы ничейной страны,
звериные нравы, гнилой бессловесный морок,
и вот, из драконьего чрева показались слоны,
пританцовывая и трубя «Семь-сорок».
А вслед за слонами, поддатые люди гурьбой,
в татуировках, похожих на вышиванки,
читаем драконью библию: «Вначале был мордобой…
…запорожцы – это первые панки…»
Через абзац: «Когда священный дракон издох,
и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка,
и укрыл его украинский народный мох,
заискрилась лагерная «колючка»,
в поминальный венок вплелась поебень-трава,
потянулись вражьи руки к драконьим лапам…»
Далее – не разборчиво, так и заканчивается глава
из Послания к жидам и кацапам.
БЭТМЕН САГАЙДАЧНЫЙ
«Новый Lucky Strike» — поселок дачный, слышится собачий лайк,
это едет Бэтмен Сагайдачный, оседлав роскошный байк.
Он предвестник кризиса и прочих апокалипсических забав,
но, у парня – самобытный почерк, запорожский нрав.
Презирает премии, медали, сёрбает вискарь,
он развозит Сальвадора Даля матерный словарь.
В зимнем небе теплятся огарки, снег из-под земли,
знают парня звери-олигархи, птицы-куркули.
Чтоб не трогал банки и бордели, не сажал в тюрьму —
самых лучших девственниц-моделей жертвуют ему.
Даже украинцу-самураю трудно без невест.
Что он с ними делает? Не знаю. Любит или ест.
***
Долго умирал Чингачгук: хороший индеец,
волосы его — измолотый чёрный перец,
тело его — пурпурный шафран Кашмира,
а пенис его — табак, погасшая трубка мира.
Он лежал на кухне, как будто приправа:
слева — газовая плита, холодильник — справа,
весь охвачен горячкою бледнолицей,
мысли его — тимьян, а слова — бергамот с корицей.
Мы застряли в пробке, в долине предков,
посреди пустых бутылок, гнилых объедков,
считывая снег и ливень по штрих-коду:
мы везли индейцу огненную воду.
А он бредил на кухне, отмудохан ментами,
связан полотенцами и, крест-накрест, бинтами:
“Скво моя, Москво, брови твои — горностаи…”,
скальпы облаков собирались в стаи
у ближайшей зоны, выстраивались в колонны —
гопники-ирокезы и щипачи-гуроны,
покидали генеральские дачи — апачи,
ритуальные бросив пороки,
выдвигались на джипах-“чероки”.
Наша юность навечно застряла в пробке,
прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки,
а в коробках — коньяк и три пластиковых стакана:
за тебя и меня, за последнего могикана.
***
Гойко Митич, хау тебе, и немножко — лехау,
таки да, от всех, рожденных в печах Дахау,
таки да, от всех ковбоев одесских прерий —
мы еще с тобой повоюем семь сорок серий.
Краснокожий флаг поднимая рукою верной:
пусть трепещет над синагогой и над таверной,
да прольется он — над мечетью баши-бузуков,
и тебя никогда не сыграет актер Безруков.
Смертью смерть поправ,
мы входили в юдоль печали:
был пустынен Львов, это здесь Маниту распяли –
на ж/д вокзале, а где же еще, на рельсах,
затерялись твои куплеты в народных пейсах.
Гойко Митич, этот мир обнесен силками:
я прошел Чечню, я всю жизнь танцевал с волками,
зарывая айфон войны у жены под юбкой,
там, где куст терновый и лезвия с мясорубкой.
БОЕВОЙ ГОПАК
Покидая сортир, тяжело доверять бумаге,
ноутбук похоронен на кладбище для собак,
самогонное солнце густеет в казацкой фляге —
наступает время плясать боевой гопак.
Вспыхнет пыль в степи:
берегись, человек нездешний,
и отброшен музыкой, будто взрывной волной,
ты очнешься на ближнем хуторе, под черешней,
вопрошая растерянно: “Господи, что со мной?”
Сгинут бисовы диты и прочие разночинцы,
хай повсюду — хмельная воля, да пуст черпак,
ниспошли мне, Господи, широченные джинсы —
“Шаровары-страус”, плясать боевой гопак.
Над моей головой запеклась полынья полыни —
как драконья кровь — горьковата и горяча,
не сносить тебе на плечах кавуны и дыни,
поскорей запрягай кентавров своих, бахча.
Кармазинный жупан, опояска — персидской ткани,
востроносые чоботы, через плечо — ягдташ,
и мобилка вибрирует, будто пчела в стакане…
…постепенно, степь впадает в днепровский пляж.
Самогонное солнце во фляге проносят мимо,
и опять проступает патина вдоль строки,
над трубой буксира — висит “оселедец” дыма,
теребит камыш поседевшие хохолки.
ПТИЧИЙ ДВОР
1.
Так монголы съедают своих боевых коней
Гуррагча Жугдэрдэмидийн
Чудо в бронзовых перьях, твой гребень погас, потух,
а когда-то был — иго-го Пегас, ого-го Петух!
Замышлял на тебе летать, да одна беда – не вопрос:
упекли меня в детский садик, чтоб я подрос.
И теперь, в деревню, беру с собой хомяка,
у таких медведей с рожденья тверда рука,
правда, жизнь – не малина: два года и четверть дня,
потому и счастлив хомяк заменить меня.
Смастерю из мягкой проволоки шайтан-седло,
ну, иди сюда, петушок, тебе повезло:
этот всадник-пилот, не смотри, что хмур и щекаст,
нашу Родину не предаст.
Кукареку! Всем отойти от клюва и от хвоста!
Вот разбег, отрыв, набор высоты до ста
сантиметров, а дальше – выше, через забор,
где блестит река и впадает в сосновый бор.
Первый в детство беспосадочный перелет,
отчего бабуля тебя не ищет и не зовет,
как обычно: «Петя, Петя!», и чье вообще
птичье мясо белеет в моем борще?
2.
Как пламя черное сквозь сгусток серебра,
и шпоры, словно искры,
все петухи, насельники двора —
в душе премьер-министры.
Проверенный, поэтому – живой,
он шествует в смятении высоком,
с кровавой пятерней над головой,
державным оком
оглядывает двор, собачью конуру,
в которой дрыхнет беспородный Рюрик,
блестит топор в колоде, к топору
несется курица — припудрить клювик.
Покорное кудахтанье толпы,
о, птичьи дети, верящие в сказку —
вкрутую сварены, в гробах из скорлупы,
раскрашенных на Пасху.
Когда язык доводит до греха,
и тишина пускает петуха —
тропою люцеферной,
он – символ солнца, склонный к холодцу,
но, флюгер – это памятник Отцу —
над нашей птицефермой.
***
День ацтеков, середина мая,
вдоль музея им. Сковороды
пятится машина поливная,
распушив павлиний хвост воды.
Вот и я под этот хвост прилягу,
выключив похмельные глаза,
но, опять протягивает флягу
добрый доктор Дима Легеза.
Это виски, револьверный виски,
солодовый привкус на устах,
женский смех, переходящий в визг и
стоны в облепиховых кустах.
Проплывают памятники в мыле,
и висят мочалки облаков,
день ацтеков, и они – любили,
приносили в жертву стариков.
***
Я встал и посмотрел поверх голов,
поверх стихов и прочего буфета:
а там — ни съесть, ни выпить гумилев,
и весь пейзаж от тютчева до фета.
Ты взвешен и прочитан на скаку,
не счесть аптек под фонарями блока,
и ходасевич, словно боль в боку,
цветаева — на горле водостока.
Мышь проскользнула, зарываясь в сыр,
беременная мышь войны и мира,
и мандельштам, как сидоров-кассир,
присел на край вселенского сортира.
Я знаю всех, кто воду пил с весла,
закусывая много или мало,
и средь вершин, гора моя росла,
а это мышь моя ее рожала.
* * *
Когда исчезнет слово естества:
врастая намертво – не шелестит листва,
и падкая – не утешает слива,
и ты, рожденный в эпицентре взрыва —
упрятан в соль и порох воровства.
Вот, над тобой нависли абрикосы,
и вишни, чьи плоды – бескрылые стрекозы:
как музыка – возвышен этот сад,
и яд, неотличимый от глюкозы —
свернулся в кровь и вырубил айпад.
Никто не потревожит сей уклад —
архаику, империи закат,
консервный ключ — не отворит кавычки,
уволен сторож, не щебечут птички,
бычки в томате — больше не мычат.
Но, иногда, отпраздновав поминки
по собственным стихам, бреду
один с литературной вечеринки,
и звезды превращаются в чаинки:
я растворяюсь ночевать в саду.
Здесь тени, словно в памяти провалы,
опять не спят суджуки-нелегалы,
я перебил бы всех — по одному:
за похоть, за шансон и нечистоты,
но, утром слышу: «Кто я, где я, что ты?» —
они с похмелья молятся. Кому?
* * *
Комиссары нюхали кокаин,
отвыкая от солонины,
больше в мире не было украин,
потому, что кончились украины.
День мерцал фонариком на корме,
отплывая в залив Биская,
я тогда сидел третий год в тюрьме —
на поруки бороду отпуская.
Говорят, что завтра придет весна,
и, опухнувшая от пьяни —
на майдан подтянется матросня,
а за ней – приползут крестьяне.
Затекая в рифму – прольется кровь,
и туда ей теперь дорога,
что такое, братец, твоя любовь –
это зрада и перемога.
Треугольный народ соберут в кружок
бородай, парубий, ефремов:
желтоватый, гибельный порошок —
раздавая из пыльных шлемов.
«Рождественское»
Окраина империи моей,
приходит время выбирать царей,
и каждый новый царь – не лучше и не хуже.
Подешевеет воск, подорожает драп,
оттает в телевизоре сатрап,
такой, как ты – внутри,
такой, как я – снаружи.
Когда он говорит: на свете счастье есть,
он начинает это счастье – есть,
а дальше — многоточие хлопушек…
Ты за окном салют не выключай,
и память, словно краснодарский чай,
и тишина — варенье из лягушек.
По ком молчит рождественский звонарь?
России был и будет нужен царь,
который эту лавочку прикроет.
И ожидает тех, кто не умрёт:
пивной сарай, маршрутный звездолёт,
завод кирпичный имени «Pink Floyd».
Подраненное яблоко-ранет.
Кто возразит, что счастья в мире нет
и остановит женщину на склоне?
Хотел бы написать: на склоне лет,
но, это холм, но это — снег и свет,
и это Бог ворочается в лоне.
«Рождественское»
Окраина империи моей,
приходит время выбирать царей,
и каждый новый царь – не лучше и не хуже.
Подешевеет воск, подорожает драп,
оттает в телевизоре сатрап,
такой, как ты – внутри,
такой, как я – снаружи.
Когда он говорит: на свете счастье есть,
он начинает это счастье – есть,
а дальше — многоточие хлопушек…
Ты за окном салют не выключай,
и память, словно краснодарский чай,
и тишина — варенье из лягушек.
По ком молчит рождественский звонарь?
России был и будет нужен царь,
который эту лавочку прикроет.
И ожидает тех, кто не умрёт:
пивной сарай, маршрутный звездолёт,
завод кирпичный имени «Pink Floyd».
Подраненное яблоко-ранет.
Кто возразит, что счастья в мире нет
и остановит женщину на склоне?
Хотел бы написать: на склоне лет,
но, это холм, но это — снег и свет,
и это Бог ворочается в лоне.
* * *
Что-то худое на полном ходу —
выпало и покатилось по насыпи,
наш проводник прошептал: «Нихрена себе…»,
что-то худое имея ввиду.
Уманский поезд, набитый раввинами,
там, где добро и грядущее зло —
будто вагоны — сцепились вагинами,
цадик сказал: «Пронесло…»
Чай в подстаканнике, ночь с папиросами,
музыка из Сан-Тропе,
тени от веток стучались вопросами —
в пыльные окна купе.
Лишь страховому препятствуя полису,
с верой в родное зверье,
что-то худое — оврагом и по лесу —
бродит, как счастье мое.
***
Напой мне, Родина, дамасскими губами
в овраге тёмно-синем о стрижах.
Как сбиты в кровь слова! Как срезаны мы с вами –
за истину в предложных падежах!
Что истина, когда – не признавая торга,
скрывала от меня и от тебя
слезинки вдохновенья и восторга
спецназовская маска бытия.
Оставь меня в саду на берегу колодца,
за пазухой Господней, в лебеде…
Где жжётся рукопись, где яростно живётся
на Хлебникове и воде.
(из раннего 1989-93)
* * *
Я отдыхал на бархате шмелей
еще гудящим от дороги взглядом,
земля крутилась ночью тяжелей,
вспотев от притяженья винограда.
И пастухом рассветный луч бродил,
приподнимая облако бровями,
но тишина не ведала удил,
и травы не затоптанные вяли.
Я по привычке не вставал с земли,
как тень недавно срубленного сада,
и пахли медом сонные шмели,
и капал яд с ужаленного взгляда.
Я слово недозревшее жевал —
не опыленный шарик винограда,
и счастлив был, и оттого не знал,
что счастье — есть посмертная награда,
И гусеница медленно ползла,
как молния на вздувшейся ширинке:
наверно миру не хватало зла,
а глазу — очищающей соринки.
* * *
Вроде бы и огромно сие пространство,
а принюхаешься – экий сортир, просранство,
приглядишься едва, а солнце ужо утопло,
и опять – озорно, стозевно, обло.
Не устрашусь я вас, братья и сестры по вере,
это стены вокруг меня или сплошные двери?
На одной из них Господь благодатной рукою —
выпилил сквозное сердце вот такое.
Чтобы я сидел на очке, с обрывком газеты,
и смотрел через сердце — на звезды и на планеты,
позабыл бы о смерти, венозную тьму алкая,
плакал бы, умилялся бы: красота-то какая!
* * *
Когда поэты верили стихам,
когда ходили книги по рукам,
когда на свете не было на свете,
«Агдама» слаще не было когда:
одна на всех словесная руда
и по любви — рождалась рифма «дети».
«…и Лета — олны едленно есла…» —
от крыс библиотека не спасла
ни классику, ни местные таланты.
В календаре: потоп, Оглы Бюль Бюль,
листаешь: -кабрь, -тябрь, -юнь, и — юль,
где осень держат небо на атланты.
И это счастье — мыслящий бамбук:
пусть рыба отбивается от рук,
влетает дичь в копейку, и на пляже
кого спасет литературный круг?
Пусть, краснокожий мальчик, Чинганчгук,
в твоих очах, красавица, не пляшет.
Эпохуй нам, какой сегодня век,
кого не скушал Эдик Марабек.
«… и Лета волны медленно, и звуки..»
И я входил и дважды выходил,
но, как спастись от рифмы «крокодил»,
как доползти безногому — к безруким?
* * *
И однажды, плененному эллину говорит колорад-иудей:
«Я тебя не прощаю, но все же – беги до хаты,
расскажи матерям ахейским, как крошили мы их детей,
как мы любим такие греческие салаты.
Расскажи отцам, что война миров, языков, идей —
превратилась в фарс и в аннексию территорий,
вот тебе на дорожку – шашлык и водка из снегирей,
вот тебе поджопник, Геракл, или как там тебя, Григорий…»
…За оливковой рощей — шахтерский аид в огне,
и восходит двойное солнце без балаклавы,
перемирию – десять лет; это кто там зигует мне,
это кто там вдали картавит: «Спартанцам слава!»?
«Гиркинсону, шолом!», — я зигую ему в ответ,
возврашаюсь в походный лагерь, на перекличку,
перед сном, достаю из широких штанин — планшет,
загружаю канал новостей, проверяю личку.
Там опять говорит и показывает Христос:
о любви и мире, всеобщей любви и мире,
как привел к терриконам заблудших овец и коз,
как, вначале, враги — мочили его в сортире,
а затем, глупцы — распяли в прямом эфире,
и теперь, по скайпу, ты можешь задать вопрос.
***
Я родился, вобщем, без вопросов,
вырос, спрятав крестики в трусы,
и меня прозвали — ломоносов,
потому, что я ломал носы.
Вот, бывало выйду с полной кружкой,
осмотрюсь, отвыкший от всего:
подсыхает день кровавой юшкой —
на костяшках бога моего.
Вижу: еле-еле, или-или,
земляков и прочих алкашей,
как, боясь чихнуть, они ходили,
чтоб я не добрался до ушей.
И тоска со мною накатила,
понял я, что нечего терять,
и во сне мне подмигнул аттила:
надо петербурги покорять.
Прям до петербурга вызвал убер,
гамбургеры справила родня,
не заметил, что водитель умер,
но доставил, грешного, меня.
Ну, а в петербурге пейсы-в пальцы,
немчура да прочий нелегал,
нос воротят гоголи-чубайсы,
даже тот, который не стрелял.
В небесах от медных купоросов —
для атлантов не хватало рук,
ты зачем приперся, ломоносов,
говорил мне человек-паук.
Эту насекомую скотину
я бы на досуге будь здоров,
но он ткал из носа паутину
против петербургских комаров.
…Я проснулся с корабельной пушкой,
не проснуться — больше я не мог,
улыбаясь, вышел с полной кружкой,
несмотря на то, что был без ног.
На пороге — стукачи и бляди,
бродит дворник с палкой колбасы,
это хорошо, и бога ради,
что у всех — поломаны носы.
Чувствую, завязывать придется:
слишком длинным выдался лонгрид,
там, где тонко — там уже не рвется,
там, где мокро — до костей горит.
Посреди окурков и отбросов,
там, где камень-ножницы-металл,
до сих пор живу, как ломоносов,
и меня кабанов прочитал.