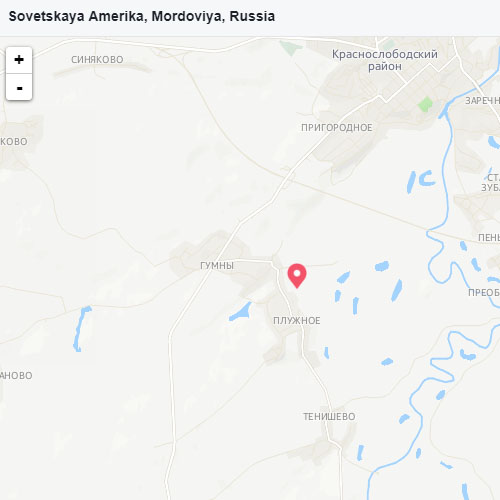Владимир Липилин — Том 2

Владимир Липилин
1974, Краснослободск, Мордовия
Живет в Москве
Прозаик, журналист
Работал собкором в журнале «Огонёк», газете «Гудок».
В настоящее время в:
«Русский Пионер»
«ОДНАКО»
«Православие и мир»
#
Фотоработы Владимира в ФИНБАНЕ
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 1
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 3
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 4
Сегодня ко мне в деревню, в пензенскую область, приезжали великолепные мужчины. Я специально уехал отовсюду, выкопал глубокую траншею и поджидал их неделю. Мужчины приехали в буханке под названием уазик. Уазики когда-то были сразу созданы для героев. А «буханки», вероятно, для сверхлюдей. Поэтому я сразу проникся уважением. Даже несмотря на то, что на их спинах было написано «Газпром». Мне нравятся неразговорчивые типы. Это показатель того, что меньше слов, а больше дела. Эти были скупы на слова. Из всего многоообразия русского языка они использовали в основном такие нехитрые выражения «А нам похуй», «Мы ведь щас уедем, будешь выступать», «С тебя тыща рублей» и «Куда, блядь, он опять делся-то? Хозяин!!!»
Еще, правда, было одно выражение, после которого я не смог не начать задавать вопросы.
— А дырка где, войдя в дом, и глянув на стену спросили они.
— Я -то тут причем? – правда не понимая, о чем речь спросил я. У меня был последний день отчета по гранту. Мне вообще в этот момент ничего не было нужно. В глазах фотографии, отчеты. В мыслях «чтоб я еще хоть раз взялся за эти гранты».
— Дырка должна быть в стене, — напирали прекрасные мужчины.
— Ребят, мы вам заплатили 80 тысяч рублей, я сам выкопал траншею. Как забавно получается, Газпром якобы молодец и проводит до забора газ людям бесплатно. Якобы. А дальше достояние не народное, вернее, народное, но платит сам народ. Причем, такую же суммы, как и вто время, когда все было платно. Выходит, Газпром пропиарился на слове «бесплатно», получил компенсацию по программе от государства, которое тоже пропиарилось, мол, все для людей. А электорат платит в итоге столько же, сколько платил без этой программы.
— Да нам похуй, — в очередной раз сказали они. – Нет у нас инструмента.
Потом кому-то позвонили, им привезли железные перья, они их сломали, стали бить какой-то кувалдой по обломку трубы, чуть не высадили мне бревно из дома, сказав, что липа – это вообще-то дуб, отщепили доску снаружи, потом сказали удовлетворенно.
— Трубу мы там тебе кинули, сам закопаешь. А еще с тебя за дыру тыща рублей.
Я оглядел кавалки грязи, которыми была завалена кухня.
Хотел было сказать, что я вообще -то не за это платил. Но уже знал, что они ответят.
Потом вспомнил одну из хоккейных коробок в тульской области, коробка была заросшей репьем выше меня ростом. По борту ее располагалась надпись «Газпром – детям».
Зато я научил мужиков одному выражению, так сказать расширил синонимическое богатство родной речи.
«Некрасиво говорить «пидарасы», надо говорить «содомиты».
Светопись
(отрывок из повести «Бабушка и космос»)
К осени небо предпочитало очевидный монументализм. Облака делались громоздкими, медленными, задумчивыми. Как будто бы разочаровывались в чем-то, во что верили, любили чего…
Дед Куторкин перебирал свои могучие закрома и обнаружил в них фотоаппарат. И не какой-нибудь там ущербный «ФЭД», или «Этюд», а самый что ни на есть «Зенит».
Немного запыхавшийся, но, впрочем, унявший гулкое биение сердца, он с достоинством вырулил к нашему огородному чугуну, бабушка на костре свиньям варила:
— Я так и знал, — крикнул он, — я так и знал! Мы запечатлеем умирание нашей деревни красиво. Словно это и не деревня вовсе, а великий индейский штат Айдахо или, скажем, поселение Мачу-Пикчу.
— Мощно выступил, — бабушка выплеснула в бурьян ведро с отходами. — Только кто это — мы?
— Мы, мыслящие, прогрессивные индивиды.
— Тьфу, — сказала она и ушла.
Дед Куторкин меж тем не угомонился. Он сел на велик «Десна» с лысыми покрышками, помчал в соседнее село, два раза упал по пути в кукурузу, но покрышки тут ни при чем. Просто, ошалев, дед пренебрег закалыванием брючины посредством бельевой прищепки. Так делало все прогрессивное мальчишество. Ездил дед на ферму, только в ее благоуханных интерьерах имелся тогда ближайший телефон, и под добродушные звуки му старик Куторкин обсказал свою нечаянную радость недоуменному племяннику. Через день тот привез четыре волшебные коробочки с загадочной надписью «Тасма-65».
Пользоваться фотокамерой он (ясно) не умел, а я был типом поднаторевшим. Год занимался в Доме пионеров. Засиживались там допоздна. В темноте возвращаешься, тетеньки в светлых окнах копошатся, ужины оболтусам готовят. Сосед Эрнест Леонельевич на лестничной клетке с примотанной к ней консервной банкой. Сидит на корточках, в дерматиновых тапках с надписью «травм.» и сосредоточенно превращает в пепел сложноподчиненные предложения из газеты, в клочок которой завернута его крупнопорубленная махорка. Затягивается, щурясь, и спрашивает:
— Чет поздновато? Никак залетка (от — временная, залетная девушка. — Авт) появилась?
— Да не, — тушевался я, — из фотокружка. И промахивал его приятное благоуханное облако.
— Вот бы и мне записаться в какой-нибудь такой водкокружок, — с тоскою бубнил он.
Словом, заряжать пленку, в прямом смысле обливаясь потом под ватным одеялом, облицованным бабушкой вместо ткани красивыми флагами Туркмении (других на складе у тетки по всей видимости не было), заправлять в кассеты, а затем в фотобачок, — приходилось мне.
Дед помолодел и заколготился. Более того — он довольно ощутимо переменил жизнь нашу и скотного двора в частности. Куры стали ходить в сарай по огородам, кот попадал на печь посредством подпола и истошного орал оттуда, коза, закатывая зенки, очень талантливо, с этаким зависанием падала в обмороки, когда дед Куторкин, подкараулив, кричал ей «А вот портретик, не хотите ли?»
При этом дед все равно выступал больше, как теперь сказали бы, продюсером, кастинг-директором. И требовал моего присутствия.
Часов с пяти утра он сидел на скамейке перед нашим домом и вздыхал. Я появлялся на крыльце, чтоб попИсать, тер глаза, искал обувь.
— Ты чо топишь-то? — с укоризной произносил он.
Спросони я таращил глаза: как топлю-то? Я ведь еще и не начал.
— Деревне, может, от силы лет пять жизни осталось. А он на массу давит.
Я усердно пытаюсь попасть левой ногой в правую калошу.
— Между прочим, волчью нору обнаружил, там, в лощине, — продолжал абориген. — Можем попытать удачу.
— В смысле?
— Ну, карточки потом Дроздову вышлем.
— Или черепа.
— Чего? — переспрашивал.
— А, — махал я рукой, и зевал.
— Э, ты — Чингачгук Большая Оплеуха, Полученная от моей трудовой ладони, которой я тебе щас звездану, — летом в окошке мы стекло убираем, и с помощью канцелярских кнопок крепим туда марлю, поэтому слышимость прекрасная, поэтому бабушка и кричит. — Оставь мальчишку в покое, в туалет не даст сходить.
— Да пусть идет, — удивленно и даже с досадой разрешает тот.
На протяжении двух или трех недель дед Куторкин притаскивает мне какие-то совершенно безумные идеи — одна хлеще другой. То небо днем из колодца сфотографировать, чтоб увидеть при свете дня звезды, то уговорить Ваню Курохвата из эмсэо, приехать к нам на подъемном кране «Ивановец» задрать стрелу, «а мы оттуда роскошнейшую панораму сообразим. «Не, ну не на сухую, конечно. Для Вани».
А иногда дед впадал в состояние, называемое им же самим «в слюни».
— Уходит. Жизнь уходит, — оправдывался он после бабушкиного втыка. И так просто это говорил. Что вот да, жизнь… жизнь — это нечто, безусловно, важное, как пеший поход по прекрасной местности, но, что поделать, всегда настает момент, когда возвращаться пора.
— Бывает, получишь в морду от бытия, постоишь на краешке жизни. Но спасешься. Через время придешь в себя. И вот дня три после — кайф. Только эти три дня ты по-настоящему и живешь, не боясь ничего, отчаянно, с размахом. Без суеты внутри, ценишь всякую минутку, и каждого человека любишь или жалеешь, шиш разберешь. А потом опять — погрузишься в эту серятину — год, десять, пятнадцать. Глядь, а уже и твоя очередь, так просто, как в магазине; а это, что ли, все, думаешь потом? По сути-то ведь не было ж ничего такого — стОящего, я ж еще только вот собирался подвиг совершить. И так обидно, йо. Обидно, что вот все вот так просто, буднично даже. Без того пиетета к жизни, который должен был бы быть. Захоронят, как нечто уже нездешнее, и трактовать тебя станут по-своему. Ты, может, этого никогда и не имел в виду, а попробуй теперь возрази. Сорок дней, годовщины, а потом и вовсе забудут. Словно и не жил такой человек…
Он доставал большой, как лопух, носовой платок из кармана, сморкал шумно.
— Ночью спишь, а яблоки по шиферной крыше скатываются и смачно так падают об землю — тук, тук. Как будто они кони. В нетерпеже бьют копытами. Лежишь вот так в полной темноте, кромешной темени, кузнечики стрекотать перестали и думаешь: ничего. Ничегоо. Скоро поедем, скоро запряжем. Но с другой, е-мае, стороны — впереди самая большая тайна, о которой никто так и не проболтался. Есть там чо? — он кивал выше козырька своего картуза. — Но мне легче. У меня уговор с самим собою. Вот мы помрем, а поля, снег наш здешний, особенный, нигде такого не видал, рассыпчатый, пахнущий яблоками и облаками — останется. И лес.
— Чего лес?
— Лес… тоже останется, — говорил он как-то так про лес, как про друга и радовался, радовался, радовался, что тот еще поживет.
Однажды дед пришел поутру. Мы договаривались. Червей с вечера накопали. Собирались на озеро к его мосткам порыбачить.
Миновали плотину. Туман, как сытый, довольный кот с боку на бок переваливался на лугу, а в лощине, что связывала по весне талой водой два озера — глубокое и наше, мелкое — трава колыхалась. Мы с дедом подумали, бобр или ондатра. Подкрались, медленно-медленно стали поднимать головы, и такую узрели картину: по этим травам, по этим росам сахарным, извиваясь, перебирались из нашего озера, мелкого, в большое крупненькие (размером деду по локоть) вьюны. И делали они это совершенно осознанно, по какому-то неведомому будто известному только им маршруту. «Вот те крест, — говорил потом дед бабушке и соседке Черной, а сам на автомате проводил по шее большим пальцем типа „век воли не видать“, — целым этапом чалили, все, считай, переехали. Чумааа»!!!
Правда, фотокамеры на этот раз у деда не было, пока он метнулся, пока сбегал, пока взвел затвор «Зенита» — внутри хрустнуло, последняя кассета с пленкой закончилась, он опустил руки, как веревки.
— А с другой стороны, — словно опять о чем-то договорившись с собою и довольный этим, произнес он, это же чудо было, явленное нам, дуракам, а чудеса — не кино, их только избранным дают поглядеть.
Рыбалка наша тоже накрылась. Мы присели в тени серой большой копны. Дед Куторкин снял рубаху и запрокинул к небу лицо, зажмурился. Я впервые увидел наколки на его груди и спине. Папа потом смог расшифровать их. Оказывается, у деда было четыре ходки.
День разогревался, парил. В заброшенных садах поспела бузина; и так густо всюду пахло крапивой; запах ее щекотал сердце, будил генные какие-то нотки из очень далекого прошлого, которое накрывало порой удивлением и даже недоумением. Ты стоял ошарашенный: а ведь точно такое же со мною когда-то было. Стаи дроздов, наклевавшись бузины, облопавшись ее дурмана, летали пьяненькие такие, такие счастливые.
Над нами прошествовало огромное облако. И запах был от него, как от опавших яблок. Скоро поедем, скоро запряжем.
Приходи ко мне поплакать
отрывок из повести
Когда старухи впадали в кручину, они метали в амбарную дверь финские топоры:
— Хэйя!!!
Дед Куторкин собирал шитый-перешитый брезентовый рюкзак и шёл в лес.
С недавних пор лес стал для него субстанцией родной и утешительной. В нём всегда можно было найти подтверждение тому, что природой (то есть Богом) все так досконально продумано – до мелочей, – что просто смотри, вникай, запоминай, не мешай и будет тебе если не счастье, то уж покой-то обязательно. Ну и воля.
Сыромятиной к высоченной красной сосне были прилажены крепкие палки, что делало ствол подобием лестницы. А там, в кущах, где дед оборудовал на американский манер целый шалаш-дом, он сидел в как-то туда доставленном мягоньком кресле, подпоясанный страховочной веревкой, и зырил в бинокль. Простор открывался широкий — плывущий у горизонта воздух шевелил дали, холмы, поросшие сосной и дубом, и кусок дороги.
Иногда Куторкин убивал время так до ночи. И не один день. А случалось — «везло» сразу.
Свист тормозов, звон стекла, глухие удары от кувырков и наконец — тишина. Отличительная от нормальной тишины — немая. Дед Куторкин быстро, насколько умел, сигал с сосны, вприпрыжку чесал к месту аварии.
Говорили, что изгиб – кусок этой, в общем-то, глубоко второстепенной дороги – являлся собственностью силы нечистой, колдовской, которая на удивление быстро управлялось с ямочными ремонтами и не клянчила денег у государства. Гладкая там всегда была дорога – катись.
Если человек в машине оказывался ещё живой, дед совершал первую медпомощь и по мобильнику хозяина вызывал скорую.
Сам уходил.
Если же человек делался трупом, дед каким-то цепким, волчьим взглядом обозревал периметр, ловким движеньем обхватывал покойного за запястья и тащил на спине к лесу. Там уже из орешника готовы две слеги, посерёдке — большая ветка сосны. Шесть километров без дороги, но и не по валежнику, тайной тропой Куторкин тащил водилу через ручьи и балки. Не забыв, впрочем, прихватить из автомобиля документы усопшего.
Иногда с разбившимся приходилось повозиться — двери клинило. Но в рюкзаке у деда имелись странные приспособления, да и сила ещё не покинула.
В деревне старухи покойного обмывали и обряжали в допотопные, пропахшие плесенью одежи. И радовались, радовались:
— Наплачемся теперь вволю, да?! — блестели глазами они.
Дед же Куторкин шёл в сад, усаживался на яблоневый пенёк и дышал в закат. Дыхание было видно.
Куторкину казалось, что ничего, кроме вот таких вот походов, у него в жизни и не было. Ни молодости бахвальской и желаний перевернуть этот мир, ни блужданий по стране в поисках счастья, ни родной деревни и бабок, которые и не казались вовсе старухами, и он играл с ними и с их внуками в футбол, ни кобылы со странной кличкой «Аня, вернись». Ему казалось, что он давно сошёл с ума или спит. И всё ему снится.
***
Он исчез из бабушкиной деревни внезапно, когда кончился август. Исчез и всё. Не заперев двери, не сказав ничего на прощанье. Мы искали его везде. И только племянник, кажется, был происходящим вполне доволен. Как-никак дом достался, хоть в глуши, но все же — кирпич бордовый, прочный, с клеймом. Влёт уйдёт. К тому же амбар, телескоп, велосипед — наберется добра. Виниловые вон пластинки. Разные там негры — Монк и прочие. Одних лыж семнадцать пар. Не ахти какое, но наследство.
Наутро Куторкин колотил для покойного гроб. В последнее время он заметил, что делает это даже с большей любовью, чем лыжи. Хотя нет, всё-таки нет. Крышку гроба по настоятельному желанию старух он сооружал с маленьким оконцем, вставлял стеклышко туда. Так покойный, утверждали бабки, типа как в трамвае мог ездить с того света на этот. И сообщать новости. Ага, кому-нибудь. Из них.
Куторкин не спорил, он вообще явился сюда, в леса эти, чтобы немножечко продлить этим старухам жизнь. Он шёл без расспросов к одной заброшенной (а других и не было) на краю леса избе. Там бабки чинили ритуал. Поджигали глухариные крылья, дед становился затылком на запад, закрывал глаза, а они его этими крыльями окуривали. Размазывали по нему дым. Потом ставили лицом к сеням и с размаху — Хэйя, втыкали в доску над его башкой два топора. После этого старику дозволялось зайти в «адову избу», где стоял вполне себе сносный компьютер.
— Цифра, цифра кругом, — затаённо, как будто только что прочли Откровение от Иоанна, говорили старухи. — Мы все видели. Мы все видели. Спи, — кому-то бормотали они.
В компе торчал чёрненький модем. Дед шерстил социальные сети, блоги, ворошил «Яндекс» в поисках упоминаний о покойном. И вуаля.
Старухи, впрочем, и так могли погрузиться в транс плача.
— Плакать теперя над любой человечей душой можна, — говорили они. Не жизнь, казнь одна. Мы все видели. Спи.
Но всё ж необходимы были подробности пусть бестолковой, но жизни. Детали.
Все добытые сведения о покойном Куторкин обсказывал двум сёстрам. И они начинали. Три дня с отлучкой на «сикать и пить» плакали, исцарапывая криками души свои, рыдали. Пока не падали и не засыпали. Откуда только слёз столько?
Дело в том, что старухи были деду Куторкину сёстрами, мордовскими кузинами.
Одна имела диплом осеменителя крупного рогатого скота, другая служила мирным почтальоном и любила втыкать в деревья финские топоры. Но в обеих старухах сидело то, что было больше их профессии и навязанных социумом привычек — традиция и память. Матери научили их когда-то плакать. Вот по сути своей они ими и были — плакальщицами. От матери к дочери переходило это умение. Свадьба — их зовут, они оплакивают свободу. Не притворно. Не понарошку. А вводя себя в этакий транс, из которого выход — двое суток мучительного бреда и боли. Похороны — за ними на лошади или машине едут. Узелок всегда готов. Хорошей плакальщице заранее говорили:
— Приходи ко мне поплакать.
Их уважали порой даже больше бухгалтера или председателя.
Это как песня для них или былина, только в надрыве всё, мокрое.
— Сталин умер — маменька семь дней плакали, — говорила одна.
Брежнев почил — уже сами сёстры причитания сочиняли — не на бумажке, в голове. Никаких канонов. В каждой местности по-своему. Фольклор. И потом на каждый случай — плач разный. Сам человек преставился, без посторонней помощи — одно. Громом убило — другое. Коли с перепою концы отдал — третье.
А в быту как положено — антагонизм. Смешливые были сёстры Марьяна с Урсулой. Сено мечут в копны — мужики кряхтят, а они языками, что бритвой, орудуют. Впрочем, и мужья под стать. Ни одного угрюмого.
А как приедет кто посторонний:
— Аде, урницят.
Прямо сразу перевоплощение дикое.
Всё своё неудавшееся, непоправимое, саднящее вспомнят, про покойного подумают и рвут воздух так — кошки в обмороки падают. Даже самая старая выпь с озера не сравнится.
В день третий деда впрягали в телегу, гроб с покойным еле усиляли положить внутрь. И горестно, и смешно. И вот это всегдашнее умягчение сердец ниточкой мысли: мы-то пока ещё живы…
Дед Куторкин копал могилы загодя. Называл это физкультурой. Когда появится покойник, за три дня много чего надо успеть сделать. А тут ещё яма эта в три метра. Не одолеть. А каждый день для разгона крови — это ничего. Это даже бодрит. И веночки от ветерка шелестят. Друганов проведать можно, крапиву с них порвать. Посидеть, вспомнить.
С кладбища после похорон шли — старухи круги чертили ножиком, чтобы смерть за ними не следовала.
А на другое утро деду Куторкину надлежало стать заместителем. Ну, покойного. Вообще-то полагалось напялить на себя его одежды, но, поскольку все было инсценировкой, он оставался в своем, шапку с какардой милицейской только напяливал. Сидел, выпивал самогон, сотворённый старухами из хмельных шишек, и заливал им про загробный мир байки. Иной раз так рассочиняется, что и сам поверит. Страшно засыпать становится. Но все равно надо. Чтоб не сойти с ума.
«Спи»,- говорил он сам себе.
****
В декабре снег рассыпчат и дивен. А у бабушки всегда к нему пиетет:
— Когда идёт снег, — говорит она, — то кажется, что и гадостей в мире нет больше.
Я катаюсь на лыжах прямо с крыши нашего дома. За неделю с той стороны, где сад, а за ним среднестатистическое русское поле — наметало целую гору под скатную жесть. Я проделываю лыжню, а потом мы довершаем её трамплином из негодных листов шифера, засыпаем снегом, смачиваем водой. Восторга в сердце два ведра. Даже если падаешь.
Бабушка стоит в сторонке и смотрит на меня, заснеженного. Потом «невытерпливает», тащит из сарая свои лыжи. Коротенькие, «летящие», других, как мы помним, дед Куторкин не делал.
Раз скатывается со мною, потом ещё один. Щёки её становятся румяны, белее снега прядь выбилась из-под шали.
Запыхавшись, садимся на ребристую вершину крыши, откуда в обе стороны скаты. Труба рядом с нами. Пахнет детством – временем, когда все ещё были живы, теплом. И вдруг внизу мимо сада Чёрной по полю, утопая в снегах, идут дети мои, жены, кого любил и бросил кого. Многие, по правде говоря, сами ушли. И кажется, что правильно сделали. Мы зовем их варежками, улыбаемся:
— Лезьте к нам, лезьте к нам.
— Не, — качают они головами. — Дел много. У нас там эта… как её… жизнь.
А нам почему-то так смешно, и мы хохочем, остановиться не можем:
— Вы уверены?
И тут голос какой-то непонятно откуда:
«Мы все видели. Мы все знаем. Просто надо отдохнуть. Спи».
Приехал в дом к маме. Вышел на улицу покурить. А там дети… Поймали кота и не отпускают.
Вначале кот делал вид, что безмерно рад им. Трещал, как летом вентилятор. Дети восторженно окружили его, присели, шептались и приникали к нему, будто хотели препарировать. Будто искали, где сделать надрез.
Кот заволновался, он то думал, будут кормить, но не получив хотя бы дохлой крысы, стал вырываться и ругаться кошачьим матом.
-Эй,- крикнул я им, — зачем животину мучаете?
-Мы не мучим, — недовольно сказали они. — Мы снежинки разглядываем. Они на нем не тают.
Я подошел. Снежинки сыпались редкие и падали на лоб коту, на усы и за шиворот. При этом светило солнце. И так каждая из них играла, так каждая уникальна была и узорчата, что страшно было дышать.
Кот, между тем, негодовал и подпустил в голос драной мартовской хрипотцы.
— Что ж ты за упырь такой,- сказал я. — Потерпеть не может. Мы ж тебе не хвост поджигаем.
— А это мысль, — сказал восьмилетний Димка.
-Даже не думай,- говорю.
Все замолчали и кот вроде как притих.
— Я могу черного поймать,- сказал Димка,- на нем еще прикольней видно будет.
Мы отпустили этого кота и пошли за следующим. А снежинки сыпались и сыпались. И солнце, между прочим, светило.
Мама увидела в окно, а когда я вернулся, спросила:
— Сколько,говоришь, тебе лет?
Life is love (кирпич)
съездил в городок Краснослободск. и так нежно-неожиданно встретился с выходящими из употребления выражениями… такими как: «пиздыш», «мудомялка», «ебло».
у мужчин, которым за 60, в гараже клубные вечеринки. они отмечают тридцать пятый день рождения уазика, приобретение поросенка и обсуждают котировки на уолл-стрит.
скоро ледоход на Мокше-реке. и все двинут смотреть. на машинах, пешком.
Мокша – это освобождение. от всего плохого, что есть в тебе. так говорит санскрит.
мужчины говорят, что жизнь за большими городами — это великое послушание и испытание. снег пошел- надо дерябнуть, вон какое чудо, нерукотворное. иначе собьешь настрой. настрой на что? не уточняют.
почистил снег – душа еще требует залудить. но напиваться в зюзю — это лжетренд и бессовестное злоупотрбление. они все врут, конечно. поясничают. куролесят.
у мужчин один и главный всероссийский комплекс. они бояться выглядеть дураками.
когда к ним подъезжают люди в автомобилях, с просьбой печку из железа пятерки сварить, карбюратор продуть или глушак заварить, они такие заряжают цены, что все сразу давят на газ. а эти довольны, что опустили чувака с московскими номерами. мы, говорят, тоже не пальцем деланные. и опять сидят. простые такие, гордые.
а я вспоминаю их в моем детстве, когда они бодро и весело сооружали прямо посередке улицы к празднику столы. когда играли с нами в футбол и ломали, повиснув на перекладине, деревянные ворота. и всего-то несколькими словами могли обрисовать тебе картину довольно смешного и в общем-то доброго мира.
а объективной реальности — ее попросту нет. не существует. есть то, что ты увидел и как-то осознал.
В ножички
Ночью приехал Вован, сказал, что из коровы лезет мертвый теленок. А все пьяные. Охота же вчера только открылась. Леха вызвался и ехал с ним через лес по невидимым лужам-рекам. На ферме они стали вытаскивать теленка из плачущей коровы.
У коровы буквально текли слезы. Вована и Леху практически рвало от запаха. Внутри ломались косточки плода. Вытащили, кинули в пакет и поставили к выходу. А корова все равно металась по клетке и искала, и трубила.
В груди жгло.
Леха вышел в туманное утро, закурил и вспомнил ее слова, когда она в его квартире надевала свои тянущиеся колготки:
— Блин. По-другому нельзя, что ли? Почему обязательно надо влюбляться? Почему человек предсказуем, как робот?
Эти слова она, конечно, адресовала себе.
«Забей», — хотел сказать он. Промолчал.
В тумане, за фермой, у невысоких, набухших бордовыми почками берез, токовали тетерева. И этими своими, ничем не примечательными звуками, сводили его с ума. Маленьким таким ножичком, как в детской игре, расчерчивали сердце на свое и чужое.
 Вальдшнеп
Вальдшнеп
Доктор биологических наук Дима обмывал в деревне свою ученую степень. В подарок разное привезли. Хлипкие китайские спиннинги, на миллиметровке подробные карты (совсем не той местности), фонари на керосине. И только мастодонт визуального искусства Сергей Аркадич подарил собственноручно изготовленный лук.
Все как и полагается — из белой акации, тетива из бычьего сухожилия, оцентрованные стрелы с тупыми наконечниками от веретена. К одной из стрел прикреплена записка с волнующим вопросом «Дашь?»
Просто Дима — болотник. Это не прозвище- специализация. Он изучает эти болота уже много лет. И вот защитился. Оказывается, до сих пор они кому-то нужны. Болота эти. А Сергей Аркадич — режиссер и хулиган. И вопрос в записке вроде бы от имени Димы обращен был, конечно, к болотной лягушке, которая потом превратится… Или не превратится.
Или вот.
Поехал один человек в райцентр на своей «Ниве», Сергей Аркадич ему звонит:
— От тебя там щас винный магазин далеко?
— А чего?- слышит в ответ.
— Подъедешь, зайди за него, в полыни там стопарики пособирай. Рассаду некуда сажать.
В трубке, естественно, брань, мат. Ну, какая рассада, если все там только на выходные.
Такая это деревня. Несерьезная вся. Но нас к ней бешено тянет. Мы выцарапываем право поехать туда мелким враньем и крупными обещаниями. Что вот вернемся и обязательно все доделаем.
А казалось бы, чего уж там такого? Вразумительного ответа нет. Можно было бы, наверное, понять, если б мы сошлись на фоне алкоголя. Банально, конечно, но уж как-то понять наверняка можно. Но и это не совсем правда. Охота? Далеко не все там охотники.
Я давно заметил: все, что ты придумал, сочинил о местности, оказывается потом чем-то весьма приблизительным. А уж родина вообще такова, что тут нельзя обобщать ничего даже в пределах одной географической точки. В каждой «дыре» обязательно случатся люди, которые думают, любят, и делают что-то по-настоящему.
***
Мы – индивиды, живущие на стыке разных явлений и процессов. Как на стыке рельсов. Поэтому примета времени -грохот, а поезд уже уехал. Скомканно как-то все было на вокзале, склизко и промозгло. И не простились добром.
Как подумаешь: целый пласт питающего город деревенского быта, культуры, языка скоро-скоро околеет окончательно. И немножечко грустно. Хотя возвращать это или удерживать – еще грустнее и дебильнее. «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть».
— Как тока человек изобрел компьютер, он невольно запустил обратный отсчет нашего пребывания тут, — умничает Сергей Аркадич. – А чо, вот смотри. Раньше, чтобы комбинированные съемки организовать, мне надо было столько сил, нервов, денег потратить, зато, когда сделал, закурил – счастье. Щас мне нужен спецэффект в кино – хоп-хоп, — готово дело. Привыкаешь ко всему этому аттракциону быстро. И когда потом нужно в жизни что-то сделать, а не сразу выходит, и нет «горячих клавиш» – тут и наступает ярость. Человек отрывается от реальности. Я вот щас оглядываюсь, все же, чтобы нормально жить, скорости другие нужны, соразмерные с ритмом внутренним человека. Чтобы, например, смотреть кино «Листопад» -нужно то спокойное состояние, которое для многих сегодня уже недостижимо.Скорость внутри нас другая, суеты бестолковой море. А мы, советские, вот веселую, наполненную жизнь прожили, хотя много чо и просрали. Но вы-то все просрете, — провоцирует он тех, кто моложе.
Сидим с ним на улице за столом. Кругом снег еще, как «ядра чистый изумруд». Но солнышко в закутке за домом припекает. То левое ухо подставим, то правое. Аркадич говорит:
-Прожил тут неделю в одиночестве. Поехал в соседнюю деревню в магазин за куревом и пивом. Машину оставил на въезде, чтоб залетные гаишники вдруг откуда-то не взялись. Иду в сапогах, и все со мною здороваются. Я одному мужику говорю: какая хорошая у вас деревня. Идешь, а все здороваются. Он такой: а у вас че не так, что ли. Люди такие злые? Я говорю: да просто нет никого.
***
Весна. Вечером, когда все уезжают на вальдшнепа,Евгений Борисыч выносит на воздух самодельный мольберт на трех ногах, сработанный из местного клена. Ящик с красками, кисти. И пишет закат. Весь этот свет, деревья, ландшафт он всегда пишет только с натуры. А сцены из охоты потом наносит по памяти. Он их столько за свою жизнь перевидел.
-А ты чего ж, совсем, что ли, не охотишься?
— Года четыре уже. Че-то такое щелкнуло, вскидываю, веду, а стрелять не хочу.
— Сентиментальность к старости приходит, — декламирую я на манер сонета. Гляжу на него. Не покоробило ли. Нет. Не покоробило.
— А может и так, как ты говоришь. Я вот иной раз в шалаш залягу, шесть часов там кукую, жду, когда прилетят глухари. И вот прилетели, начали токовать. Прям над башкой, на ветках, опустились. Сердце как сваи вбивают. Навел, поглядел. И мысли, которых раньше не было: тебе жрать, что ли, нечего? Вылезаешь, идешь, и ты другой человек. Маленько, но другой. Ясно дело, что все внутри, внутри тебя и гадость, и черт, и бог, но такая радость, что ты еще можешь быть хорошим, что еще не совсем опаскудился. Как вот это рассказать?
— Вот видал сын тут у меня постоянно торчит, внук Женька. Я ведь их гоняю тут охереть как, вкалывать заставляю, дел в деревне всегда по уши. А все равно едут. И так с детства. Мне кажется, преодоление себя, все вот эти шатания по лесам, увязания в болотах нынче один из немногих способов остаться человеком. Превратить неудобство во что- то пригодное для жизни, и получить удовольствие от этого. Вроде вот думаешь, зачем поеду, зима. Есть дорога -нет, откапывать крыльцо, носить воду, печку топить. А приехал, себя преодолел и уже думаешь: а хорошо, что приехал.
Борисыч сам того не зная многому научил нас в лесных делах. И не уметь сделать допустим нодью из бревен в зимнюю ночь, чтобы было тепло и светло, вроде как и стыдно. Это ж простейшее. Или кладку кирпичную. А до этого никто не умел.
-А чего ты вдруг рисовать-то начал?
— Да не вдруг, — носом шмыгает, усом шевелит. — Мы в студенческие времена с другом столько клубов, ленинских комнат оформили. Я ж художественное училище окончил. Потом бросил все это. Женился. Писать перестал. А друг не перестал. Всю жизнь пейзажи крапал. А недавно вот умер. Я приехал, краски, холсты, все забрал. Теперь вот за него дописываю. Понимаешь, щелкнуло че-то…
***
Вчера Борисыч привез ведро раков, запихал их в маленький садок, утопил в воде. И всем стал уверенно заливать, что в ручье нашем водятся раки, не крупные, блин, но с ладонь. «Я те говорю. Хм, не верит». Мы, конечно, совсем не ботаники и не биологи, но даже нам ясно, что в таком водоеме, который можно перешагнуть, неоткуда взяться ракам? Борисыч надевает штаны от ОЗК, лезет, все пузырится, и с той стороны, где дно не затягивает илом, шугает рукой, ведет садок по дну, вытаскивает. А внук снимает на телефон.
Для чего это 60-летнему мужику? А чтоб повеселее помирать было. Чтоб не думалось.
***
Пролет вальдшнепа, повторяющий просеки и извилистые лесные дороги затаен и в то же время стремителен.
Любовь к вальдшнепу нельзя объяснить. На Руси да и не только, охота на него считалась аристократичной, королевской.»Вы спрашиваете, дорогая, почему я не возвращаюсь в Париж, вы удивлены и даже как будто разгневаны. Причина, которую я приведу в свое оправдание, вероятно, возмутит вас: разве охотник возвращается в Париж в дни пролета вальдшнепов?», писал Мопассан своей даме.
Просто тут в одной точке сходилась масса явлений, приятных для ума и сердца.
Весна. Вечер. Оттаявшая земля отдает талые пьяные запахи, в голове хорошо и много беспричинной любви ко всему окружающему. За день ты можешь увидеть столько, сколько не увидишь за целую зиму. Лось встал, вроде бы застрял в кустарнике и шумно нюхает воздух — не хочет никуда идти. Еж плывет на коряге через реку и даже (ловко так) огребается. Бобер точит толщиной в березу для рисования карандаш. Постепенно, как будто выключают голос за голосом, смолкает лес вокруг. Где-то в лощинах еще снег… и холод от него не простой — могильный, как у чего-то уходящего. Навсегда. Незаметно, будто кто-то закурил, образуется туман меж берез. Струями. И наступает тишина! Только выпь на далеком болоте. Выпила бутылку красного сухого в одно лицо, а теперь сидит, не смаргивая смотрит в одну точку, жалеет себя, долю, нас кичащихся, дует в горлышко пустой бутылки -УУ, УУУ. Но через время и она успокаивается. Молчит все, как в театре, перед выходом дяди Вани. И тут:Хорр, Хорр.
Не то сверчок, не то цикада в летний вечер.
Вальдшнеп – смешное, несуразное для русского уха имя. Нечто чуднОе есть в слове этом и во всем его облике. Маленький, с длиннющим клювом, как у сверхзвукового.
Сергей Аркадич говорит, что летают они в сумерках, ибо друзей у них нет почти, одни враги, и вот когда враги эти укладываются на боковую, начинается их, вальдшнепиная любовь. Самка летит низко-низко и без звука, а он рассекает воздух на дикой скорости, ждет, когда она сядет под куст. Охотники пользуются этим, и часто кидают невысоко кепку, шляпу, чтобы вальдшнеп резко затормозил, спланировал к ней. Тут и начинается канонада.
Нелепо, пригибаясь в темноте, бежит такой охотник, хрустит валежником и говорит задыхаясь от сердца, мешающего горлу:
— Он думал, что будет ее трахать, а тут кепка моя.
Хохоток такого охотника страшен и зловещ.
Прошлой весной появился какой-то маленький, но ужасно юркий, с подбитой лапой, оттопыренной чуть в бок. Сперва из-за этого увечья хотели его укокошить, мол, бедняга, мучается. Но Исидор (как мы его позже прозвали) был другого мнения. На подлете к просеке, он начинал удивительно лавировать, уворачивался от дроби так, словно он ее видел, и танцы его, тройные тулупы, были в высшей степени чудесны. Охотники вскоре даже стали заключать пари, кто первый его добудет. За неделю джек-пот вырос до 10 тысяч. Но Исидору неведом мир чистогана. У него большой рок-н-ролл в крохотной голове.
— Вы чо, придурки, — говорил режиссер Сергей Аркадич, — это мой вальдшнеп, он каждое утро над моим домом пролетает. Когда только открылась охота, в 3.50 прошел. Я засек время. На следующий день в 3.35 проснулся, кофе себе сделал, вышел, думаю, вот допью, перейду ручей и на полянке сниму его. Только я патрон зарядил – шшшух, цвирь, цвирь, прошел над башкой. Ну, думаю, гад, я тебя завтра кокну. Назавтра только кофе поставил на стол на улице:
— Хорр, Хорр.
Так прошла неделя.
Самолюбие охотников зашкаливало. Выйдешь ночью в туалет — уже кто-нибудь сидит за столом с ружьем. Или еще не ложился.
Сергей Аркадич врубает свой прожектор. И ругается.
Вальдшнепа он полюбил.За то, что, по его словам, «он так похож на него. Дерзкий и не пришей к п..де рукав» (цитата).
Ружье убрал в сундук. И всех гонял.
Но охотники таились за баней, не хотели отступать.
— Ладно, — спокойно сказал Сергей Аркадич.
Собрался и куда-то уехал. А потом привез барышню красоты редкой. Через день все перессорились, и уехали на дальние озера. Хотя дама совершенно никому не выказывала симпатий,просто сидела за столом, в основном молчала, улыбалась и пила водку Но почему-то совершенно не пьянела.
 Капканы
Капканы
Под вечер пошли с Димой проверять Юрины капканы. Сам-то он в коматозе и врет всем, что простыл.
А мы нет. Не простыли, в смысле.
Хоть и говорят местные об этих лесах, что они «водят». Но когда приезжаешь из большого города, все это кажется детским садом, милым язычеством, наивизмом-примитивизмом.
Нас до поры это все лишь забавляет.
Стало темнеть и ветер. Запуржило.
А у нас фонарикию И Дима, между прочим, биолог. Ну, болотник. Оказывается, они кому-то еще нужны, болота эти. И он даже вот докторскую защитил.
Сначала все было хорошо, потом часы стали показывать полночь. Я вспомнил, как в прошлом году приезжали чьи-то знакомые — парни из конторы, экипированные, как госдумовцы, приезжающие к спортсменам на олимпиаду. Ушли в ночь на гуся. И лесочек-то смех один — чуть выше роста человека, зато тянется чуть ли не до Рязани. И вот они пропали, мы пытались звонить им, все бестолку.
Мы искали их на японском большом автомобиле. Тоже напрасно. Утром грязные, вымотанные они объявились в 23 километрах от того места, где мы их поджидали.
— Как же вы шли, любезные? — недоумевал я.
— По звездам, — сказал один. — Ну, по Ковшу.
— Дураки, он же крутится.
— Да?
Они почесали свои ощетиненные репы.
-Да че ты при…ся. Нахера нам все это. Есть же навигатор.
Правда, он, сука, заглючил.
Развести костер нам с Димой никак не удается, зажигалка едва работает, валежник сырой, сигаретная пачка, что мы пытаемся превратить в розжигу, тотчас гаснет. И вот уже никакие мы не туристы.
К двум утра метель усиливается, лес гудит, как океан. Бессилие такое, что клонит в сон, хочется залезть в какое-нибудь дупло и там переждать. Но дупло только в зубе у Димы. И вскоре хочется прислониться просто к сосне, немного поспать. Потом начинается довольно живописный бред. В прорехе между деревьями маячит море, затем умученное сознание подсовывает картины одна нелепей другой. Заброшенные небоскребы, стога сена меж них, лошади.
— Ты тоже это видишь? — ору Диме я.
— Что?- Дима даже в этой ситуации не переходит на кратное и вполне уместное «чо». Интеллигент, йо.
Я читаю молитву Николаю Угоднику и на всякий случай переодеваю куртку молнией назад. Не помогает. Куда-то идем и идем, согнувшись. Губы одеревенели и болят от стыни глаза, а по сердцу разливается сектанская радость, и страх уходит далеко-далеко. И совсем не верится в существование где-то ночных клубов, социальных сетей, компьютеров, нанотехнологий. Вот он лес, а вот он ты.
Дальше все чаще и чаще провалы в памяти, только ноги втыкаются и вытыкаются из сугроба. И вдруг ты обнаруживаешь, что перебираешь этими ногами, лежа на боку. Вскакиваешь, пытаешься бежать, но делаешь это безрезультатно, как во сне.
На трассу выбредаем только в семь утра. И падаем на обочину.
Какой-то парень подвозит нас до поворота. Ноги и руки как будто изнутри тоненькими иголочками колит кто-то. Затем выясняется, ночью нас искала вся окрестная мордва. Мужики, как полярники, с красными рожами выходят навстречу. И поспешно закуривают, чтобы не набить нам мерзлые, скукоженные рожи.
Потом сидим в избе, топится печка, всполохи пламени в запотевшем стекле. Я думаю о том, как все просто происходит, ну смерть, например. Как угасает организм, или при аварии слышишь отчетливо -вот ломаются твои, а не чьи-нибудь кости, а сознание еще пока не получило сигнал о боли. Какие-то завернутые в целлофан, в подушку звуки и образы. Жизнь. Была. И вот. Кони. Люди. Куропатки.
А Дима сидит на печке и что-то пишет в тетрадь.
— Ты тоже это видел? — надоедаю я.
— А? — вздрагивает он. -Не. Не, — бубнит потом. — Я просто тут подумал: как интересно. Скорость света (электромагнитной волны) в вакууме не является константой от времени. Понятно, что время неразрывно с пространством, но тут имеется в виду направленный вектор развития галактики. Только этим можно объяснить ненужность Большого взрыва. И множественное количество явлений, начиная от реликтового излучения до распада нестабильных ядер.
Дрова трещат, фотохудожник Юрий Николаич курит. Дым, изогувшись, ныряет в нутро печки. А в ходиках на стене нет ни одной стрелки.
Червяк
— Вчера сидел в саду после работы, ел яблоко, задумался, — говорит мне сосед по деревне. — Незаметно проглотил червяка. Так расстроился. Запахи еще эти с полей – осенние (вперемешку с горелой соломой). Птицы еще эти в небе – журавли (репетируют кол… или как там… клин). Ни одной хорошей новости. Я даже расплакался. Так жалко всех и в особенности червяка. Но потом взял себя в руки. Теперь курю меньше, думаю, а вдруг червяку не понравится. Как там он вообще? Постоянно думаю. Но никому не говорю. Тебе первому.
Стоим у забора в саду. Он со своей стороны. Я – со своей. На сучках от сливы два стаканчика, под ногами в траве бутылка. Это вообще удивительно — через забор выпивать. Это успокаивает. Потому что в любой момент можно сказать: Черт, хорошо с тобой, но надо и поработать. И действительно пойти, поработать, почистить совесть. Но мы так уже второй час стоим, лейтмотив нашего вечера – хрупкость бытия. В связи с червяком, естественно.
Что вот и мы будем на их месте, червяков этих, нас тоже сожрут за милую душу, не те, конечно, что сейчас в яблоках, другие. В природе все мудро, е-кэ-лэ-мэ-нэ.
Про смерть еще чего-то там поговорили, про то, что это тоже ведь путешествие, маршрут которого никто не сумел разболтать, даже за деньги. Про дружбу, которая была между людьми раньше, а теперь как-то невнятно все, зыбко, у каждого свое. Перешли на пугачи из медных трубок и мотоцикл Ява из детства. На ножики складные, которые были у каждого пацана.
Я вспомнил, как угнали мы однажды с товарищем у папы его автобус. Пока папа давил на массу, мы давили на педаль акселератора, причем оба, вырывая друг у друга руль; как застряли в грязи, и я сбегал в террасу за какими-то тряпками, чтоб подложить под буксующее колесо, а среди тряпок случайно оказалось пальто сестры. И как оно великолепно и замедленно летело из-под колеса, все разодранное в хлам.
И так еще с час, снимая стаканчики с сучков, беседовали. Незаметно стемнело.
В воздух добавилась сырость, и бражный запах нападавших яблок, которых в этом году девать некуда. И стало так хорошо от мысли, что мы пока живы. Что можем вот так стоять. Что картошку выкопали.
И вдруг сосед говорит:
— А я позавчера, знаешь, на своем Джон Дире такую силосную яму соорудил… Когда на нее забираешься, то фарами прям Млечный Путь освещаешь. Нет, ну серьезно.
И я так позавидовал ему. Фарами. Млечный Путь.
Сосед благостный ушел домой, пытался играть там на осипшем баяне, но жене не понравилось, и он прекратил.
А я еще поработал немного в сарае при свете лампочки. Заменил черенок лопаты, которую сооружал когда-то отец. Черенок, помнивший его руки, треснул, раскроился вдоль. Может быть, ей, этой лопатой, его потом и закапывали?
Ночью не спалось, рассвета ждал, как в температуре, только под утро задремал. Потом встал, попил воды. Вышел.
Туман заливал просторы, словно наступило опять половодье. Петух кричал. Яблоки падали. По улице шел сосед, видно его было наполовину, по пояс, периодически он будто спотыкался .
-Куда это ты спозаранку? Вернее, откуда?
— Бля, — сказал он, — ты мне можешь ответить, зачем людЯм (вот так вот на «я» с ударением) выходные? Вот хорошо же вчера покалякали? Хорошо! А утром проснулся — на работу не надо, Храпца встретил. Пошли щас с ним в бане у него бутылку и треснули. Знаю все, ниче мне не говори. Ниче.
Туман потихоньку рассеялся. В прорехе между домами, стало видно поле, а за ним лес — желтый-прежелтый.
По улице бежал чей-то пес с огрызком цепи, важный такой, шумно нюхал кусты, заборы, поднимал заднюю ногу, и дальше чесал, будто у него тоже заботы, насыщенная проблемами и событиями жизнь, будто он тоже живет не просто так, а по делу.
Яблоки собирать
— Ты приедешь сюда в октябре? Со мной. Яблоки собирать.
Вечером она говорит это у костра, кутаясь в мой свитер. Рукава пустые висят.
Август. Небо звездное. И если поднять голову можно задохнуться, упасть.
— Да, — просто говоришь ты, щелкая в ладонях пластиковым стаканчиком. На донышке капля вина.
Сыро. И сад, как ночная река светится – неизвестно, где берег другой.
Пустыми рукавами моего свитера она обнимает свою шею. И вдруг произносит:
— Поцелуй меня.
Выходит неловко, несуразно, наивно. Как в первый раз. А он и есть первый. Каждый раз с ней.
У черных, будто увеличенных темнотой елей, светит желтым окно. Спит ее сын.
В хрущевском доме далеко-далеко, где от телевизора синее марево, спит, наверное, и моя дочь.
Мы стоим, обнявшись. Мы знакомы три дня. Или так кажется мне? Впереди будет много хлопаний дверями, бросаний телефонных трубок, поцелуев на ветру. Будет, будет, будет.
Под утро в натопленном доме она засыпает. Я осторожно вытаскиваю руку из-под ее головы. И долго смотрю, как на шее, бьется тонкая бледная жилка: будет — не будет, будет — не будет.
Потом на волглом от тумана крыльце прикуриваю от сигареты сигарету.
Крик электрички по мокрой траве близок и отчетлив.
С ветки, щелкнув, падает… и катится, катится первое сладкое яблоко.
***
Поезд идет на запад. В географическом понимании это в корне неверно, но для людей, едущих в этом поезде, все, что за Уралом – запад или вообще «материк».
В поезде мущщины. Класс – который давно не принято учитывать ни в каком информационном поле. Работяги, золотодобытчики, газовщики. Я знаю людей, которых всего лишь упоминание об этом классе натурально бесит. Но тем не менее они есть. И кулаки у них такие, убедительные, что ли.По полведра.
Мущщины ведут гнилые разговоры. Красуются. Человек по природе страшный понтовщик, если не осаживать.
Есть, впрочем, рефлексирующие.
-Да после десятого года мир стал дико меняться и изменился. И время скакнуло прямо на глазах, то ли действие генной еды дошло и человек мутировал, то ли возомнил, что он вот прям голубых кровей.
-Да с такими кровями ща тоже навалом, — бубнит, не умещаясь на второй полке, тип, весь в наколках цветных.
-Братцы, я вам скажу, что реальности ее вообще нет. То как ты относишься к тому, че тебя окружает и есть реальность. Вот все такие: уе-мое уж сколько лет не чувствую Новый год. А ты че, в детском саду, что ли, незамутненный, что ли? Не, милый, ты крылья говнецом своим невольно или от лени измазал, теперь продирайся к тому ощущению. Делай че-то.
— Ага, я помню, мне бабка читала из писания, -совсем не в тему трындит еще один, -что дьявол он из окошка придет. И старухи на всякие праздники святые — то ветками берез окна защищали, то еще чем. А он, сука, не через то окно. Его-то окошечко виндоус называется.
Все кривят рты. Даже засыпающий.
К вечеру разговоры становятся рваными.Дополняются храпом, сопением.
-Мам, мам, а я стих придумала, — говорит с боковой полки девочка. И пытается на запотевшем окне, как на айпаде раздвинуть, сделать покрупней заоконное.
Мама уже цыкнула пробочкой от полторашки, а стакан, запрошенный у проводницы вежливо, все не идет.
-Мам, мам, стих, говорю, придумала, — девочка гонит пальцем каплю по стеклу.
— Да отстань. Ходит тут, ходит, жопой водит, — маме не нравятся красивые проводницы.
Мужик через купе не старый еще, крепкий, который всю дорогу маялся тем, что вот «учинили тряхомудье, добропорядочнуму человеку покурить негде», диктует кому-то адрес.
— Заезжай. Баня, два коня, свиньи, овцы, пруд свой. Кроликов штук, наверно, шисят. Ебуцааа! – последнее он выговаривает с таким придыханием и таким нагромождением эмоций, как, пожалуй, чеховский дядя Ваня выдавал о небе, которое когда-нибудь будет в алмазах.
Путь здесь еще не сделали «бархатным» и колеса отстукивают.
Мальчик лет двух идет от туалета и шлепает себя по пузу резинкой от чистых колготок, сзади мама с горшком.
Мальчик не выговаривает шипящие, вместо «ш» и «ж» он произносит «ф».
И кричит на весь вагон, наполовину уже спящий.
— А теперь, изволь, гони фыкаладку.
У мамы счастье зашкаливает. И все это слово «изволь». Мы все как дети.
-Это за что же, — улыбается она.
— Нууу. Я ф молодец. Я ф покакал!- кричит он.
Ночь. Мужик, у которого кролики, выходит на станции. Сколько ни странствуй, но к этим вот звукам не привыкнешь никогда, они сладко ломят сердце. Когда поезд стоит в ночи . А через динамики дежурная и какой-нибудь бригадир дефектоскопистов переговариваются, умножая эхо. А потом этот легонький стук по крышкам букс –тук-тук.
Мама девочки сопит сидя, прислонив спину к перегородке.
Девочка шепчет.
— А на реках мерзнут лунки. Рак не свистнет. Ну… Нечем дышать.
Луна бежит за составом, что привязанная. От стужи она в каком-то зеленоватом обруче. Как в кольце. И — леса, леса. Снег, снег.
На мостах, которые мы проезжаем, вагоны шумят сильнее.
Вычитание зимы
К Октябрьской за бабушкой приезжал дядька. Веселый, пузатый, шебутной.
В районном центре работал дядька на автобусе ПАЗ. На нем вот по окрепшим колеям и приезжал.
Бабушка колготилась, подвешивала на веревки под потолок (чтоб не досталось мышам) приданные свои перины, матрацы, подушки.
Потом таскали в автобус узлы.
А напоследок запихивали очумевшую, исполнявшую истошные вопли козу.
Коза фыркала, закатывала зенки. Но в обморок на всякий случай не падала.
На кочках она смешно приседала и пускала по салону длинную струйку. Пока ехали до соседней деревни, где козе у бабушкиной золовки предстояло провести зиму, струйка каталась по пыльному, резиновому полу — туда-сюда.
Дед Куторкин поджидал нас у околицы почему-то с белорусским стягом. И еще долго я видел его в заднем стекле машущим, пока он не превращался в зыбкую точку.
Дед поживет в деревне до декабря, да и тоже двинет, как он выражался, к «покою и кормежке».
На этот случай имелся у него чумовой ход.
В первых числах декабря Куторкин навешивал на сени замок, кидал ключ в колодезное ведро, опускал в воду, чтоб примерзло. А сам вешал на плечи вещмешок и мчал на лыжах как сайгак, откидывая снежные ошметки.
Путь его пролегал до соседней деревни. Именно там в течение недели-двух (в зависимости от «поэтического настроения») им с корешем изо дня в день предстояло «ужираться», как формулируют интеллигентные люди, «в зюзю».
Причем было это не какое-то там быдляческое, бессовестное доведение себя до свинского состояния. А даже напротив — чинное следование рецепту врача. Причем — врача главного. Командующего магическим заведением под названием ЛТП.
Дед Куторкин знаком с тем эскулапом коротко. Говорил даже, что выпивали. Кто поверит? Сергей Абрамыч (так звали алкогольного лекаря) старику заявлял прямо:
— Если запой трехдневный, вшивенький, а давление меньше ста шестидесяти — лучше даже не звони. Вот Куторкин и доводил организм до нужной кондиции.
Кореш у деда разбитной, отзывчивый. Только плечами пожмет:
— Да я месяц могу без продыху. А тут…
И потом.
— Почему не уважить столь дивного человека?
Тем более, что пропивать они собираются деньги шальные, незапланированные, вырученные от продажи куторкинских лыж, которые, как мы помним, молва зовет «йондал». Что значит «молния» по-мордовски.
Первые дни кутежа пройдут под эгидой «А помнишь?»
— Долдонить нечего, — скажет дед, — прожили весело. Польза была и радость была. Бывало, дождь пройдет и так хорошо в левой титьке, что с Машкой Черничкиной целоваться охота.
— Да уж, че и говорить, — согласится собеседник. — Улетна была председательша. Особенно, когда верхом на жеребце подъедет, ветром обдаст — потом еще минут пятнадцать ходить не можешь. Кальсоны мешают.
— Че это?
— Угадай!
Оба ржут.
Или вот такое с утра:
— Иной раз думаешь, что чего-то там достиг, чему-то научился, — скажет, свесив ноги с печки, дед Куторкин. — А утром встал и опять… По новой надо искать в себе… этого, как его?.. Человека! Как носки прям.
Дней через десять от «крестоносцев», как именует заведение Куторкин прибудет машина-буханка. Дед шмыгнет носом на мерзлом крыльце, обнимет друга.
— Дай бог не последний.
— Ты чо? — пробасит собутыльник.
— Ну, эт я, штоб жальчей. Так соли больше. И остроты, так сказать, жизненной.
— А, — кивнет провожатый. — Тогда ща, погоди маленько, я тож заплачу. А вообще приятно посидели, да?
— Опупенно. Если не сказать лучше.
Далее в течение трех месяцев дед станет проживать на казенных харчах. Не за бесплатно, конечно. В часы досуга его увидят делающим стулья начальнику алкоголического учреждения, столы и прочее.
А еще будет много читать, наблюдать за небом, слушать охальных мужиков, которые путем перечисления банальных глаголов, зримо почти до осязания могут скинуть всю одежду с медсестер. А последние в благодарность поставят им (в буйных фантазиях, само собой) капельники, в которых не лекарство, а чин по чину обыкновенный медицинский спирт.
Бабушка же в это время путешествует по бесконечной родне с домашними животными. А именно со свиньей. Закупоренной в банки.
Она успеет охлестнуть простор от Москвы до Мурманска. И будет говорить об этом так:
— Человек должен обязательно отпускать себя в дорогу. А если не получается, брать за шкирку и выпинывать. Иначе сбесишься. А поездишь вот, поглядишь на всяких, прямо скажем, дураков, высасывающих себе проблемы из пальца — так станет жалко всех. Чего-то спорят, грызутся. И даже как-то неловко, что я вот королева. Мне ничего, о чем они спорят не нужно. Спаситель мне дал все. Дом ждет. Люди сердцу разлюбезные. И сад под снегом.
Она приедет в сиреневом марте, и мы попремся с ней в рыболовный магазин пополнять запасы лески и колокольчиков (да, их всегда мало). Следующим утром дядька подбросит нас до поворота на своем ПАЗе. Мы протопаем пять километров и будем пить чай у бабушкиной подружки Фаины. Они станут обмениваться вспаханными информационными полями, а я буду гонять мысли, словно конфетку за щекой, что все ледяные катки, учеба, синяки, сломанные руки, оковалки ледышек на штанах и варежках — вся эта ломкая и ежащаяся зима была лишь временем пережидания. И ожидания вот этого настоящего, когда до места заветного остается всего-то два километра.
За плотиной — татарский конный двор. Блаженный Ибрай ведет под уздцы коня. Конь блестит. Издалека кажется, что они не шагают — парят. Чуть-чуть. Над землей. В мареве. Потому что солнце и сверху, и снизу, отраженное от многочисленных ручьев и остатков снега. Сапоги увязают и чавкают, мы часто отдыхаем.
А в небе как на полках в комоде, дрожат, позвякивают от шатких половиц хрустальные рюмочки -жаворонки.
У околицы дед Куторкин будет в который раз приделывать к деревне ворота. Он так каждый год «валандается». «Во всякое волшебное пространство должна быть дверь», — умничает потом.
Летом, естественно, их снесут комбайнами, тракторами. Превратят в труху. Но разве это важно сейчас?
На этот раз вместо ворот он вкопает две пики, водрузит на верхушки шестов два коровьих черепа. Хмыкнет:
— Как индейцы будем.
Дед заметил нас издалека. И щурился от солнца. А казалось, улыбался. Или все было наоборот. Мы подошли на достаточное расстояние, Куторкин крикнул:
— А я уж, было, хотел повеситься. Между прочим, в вашей избе.
— Какая же гнида тебя удержала? — бабушка тоже была рада ему, посмеивалась.
— Да просто подумал, хреновое из меня выйдет приведенье. Говна-то во мне, конечно, хоть отбавляй. А яду мало. И ужас вселять не умею.
На ветлах грачиный шалман. Прилетели, видно, недавно. Со всеми своими чемоданами, скарбом, мужьями, прошлогодними детьми. И чего-то такое хорошее нам накаркивали.
Когда мы подходили к дому, дед сквозь гвалт шепотом пригласил меня после обустройства домашнего покататься на внушительной льдине по озеру. Я был не против.
— Три дня для тебя берегу. В кусты отогнал, чтоб не таяла.
Волчьи мотивы
Неким теплым месяцем мы, несколько заполошных придурков, сплавлялись по среднерусской реке Суре на байдарках. И заблудились. Угодили в неучтенный картой рукав. Спросить, куда ж нам плыть, было не у кого. Лес сплошной стеной подступал прямо к берегу, подмытый водами, обрушивался пиками сосен в реку, преграждал путь. Как вдруг мужик. В лодке, со спиннингом, и окунями, размером с пятерню совсем не креативного класса. В тот день мы остались у него на постой.
В доме было много книг и журналов, где превалировали издания о путешествиях. В набухших папках трескались черно-белые фотографии нездешних мест. На гвозде в сенях висела ковбойская шляпа. А перед входом на фронтоне, аккурат под крылечным навесом домиком, черными буквами древних римлян было выведено, что жизнь – это всего лишь долгая дорога. «Недохиповое какое-то пацанство», — веселился я.
С тех пор время от времени я заезжал к нему провести пару дней на лоне пасторали. Он научил строить нодью (костер из бревен), разложив которую, не окочуришься ночью в зимнем лесу, оборудовать шалаши на деревьях и многим другим полезным вещам.
Он не выпендривался. Иногда рассказывал о себе, но так — отрывками. Это была тривиальная биография советского идеалиста. В 60-е тайком от отца, знаменитого волчатника, Дураев завербовался лаборантом на ледокол «Леваневский». Ледокол прокладывал тропы во льдах Белого моря, открывая путь зверобойным шхунам. Зверобои били тюленей и бельков, обеспечивая родину шкурой и брусками мыла, которое шло под маркировкой «Хозяйственное». Шкуры с животных стягивали, Дураев изучал строение их черепов и мышечных тканей.
-Когда шхуна издавала гудок, бельки, глупые (детеныши тюленей) бежали спасаться к воде. Там-то их и били багром по башке. Бьют, а у него глаза большие, с длинными ресницами, и плачет, как ребенок.
Бывало, забавы ради забойщики снимали шкуры с живых еще бельков. Куражились, наблюдали, сколько протянет. Тогда он выходил махаться. Как-никак имел значок и замызганную книжечку боксера-перворазрядника.
Смерти все среди забойщиков, говорит он, возникали от невменяемости и человеческой дикости. Обычно добытчиков не выпускали на лед без длинных шестов. И когда кто-то вдруг проваливался в торос, он нахлобучивал на конец шеста ушанку и подымал. Со шхуны дежурный матрос замечал это и к идиоту этому высылали помощь. Частенько поднятые ушанки были не более, чем простой провокацией. Они даже устанавливали своего рода очередность, кто после кого «проваливается». Ведь охотнику и тому, кто его потом из воды вызволит, полагалось для сугреву по 50 граммов спирта. А матросу – шиш. И это было обидно. Матросы халтурили. А когда и в самом деле кто-то проваливался, то –хы-ы, помощи было ждать просто неоткуда.
В папках его хранятся мутные фото, где он с двумя ружьями у подножья каких-то сопок. После Белого моря он несколько зим добывал пушнину где-то в Подкаменной Тунгуске. Из шкур юрких песцов потом делались манто и шубки для барышень, пускающих вверх струи дыма из длинных сигарет в мундштуках, и все это непременно на глазах у какого-нибудь мэна, в ресторане с речным названием. Допустим Нева. Мэн тоже закуривал и они долго и молча, каждый со своего столика, целовались дымами.Ну, и дальше по заведенному не нами, а человеческими слабостями, плану.
— И вот, ты один там …всю зиму? – донимал его я.
— Почему один? С собаками. В тех поселках у эвенков как. Бабу увел другой – ну, и черт с ней. Собаку украдут –вертолет поднимали. Без собаки там никак. А вообще, — закуривал он, — человек там реально дичает. Путем испытаний на себе, я выявил три стадии этого. Первая – это когда начинаешь говорить сам с собой на полном серьезе. А вторая, это уже ближе к весне, когда просыпаешься ночью, берешь гвоздодер и отрываешь половицы в зимовье, чтоб обнаружить там завалящийся папиросный бычок.
Затем была монгольская пустыня Гоби. Под эгидой нешуточной организации ЮНЕСКО он с несколькими учеными различных стран Старого Света создавал там заповедник.
— Условия были блаженные. Несколько газиков 66-х с цистернами пресной воды. Поэтому мы могли прокладывать маршрут, где угодно. Там, где, возможно, еще и не было до того человека. Ведь Пржевальский, другие исследователи, были привязаны к оазисам, держались их. Тем самым нам удалось обнаружить несколько до того неизвестных науке видов медведей, верблюдов.
— А сюда чего вернулся?
— К отцу. В 87-м. Он в каждом письме крыл меня, потом винился, потом внуков хотел, и, в конце концов, уже рукой махнул.
-Тцык-тцык-тцык, — уплелся поезд по морозцу, исчезли в хмари его огоньки. У крайнего двора меня деликатно облаяла собачья парочка. Встретил незаслуженными апплодисментами кемаривший петух. Я пришел.
За тот год, что не виделись, в стане Дураева произошли вполне себе ощутимые перемены. Он отправил в Москву на учебу дочь, диковинную амазонку, которую натаскал в стрельбе, установке палаток, джигитовке. Купил дом жене в соседнем селе.
— Да, понимаешь, утром просыпаюсь – она. Днем прихожу – опять, — угловато как-то пояснял он. – Сплошные штампы. Есть своя дурацкая телега, как надо. А если эта телега вдруг свернула не на проторенную дорогу – звездец, ты меня не любишь.
— Хе-хе, — говорит дед Фролов, гостящий у него третий день. – А сам в район, к училке одной шастал. Морду набил ее хахалю. Еле откочали. Хотел на Иваныча заявление писать.
Иваныч сопит.
— Дед, я уж в том возрасте, когда вся эта любовь переходит в состояние как бы сказать платоническое. И переход этот, бляха-муха, не менее тяжек, чем переход Суворова через Альпы. С одной стороны – французские стрелки. С другой – скользко и невозможно остановится, летишь с горы. Хочется лететь, перехватывать дух, но ты ведь давно уже знаешь об опасности этих полетов.
Дед подвалил себе еще сахару в чай, прихлебнул с шумом.
— Оказывается, как тяжело с тобой, Иваныч, — покачал кудлатой башкой. – Вот гляжу на тебя порой и думаю, все ж дикий ты человек. Хотя – согласен, живешь, и все время кажется, не так и не с теми. Но ведь между нами говоря, ни у одной нет поперек, у всех вдоль, — зашелся он козлиным хохотком
-А ты экстремист, дядь Коль, — заулыбался Дураев.
— А то, — вскинул старик бороденку. Мы с батьком твоим, знаешь как, бывало, дело ярились. Хотя не об этом щас… Я все туда же, пока ты тут чаи бухаешь, почтальонша говорит, у Нюры Кучиной собаку прямо с будкой утащили. Будку на задах нашли, собаку – у леса, дохлую всю.
— Породистая? – поинтересовался я.
— Ризеншнауцер,бля, — звонко хлюпнув кипятком из кружки, всполошился дед. – Ты во грех-то зачем пожилого человека вводишь? Дело-то совсем не в том. – Волки задолбали. В этом году, такое ощущение, стаи три тут рыскает. Лет уж шестьдесят не было. Ну, как вон Иван отец его дом здесь срубил, потом сам охотился. А тут они прямо к деревне подходить стали. То ягненка утащат, у Феди индюка из сарая увели.
– И жирафа, — с ухмылкой продолжил Дураев. –Откуда у твоего Феди индюк?
— А на прошлой неделе дети шли из школы, а два переярка так рядышком вдоль посадок семенят. Те-то сначала подумали, собаки. Но потом Димка Михеев всмотрелся, да не, не собаки это. Девки в слезы, а он хоть и малой, бестолковый двоишник, сообразил, фонариком стал на них светить. Они отбегут чуть в сторонку, сядут. Но совсем не уходят. Вот мы и канючим у Иваныча, чтоб застрелил.
— А он?
— Он. Он долго больно запрягает. Все чего-то ходит по холмам, думает.
К вечеру Дураев уехал на своей «Ниве» как он выразился дежурить, мы с дедом остались домовничать. Я чистил снег, носил поленья, звенящие от стыни, точно селикатный кирпич. Старик готовил какое-то мудреное блюдо в печке, орудовал ухватом. Обжигался, хватался за ухо и зачем-то скакал на одной ноге. Тепло было и из чугуна шлепало.
— Ты слыхал, как Иваныч один раз голыми руками волка взял?
— Откуда?
-Серьезно тебе говорю, — оживился дед, как оратор нюхом чующий свободные уши. — Волк он умный ведь, башковитый, да. Бывает, слышь, весь день плутаешь за ним. Уже, как прокурор, все про него знаешь. А возвращаешься домой пустой. Ну, и вот, значит. Зимой дело было. Снег выпал. Волк, как я уже говорил, извини меня, хитрый падла. Ночью-то промышляет, а под утро дрыхнуть идет. Обычно в лесу не ложиться, больно много шумов посторонних. Выберет себе место на опушке где-нибудь. И если его никто не тревожит, так всю зиму туда и возвращается. Место так и называется, лежка. Снег даже форму принимает его тела. И вот чешет Иваныч, как вдруг матерый метрах в пятидесяти морду свою подымает. Из лощинки такой. На него прям в упор глядит. И то ли он слепой совсем был, то ли вымотался за ночь… в общем, опять лег. Ага, думает Иваныч, вон ты где затаился. И поехал тихонько. А главно дело, удачно как было, ветер в рожу ему, с его, то есть, стороны-то дул. И вот когда уже шагов пять всего осталось, он возьми и морду свою подыми. Охотник смекнул: ружье с плеча снять не успеет, и прыгнул прям на ходу с лыж. Он, конечно, обезумел сперва, что это за слон на него свалился. Но потом рычать стал, в руку ему вцепился, ты глянь когда придет, шрам у него тут вот. А вторая-то рука у него, слышь, свободна. Он ей достал бечевку из кармана и пасть-то ему связал, сомкнул по-русски говоря. И этой же веревкой ноги опутал. Так и приволок живого. На цепь посадил. Тот все кидался, рвал ее, грыз. Но куда там. Этой цепью Иваныч быка трехлетка привязывал, когда они еще со своей-то жили. А на следующий день в охотинспекцию позвонил. Возьмите, говорит. Стыдно ему было признаться, что грохнуть его не может теперь. Волку нельзя в глаза смотреть. Иначе все, жалеть начнешь. А Иваныч поглядел. С тех пор – все, как отрубило.
«Врет, конечно», — думал я про себя. — Но как изящно!» Я одарил деда сигаретой. Приехал Дураев. Вечером сидим у синеющего окошка. Дед ушел к однополчанину через три дома.
— Я и без их индюков все знаю. Три стаи, блин. Че там мелочится. Шесть. У одной деревни.
— А что не так?
— Да даже две стаи перегрызутся тут. Конечно, одна. Я их еще летом засек, за Сурой, у балки. Матерый с драным загривком, волчица, три или четыре переярка и три мощных двухлетка. Но что так близко подходить начнут, не думал. Они, конечно, первые не нападут. Но дети. Могут спровоцировать.
— А кто регулирует популяцию?
— Кто, кто. Закон. Норма численности волка установлена приказом Минприроды Росси от 30.04.2010 0, 05 особей на тысячу га. Дальше уже охотпользаватель за которым закреплена территория, общедоступные угодья, сам думает. Кроме этого, абы кому охотиться на волка не дадут. Это нужно либо в бригаде облавой, либо с опытным волчатником. Так на бумаге. В действительности же везде по-разному. У нас не было их давно. Тут одна газета увязала приход волков с политической смутой. Мол, всегда так. На самом деле все простой гундеж. Просто нет мотивации у охотников. Да и не каждый охотник его возьмет.
— А раньше? Премии были?
— Они и сейчас вроде как есть. Но столько бардака в их получении. Некоторые убивают волка просто так, случайно попался. Мол, на следующий год дадут бонус. Лицензию на отстрел копытных. Но, сам знаешь, как это делается. Кто ближе к кормушке, тот и…
Бездумное снижение особей в стае (обычно в результате отстрела) запускает иной механизм. Вместе со старшей самкой начинает размножаться одна из молодых.
Если совсем убрать из экосистемы волка, нишу займут бродячие собаки или гибриды волка и собаки. Тогда воевать с такими стаями еще сложнее. Они опаснее, поскольку собаки не боятся человека, их не пугает огонь свет.
— Во всем нужна мера, — говорит Дураев. – А русская мера, как известно, два ведра.
Три дня я катался на подаренных мне Дураевым лыжах по лесам и перелескам. И что это были за лыжи! Болиды! Норвежцы слюной изошлись бы, если б увидели. Я сигал с холмов, задыхаясь в морозном мареве, наблюдал оленей у кормушки, дятла и даже куницу. Но волков не встретил.
— Хм, — сказал на это охотник люди чаще оказываются ближе к волкам, чем они думают. Я почти уверен, что каждый человек, бродящий по лесу, мог пройти на расстоянии пятидесяти метров от волка и даже не догадывался об этом.
По словам Дураева, у волков, очень развита неофобия (боязнь нового). Но благодаря своему уникальному социуму, они даже способны к изучению. Да, можно, убежать с глаз долой. Но лучше присмотреться, как то или другое явление обратить себе на пользу.
— Китайцы, одним словом.
Губы Дураева скривились в снисходительной улыбке.
— Я не только убивал их. Но и изучал тоже. Однажды вошел в контакт с одной стаей в Монголии. Ходил к ним без оружия. И, в конце концов, они ко мне привыкли. Я оставлял им на тропе мясо, всячески показывая, что не опасен. И вот однажды в одном из распадков случайно наткнулся на медведя. Когда я его заметил, делать что-то уже было поздно. Я не помню толком: закричал или он какие-то звуки издал, волки услышали и бросились. Матерый подошел, ощетинился. Один удар мишки мог бы вспороть брюхо серого от горла до хвоста, но он взял его за пятку, потом остальные подоспели. Тогда я задумался, что такое альтруизм. Дурость или реализация все-таки биологической потребности? Ведь, что будет дальше, об этом зверь не подумал. И тогда я понял: все, что мы имеем, чем гордимся в газетах, — это не мы придумали, это все оттуда идет, — кивнул он на лес за окошком. Хотя, само собой, глупо все очеловечивать, антропоморфизировать, извини за просторечное выражение. Но вот еще интересная деталь. От человека волчат эти звери почти никогда не защищают. Понимают, что лучше остаться производителю, чем всем сгинуть. И это приобретенное, так сказать культура. От любого другого зверя защищают, от рыси, кабана, даже от медведя. Человек – инопланетянин для них. А может, они для нас, — сощурился он Иваныч от «беломорного» дыма.
Только вечером, когда после чая, мы выходили на улицу дышать, от реки доносились их серенады.
Ветра не было, поле за огородом прекращал лес, а над ним, точно забытый фонарь в туннеле, висела луна. Когда с елки срывалась снежная шапка, она падала медленно-медленно, рассыпаясь в пух.
— От канитель какая. Во выводит. Аж до мурашек, — шептал дед. – У тебя мурашки есть? — толкал он меня и убеждаясь, что все в порядке, продолжал.
— Слышь, как милуются. Это у них такие прикосновения. Шашни.
Дураев молчал.
Он еще утром закопал десантный маск-халат в снегу у сосны. Осмотрел патроны.
— Меня-то возьмешь? – спросил я.
— Не желательно, конечно, — усмехнулся он, — но ты ж попрешься. Не добудем – так попугаем.
— А деда?
— Не, он пусть дома, щи варит.
Все три дня дед спал на печке. Акустика там была отличная. И казалось, это не дед храпит, дракон из Поднебесной приехал.
— Идешь, — тронул меня за рукав уже одетый Дураев.
И дед пробудился.
— Вообще, не сплю на новом месте.
— Ага, только труба чуть не рухнула.
— Да? Может, и забылся на минутку.
Мы напялили валенки и вышли. Холодными были окна, освещенные, как лужи после дождя, уходящей луной. Ни дыма не было, ни лая собак. Мы шли, положив лыжи на плечи.
За околицей встали. И Дураев зашагал классическим ходом, я – в спину ему, след в след. Поначалу было весело даже. Глядеть, как он, пригнувшись, сигает с горок. Как телемарком огибает кустарник, а затем тормозит, исполнив христианию.
Взобравшись по насыпи на шоссе, мы остановились. Тут вдруг охотник упал на колени.
— Скидку сделал. Метра четыре. Не слабо, — бубнил Дураев.
По всему выходило, что ночью матерый подходил к деревне. Поживиться там ничем не удалось. Волчица ждала его, на опушке, где выступающий французской треуголкой лес зализывало снегом поле. Матерый дошел по большаку до этого места и совершил в сторону умопомрачительный прыжок. Затем попятился задом к волчице.
Уже совсем рассвело. Пейзаж вдалеке казался вязаным. Крупной белой шерстяной нитью. Ударил по сухому стволу дятел. Запели синицы. Елки сменили сосны, далеко раскинувшие свои лапы. Для прохода Дураев отгибал их далеко, а потом нимало не заботясь обо мне отпускал. Лапа хлестал по глазам, а сверху, распадаясь, летел, подсвеченный низким солнцем какой-то даже праздничный снег.
— Зайца взяли, — сообщил Дураев.
Беспорядочное скопление следов поведало ему несколько последних мгновений из жизни русака. Сначала он петлял, как водится, скидывал круги один за другим. Потом решил вернуться к одной из своих петель, однако здесь, под кустом его поджидала волчица. Он повалился на спину и стал обороняться длинными задними ногами. И тут подоспел матерый.
— Значит, сыты, — сказал Дураев, и не понятно было, удовлетворенно или как он это произнес.
В полдень мы вышли к оврагу. Дураев достал из-за пазухи бинокль.
— Стой здесь, — приказал он мне. – Погуляй пока.
И потерялся между стволов.
Стоять истуканом было нелепо. Лицо мерзло, за шиворот сыпалось. И я плюнул на его указания. Съехал с горы и пошел вдоль незамерзшего ручья. Добрался до поворота, осторожно выглянул из-за него, Дураева нигде не было, только вода лепетала в ручье. На верхушках полыни, как бубенчики, раскачивались синицы.
Я шел и шел. Вдруг над головой с вершины оврага раздался свист. Потом крик:
-Беги, беги, б..дь!
«Какого хрена», думал я. «Кто это? Кому? Зачем?» И тут жахнул, обрушенной крышей посыпался вдоль ручья выстрел. Что-то серое, едва не сшибив с ног, метнулось мимо. Я стоял как вкопанный и ничего не соображал.
Посмотрел на вершину оврага, по насту сползал на боку мертвый волк. Показалась шапка Дураева. Зверь остановился на половине пути, охотник вышел из лыж, съехал на пятой точке, и толкнул его в бок. От волка шел пар. А на другом склоне тоже барахтался человек, лыжи он держал в руках, борода была в снегу. Это был дед Фролов.
— Дядь Коль, не обижайся, но ты гондон, — только и вымолвил Дураев. Когда он прикуривал, в пальцах его заметен был порядочный тремор.
Волк лежал на боку, под ногами. В еще не остывшем глазу его отразилась пролетевшая птица.
— Иваныч, сам понимаю, что мудила старый. Черт меня дернул заорать.
— Черт тебя дернул пойти, — сразу же еще одну прикурил Дураев. Его колотило.
Покадрово дело было так. Когда мы ушли, дед Фролов запрыгнул в лыжи, коих у охотника на биатлонную сборную от юношей до мастеров, и шел с нами параллельно. Потом с опушки он заметил вчерашние следы. Оказывается, Дураев уже давно обнаружил эту лежку, и зашагал, но не по ним, а по противоположному склону. Вдруг последний момент, говорит он, у него помутился разум и он засвистел, хотел волка спасти. И тем самым оказался в прямой зоне выстрела. Короче говоря, то, что он сейчас стоял с нами рядом, было чистой случайностью.
Волков было двое, матерый и самка. Дураев хотел поднять их с лежки. По его словам, они бы обязательно спустились в овраг, и шли ручьем. Он с торца планировал обогнуть, и выйти у конца балки. Тогда бы удалось пропустить волчицу вперед, а матерого стрелять. Волчица бы закрутилась, ошалела, и второй выстрел был бы ее.
Но все получилось как есть. Волк ушел.
Отдышавшись, Дураев приготовил жердь, обмотал волчице ноги, и мы потащили ее, как в Африке носят льва. Жалости не было, только пустота и ломота в глазах от переливающихся полей. Дед плелся сзади.
Когда мы шли по деревне, выходили люди, поздравляли.
— У-у, вражина! – издалека негодовала Жданова баба Нюра, у которой этой зимой пара утащила из овчарни ярку. – Зубы-то, зубы. Прям не зубы, а шилья.
Мы останавливались, отдыхали.
— Йех ты, гляньте, она брюхатая, — поджав губы, сказала завфермой Котова Зина.
Волка затащили во двор. Кот ощетинился и не пошел в дом.
Дураев позвонил охотинспектору, и пока не окоченела, стал освежевывать у сарая тушу.
Издалека, от фермы, донесся громкий, не сдерживаемый, смех женщины.
Под вечер нас с дедом Фроловым пригласили на день рожденья той самой завфермой.
Вернее, пригласили-то всех, Иваныч не пошел.
— Милок, осаживай, осаживай самогон-то. Запивай кваском, — говорила мне баба Нюра Жданова.
Я осаживал и наливал снова. Тошнило, и тогда я выходил осаживать во двор. Когда прислонившись к шершавой доске, закрывал глаза, там, точно поплавок после первой еще весенней рыбалки, стояла, вернее, лежала на боку эта чертова волчица. И птица, отразившаяся в ее глазу, летела куда-то.
В душной избе тетеньки затягивали несколько раз что-то озорное да разухабистое, но сбивались. Не шло. Потом включили Марину Журавлеву. Пахло салатом оливье, разлитым по клеенке спиртным и квашеной капустой.
Под столом скотник Федя, король доярок, а по совместительству мерзкий рыжий тип, тискал полнаватую почтальоншу Нину.
Она мочила краешки губ в стакане, а мокрым взглядом шептала «Давай не здесь. Потом.»
Федя скалился, предвкушая.
-Херово одному, дядь Коль, да? – буровил он деду Фролову, не вынимая руки из тепла Нининых ног.
— Так и вместе, Федя, бывает, что взвоешь. Жизнь прожить – не вечер про****ить, — задумчиво сказал, всматриваясь в дно стакана, как в ядро Земли.
-Тебе скоро отъезжать, да?
Дед понял не сразу, помолчал:
— Сегодня чуть не отъехал. Но отпустил начальник. Еще чуток дал погулять.
— Ладно, не думай, дядь Коль, ты и там слесарем будешь.
Фролов хмыкнул.
— Может ты и прав. Поди, там и лучше? Но ведь никто не позвонит, не расскажет и не напишет…
В ту ночь такое распахнутое и близкое было звездное небо, что мы долго ворочались каждый на своем месте, и никак не могли уснуть.
На реке. Пять утра.
Барышня в наколках, поблескивая пирсингами в разных частях тела, входит в гладь совершенно голая. Я из вежливости отвернулся. Вдруг из кустов мужицкий возглас:
— Деушка, вы б с железяками своими далеко не заплывали, а то тут щука хорошо на блесну берет.
Она рассмеялась, но поплыла.
Vladimir Lipilin
 железнодорожное
железнодорожное
Мой поезд через сорок минут. У деревянного бока станции цветет сирень. И козы, встав на задние ноги, мягко срывают цветы той сирени одними губами. Оглядываются, озираются, а потом, опустившись, прищуривая глаза, уплетают. Наглые такие.
— Так уж и не делают, — говорит мне начальник станции. – Не по-русски это, — продолжает чистокровный мордвин.
Май. Выходной. Земля обновки меряет. Я выспросил у начальника все, зачем приехал.
А он рассказал.
И про генерала, зятя жены Пушкина, и про спиртзавод, и про табуны лошадей, усадьбу и чудачества. Про то, как вообще-то железки тут быть не должно. По плану ей пролегать бы в пятидесяти километрах. Но генерал имел связи, подсуетился, надавил. И рельсы пришли прямо к дому.
Он рассказал, я пожал ему ладонь и собрался уезжать.
— Так уж и не делают, — повторил он. И посмотрел так пронзительно, как будто я мог что-то в его судьбе поправить.
И как-то невежливо было обижать человека.
— Тут у нас кафешка открылась, — предсказуемо оживился начальник станции. – Ну, как кафешка, шашлычная. Там бильярд.
Действительно. Где я мог еще в бильярд поиграть?
Чтоб далеко не бегать, бутылку ноль семь,прямо как помещики, поставили на маленький столик с длинной ногой. Столик потом оказался пюпитром. Запрокинувшим голову. То ли от удовольствия, то ль по пьяни, когда раз башку — а там звезды, и отчетливо понимаешь, что земля крутится.
Играли мы самозабвенно и вдохновенно. И хозяин кафе расчувствовался. Учредил и немедленно выдал нам приз в виде еще одного стеклянного пузыря.
Потом были какие-то телефонные разговоры, где мелькали слова «баня», «журналист», «наш человек», и далее по-мордовски, неразборчиво.
Бревенчатая баня стояла на холме. И если выйти за нее — открывалась красивая панорама. С изгибами рельсов, тускло мерцающих в дымном закате (весна же-все чего-то жгут), маневровыми тепловозами, паутинами- проводами надо всем этим. Соответствующими звуками вагонных сцепок и гудков.
Но чтоб за баню попасть, нужно было дойти сперва до нее. А на цепи — пес, не какой-нибудь чахуахуа, а самый что ни на есть волк.
Хозяин бани пса негодующего придержал. Мы прошмыгнули.
— Зверюга, — не без гордости отрекомендовывал банщик животину. – Соседская курица ошиблась дырой, он ее прям в клочья, в самый настоящий хлам. Сам его порой боюсь.
Минут через тридцать я в плавках и длинной до пят железнодорожной шинели, сидел на корточках возле того пса и дискутировал о превратностях жизни. Обнимал его, чесал за ухом. И он меня на тот момент отлично вполне понимал. Поскуливал.
Мы играли в предбаннике в карты, запивали чем-то вяленого леща, а лещ, будто подмигивал нам прищуренным глазом: «все нормально, пацаны, Крым наш».
Начальнику станции то и дело звонила жена, он честно обещал, что в одиннадцать будет. Так продолжалось пока не настало двенадцать.
А в четрые утра я поливал его, лежащего пластом на палатях, из шланга холодной водой, а он пел, что паровоз наш куда-то там летит.
Потом мне удалось все ж прикорнуть. В восемь начальник станции пришел откуда-то в рубахе, галстуке и с чемоданом. В чемодане что-то каталось и погромыхивало.
— Меня жена выгнала, — сообщил он.
-Круто.
— И не говори! Вот, нах, с вещами, — потряс он чемодан. Там опять громыхнуло, скатилось.
Я оделся.
Мы спустились к путям, перешагнули рельсы и направились вдоль них к железнодорожному высоченному светофору.
— В Москву? – почему-то спросил я.
— В Куалу-Лумпур, епт, — выговорил мой спутник. — Пока к начальнику пожарного поезда. – А там — как пойдет.
Начальник пожарного поезда, усатый и пузатый дядька, обитал в старинном одноэтажном здании из бордового кирпича. Внутри было прохладно. В стекле жужжала муха. На столе с зеленым бархатом громоздились массивные черные телефоны.
Станционный смотритель толкнул их чемоданом, щелкнул двумя застежками.
«Вещами», с которыми его выгнала жена, оказались бутылка водки и лимон.
Я посмотрел на портрет Маркса, что висел на стене. И клянусь, что Карл Генрихович сморщился, как от пронзившей его внезапно боли.
Мы разлили по стаканам. Потом еще раз. Мир медленно, как на фотобумаге при мокрой печати, становился пригодным для жизни.
Поезда моего в этот день не было. Можно было уехать только из точки, которая в тридцати километрах. Но я почему-то не переживал и не парился.
Я придумал, что надо станционного смотрителя с женщиной его помирить.
Он сначала был горделиво против, но затем помягчел.
Мы шли по летнему уже поселку с напрочь пустым чемоданом, и рвали, просунув руку в проем штакетин, чужие тюльпаны. Но не наглели. С каждого поля по одному.
Пока дошли до дома, сформировался вполне себе внушительный букет.
Железнодорожник постучал в синюю калитку. К калитке гвоздями была приделана летящая чайка.
На стук вышла жена. Станционный смотритель упал перед ней на колени и протянул цветы.
— Дуралей, — поворошила она на его голове седые волосы.
Мы пили чай, беседовали, я напомнил, что мне все же пора. Железнодорожник куда-то позвонил и минут через двадцать к дому подъехал буханкой уаз.
По борту его, в пыли, бежали буквы «Психиатрическая помощь».
— Ну, извини,- развел в сторону руки начальник. – Другой не было. Праздники, блин.
У машины он обнял меня и уронил слезу:
— Ты это, — сказал хрипло в ухо, — только уж на день железнодорожника обязательно приезжай. На рыбалку съездим. С ночевкой. Во такие лещи у нас. Во такие, — раздвигал он свои экскаваторные ручищи.
Как удивительно иногда в закромах родственников обнаружить покоцанную фотокарточку предков. Словосочетание «охватывает трепет» здесь ходит пешком по сердцу, треплет ветерком как газету.
Вот прадед с прабабкой.
Прадед был человек мягкий, добрый, но боженька наделил его разумом и острым языком. Когда отправлялись на войну, в его обозе сразу пришли в негодность оси на нескольких телегах.
— Ебана советска власть, — сказал прадед, даже на войну нормально проводить не могут.
Добрый был не только он в том обозе. Вместо войны, прадед отправился на семь лет за колючку.
— А могли просто пристрелить, — как-то даже с удовлетворением отмечал впоследствии он.
Прабабка была не очень работящая, но веселая и разбитная. Детей рожала, как пирожки пекла. С песнями и без неуместных телячих нежностей.
Прабабка в отличие от прадеда любила употребить. Была у нее подружка – владелица лошадей в прошлом и по совместительству колдунья. Колдунья курила трубку. Утверждала, между прочим, что сам писатель Горький подарил. Что, впрочем, с ее мытарствами по стране и связями, было вовсе не исключено.
И вот ввечеру под стогом сена они любили с прабабкой чинно посидеть и плескать из четверти в стопки, говорить, иногда плакать. К полуночи бутыль приканчивалась. А утром же корову доить. А прабабка же с печи слезть не может.
Тогда прадед заводил корову прямо в избу, ставил под нее собственноручно соструганную скамеечку и снимал с печи прабабку на руках. Пока она доила, он гладил ее по голове и приговаривал:
— Заеба ты моя грешная.
Любил!
Китайская элегия
Пили, как водится в тупике за вокзалом. Сидели на рельсах, подстелив газеты. И не вспомнить теперь: октябрь был, ноябрь ли? Помню только снег, снег и какую-то неконтролируемую тоску, оттаявшую от яблочного вина, как в осенних лужах палые листья.
Глядя на запорошенные поезда, Витька Мишкин написал стих:
Как свят был мир, когда была весна,
Была прекрасна жизнь обыкновенная.
И так легко поверить: пей до дна
В любом стакане плещется Вселенная…
Я пошел за пивом для «догонки», но зачем-то взял билет до Питера, а потом вышел в городе Эн. И вовсе не по-пьяни, нет. Просто мы все тогда считали себя испытателями жизни. Дурачились, куролесили. Один мой товарищ, как-то испытывая эту жизнь изрядно поддавши, угнал в Самаре асфальтоукладочный каток и поехал на нем к своей девушке в город Тольятти. Гаишники перехватили его.
… По перрону, будто песок сквозь пальцы, пересыпал ветер поземку. Я поднял воротник и пошел бродить по городу.
Темнело. На трамвайных путях, щурясь от фар проезжающих машин, сидел черный котенок, облизывал белую лапу. Я махал на него руками, он не уходил. Подошел и стал искать,где у него шкирка. Чуть завалившись набок, выкатился вагон из-за угла. Звенел,звенел. А такое бывает, когда на тебя летит автомобиль, или поезд, ты превращаешься в застывшего в ступоре дебила. Несколько созвездий взметнулось из-под железных колес.
Из вагона выскочила девушка, сползла по фарам на корточки и заплакала. Я нес какую-то чушь, про то, что вовсе и не хотел кидаться под колеса. И что вообще-то я отличник строевой и тактической подготовки, чуть не соврал, что майор.
… Котенка я выгодно обменял в кафе на бутылку пива.
— Продай, — предложил мне армянинин-шалычник. — Именно такого, красного, у меня и просила дочка.
— Он же черный, — возразил я.
— Ай,не толерантный ты,брат, совсем не толерантный. В лампочке же красным отливает, э!. Я согласился.
Девушка заканчивала смену в одиннадцать вечера. Я ждал ее у депо чуть пьяный (и больше от приключений), но с белой розой.
— Ты часом не с Луны свалился? — спросила она.
— Мой дом с ней где-то рядом, — тупо шутил я.
Потом были конфеты из коробки, вино во дворике, катание с ледяной горки. Ходили в магазин за мороженой вишней. Упали в снег и разглядывали летящий между звезд спутник. Тогда я так делал, да, был строен и романтичен.
— Я сегодня у подруги ночую, — сказала она. — А так в Шанхае живу.
— В Китае, что ли?
— Да нет, тут недалеко, за Окой. Просто там китайцы когда-то бараки строили.
Я проводил ее в арку. Во дворе у дерева стояло запорошенное снежной трухой пианино.
— Еще в сентябре кто-то выкинул. В морозные ночи у него лопаются струны, и тогда получается музыка.
Она смахнула с крышки снег, перебрала клавиши:
— Ты когда уезжаешь?
— Ночью. Меня там с пивом ждут.
— Жаль, — сказала просто. – Как-то в этом мире все.., — пыталась подыскать нужное слово, лепила варежкой снежок, а он рассыпался, не поддавался. — Глупо как-то все, запутано. Почему нельзя просто: жить, жить, жить?
— Почему? Можно, — возразил я. — Но недолго.
— Ладно. Извини. Не броди больше по рельсам. Они часто идут по кругу.
Билетов не было, и не уехать. И снова я шатался по городу. Говорил со стариком, сторожившим баркасы. Пил с мужиками в забегаловке. Узнав, что я журналист, они наперебой стали советовать:
— Ты про эту, про Нинку из буфета напиши, у нее знаешь какие сиськи. А-а-а, извини. Тогда про Коляна. Он один раз на тракторе через реку по единтсвенному бревну проехал. Ну, влупиздень, конешно, был.
…Следующим днем я шел к телеграфу, и увидел ее. В проводах дирижировала метель.
Девушка ладонью заслоняла розу от снега, но он все равно падал и, оставляя холодные капли, таял.
— А ты говоришь трамвай, — сказал я. – По кругу.
— У меня сегодня первая смена, — разглядывая снежинку на варежке, смутилась она. — Вот … А роза не вянет.
И я остался.
У нее были щенячьи глаза и пугливые губы. В пустой электричке, на которой мы мотались в один городок. В кинотеатре, где только для нас крутили «Девушку на мосту». В санях, в которых ехали под вечер через реку-Оку обратно. Возница беспрерывно курил и качал головой: «Ишь, веселые какие». И будто опомнившись, дергал за вожжи и притворно, без злобы орал: «Но паскуда! Понеслась манда по кочкам».
Потом был казахский поезд, вагон-ресторан и акын, играющий что-то заунывное и степное. Я пил из пакетиков «Три в одном» то что почему-то зовется кофе и рвал на мелкие кусочки ее адрес и телефон. Потому что знал: ни через день, ни через год не позвоню и не приеду. Лучше, чем было — все равно ж никогда не будет.
… А утром (спустя три дня) я принес в редакцию пиво.
— Ни х…я себе! — возмутился фотограф. — Ты за ним в Китай, что ли, ездил?
Барахла. Точка. Нет.
«Барахолка» — выговаривает театральный художник Сева расслабленно, с негой, как будто перекатывает леденец за щекой. Это профессионально-театрально-напускное, чтобы, узрев вещь по всем канонам редкую, с видом пресыщенного знатока сторговать ее за копейки. Но и продавцы ни разу не профаны. Их взаимная игра исполнена глубин и этюдов. Больше, чем шахматы. Очень теневой театр.
Долгое время блошиное хозяйство помещалось у подмосковной платформы Марк. Теперь переехало. В Новоподрезково. И мы туда тащимся. Утро. Рань несусветная. Под подошвами хруст ледяной крошки — результат предсмертного полета сосулек; вниз головой, очумев от весны. Темно еще совсем. Электрички, трогаясь, набирают скорость с воем, потом точно кинопленки отматываются назад. Предвкушение — сладко-горькое. Как от предстоящей поездки туда, где когда-то было тебе нечеловечески хорошо, и лучше уже не будет. Но ты все равно прешься.
Мой спутник говорит, что приезжать на такие рынки надо именно на рассвете. Тогда больше возможности зацепить «вещицу реальную». Тут, как на рыбалке, можно быть ушлым и пройдошным, иметь цепкий глаз и навык, а вещица уйдет к тому, кто в ней не смыслит и не нуждается — так просто купил. «Хлам» удивительно притягателен.
Прожженые «винтажники» одеваются по обыкновению неброско, даже с некоторым налетом бомжеватости. Впрочем, среди втридешева торгующих дедов и бабок с отточенными, как лезвие, языками попадаются фигуры подставные, одетые, напротив, почти празднично. Нанятые каким-нибудь мастодонтом- старьевщиком, они шерстят московские помойки, разбираемые дома, общение с клиентом в стиле давилова на жалость или выставления себя полным дураком.
Мы хрустим леденцами. Продавцы уже разложили-свалили свое добро на прилавочки или прямо на изрезанные выцветшие клеенки, на коробки от телевизоров, стиральных машин. Барахло подсвечивается лампочками и фонарями на керосине.
«Блошка» это очень странное место. Здесь есть вещи, которые никогда купить, и ни за что не сделать. Потому как над ними потрудилось время. Его прямо видно. И на ощупь — оно в трещинах и сколах. Наипростейшая машина времени. Я вспоминаю кучу вещей, забытых уже навсегда, погребенных в обывательских слоях памяти. Здесь они вдруг всплывают на поверхность сознания как ни в чем не бывало, ровно такие, какими были забыты.
Наши дорожки с Севой расходятся. Он любит толкаться один, у него свой подход, ну, или он так думает.
Светает. В воздухе запах облаков, пришедших с каких-то морей. Вдыхаешь – вздыхаешь – весна опять, весна. Она без повторений.
Опять же вот дед. В нагрудном кармане — чекушка, иногда он достает ее бережно, как птицу. «Поит» изо рта. Мы — не пьющие, просто — ранимые. И — чуткие.
На импровизированном прилавке — болотные сапоги, несколько френчей цвета хаки и такие же фуражки, как у Фиделя. Запах — сундука или прелого сена.
— Твой размерчик, — подмигивает дед, не выпуская цигарки изо рта, выхватывает за пустой рукав одежу. — Ненадеванный почти. Я в нем только в шестьдесят третьем году женился, а в шестьдесят пятом уж тещу хоронил. Представляешь, как повезло!
Недосказанность тут коронка. Каламбур — азы.
Перед глазами сразу же картина. В таком вот облачении ездил я на картошку на первом курсе универа. Теплыми, прям парными сентябрьскими вечерами встречались в овраге у ручья, за старой баней, топившейся когда-то по-черному, с учительницей Олей. В школе у Оли был один ученик и много свободного времени.
В последний урок я поджидал ее на крылечке, раглядывая китайскую неугомонность муравьев.
Когда мы уходили, единственный ученик с деревенской деловитостью кричал нам в след.
— Намни ее. Побольше намни. А то спасу нет.
В овраге козырек фуражки паскудно мешал целоваться.
Дальше идем. Иностранец.
В толпе они до сих пор вычисляются на раз. Тушуются, ведут себя растерянно. Вот один интересуется у бабки насчет кукол.
— А вот так если ее повернуть, — без умолку твердит смачно нагруженная косметикой дама, — «мама» говорит. Слышь? Ну, муттер по-вашему.
Йес, йес, — с блуждающей улыбкой на лице твердит покупатель.
Цены ниже смешных, — рекламирует свой товар бабушка с лицом легендарного режиссера Театра на Таганке. — Все по 10 рублей.
На клеенке у старушки — джинсы, натертые кирпичом, клетчатые рубашки, старый плащ из болоньи, шлем танкиста с вырванной из уха рацией, примус, фонарь «летучая мышь», кипа журналов «Техника – молодежи», перевязанная грубой бечевкой.
Когда-то такими же бабушка растапливала печь. Один из них, аж за 60-й год, помню отчетливо. Статья в нем поразила меня тогда в самое сердце. Это казалось невероятным. Там описывалась маленькая пластмассовая коробочка, которая позволит устно и письменно общаться со всем миром, — по-нынешнему банальный мобильный телефон с функцией SMS. Что эта коробочка будет еще и фотографировать, и записывать небольшие видеоролики, не представляли даже фантасты. Выдумка все ж должна обладать достоверностью…
Уже многим позже, когда сотовые появились, действительность оказалась, как обычно, проще и сложнее этой самой выдумки. Но что есть, то есть: маленькие пластмассовые коробочки вот они — звенят и жужжат из всех сумок и карманов.
Дальше — канделябры с сосульками парафина, чайник со щербинкой, стопка вымпелов «Ударник Социалистического Труда», амбарные замки, бюсты вождей и виниловые пластинки, вышедшие из употребления видео кассеты и диафильмы. Стереорадиола «Симфония» из ценных, однако поддельных пород дерева, с легко отклеивавшимися от сердцевины динамиками, отчего житель демократической Германии Дин Рид пел хрипло, прямо как досточтимые Леонард Коэн и Джей Джей Кейл. Фотоаппарат «Смена-8 М» со встроенным — невероятно! — электронным экспонометром, требующим для работы пальчиковые, именно пальчиковые батарейки, которых в продаже почти никогда не было.
— Парень, купи портфель, — прощупывает меня взглядом дядька с золотым зубом посередке рта на одутловатом личике. — Желтый, мятый, как у Жванецкого. Будешь на работу ходить весь такой деловой.
Зуб светится, дядька улыбается.
Как альтернатива — кипы портретов с советскими артистами. Почти новенькие. Откуда?
Память — штука сопливая, сентиментальная. Она имеет избирательную природу и беспощадно выкидывает в форточку прошлого вещи грубые и позорные. Ушедшее мифологизируется, появляется налет мейнстрима, попсовости, что ли.
Да, мы часто пребываем в плену своих представлений об этом прошлом. Ну и что? Мы просто хотели бы рассказать детям, внукам то, что, по сути, рассказать невозможно.
Как на такой же вон точно обтекаемой машинке с фарами, величиной с чебурашкины глаза, ты в детском саду обогнал (ну, подрезав немного), бешено строча педалями, самого Жендоса Володина, дубасившего всех подряд. И как после этого он стал относиться к тебе даже уважительно. Никто не влезет в твою шкуру, да и надо ли? У каждого свой каскад ассоциаций. Такое «кино» придумать невозможно.
Актеры, лежащие в стопке на прилавке, кажется, говорят о жизни больше, чем тома учебников истории. Попробуй рассказать теперь, как они играли. Какая жизнь была в то время. В тех картинах ведь даже воздух другой. Многообещающий. И пусть многое из этих обещаний, назначенных нами самим себе, не сбылось. Но движение к ним было бесконечно прекрасным.
Мы еще могли наслаждаться и гордиться тем, как проникновенно некоторые из нынешних артистов понимают своих персонажей, как сживаются с ролью, не щадя личных душевных сил. А старшие все равно сомневались в том, что эти наши ощущения по остроте и силе вровень тем, которые вызывали у них третий в стопке Олег Борисов, за ним по порядку Смоктуновский, Екатерина Васильева, Дуров. Нынешние театры и производители вещей предлагают потребителю иное. Внешне — это элементарные мизансцены в духе народной цыганской режиссуры с медведем: а теперь, Миша, покажи, как бабы в бане парятся. Сценический характер, характер вещей определяют не интонации, взгляды и любовь к производимому детищу, а сумма простейших жестов. Жизнь души? Кому она теперь интересна? Все явнее одноразовость всего и всех. Всплывает все тот же Жванецкий: «Мы все еще пахнем потом, хотя давно уже ничего не производим».
Но все ж хорошо, за пазухой сладко ломит, вспоминаешь. Блошиный рынок со скоростью прибывающего света возвращает тебя в детство, которое не умело проигрывать.
Такая же ударная установка была у нас в самарском подвале. Приятель Чича в подражание легендарному барабанщику Deep Purple Яну Пейсу шпарил так, что удерживал дробью пятикопеечную монету на стене. А мы в подражание другой легенде этой группы орали «а-а-аа-аа». Не приемлющие подобных децибелов старушки вызывали милицию, но нам тогда все было глубоко фиолетово.
Народу уже много. Ходят, суют носы в лазейки и прорехи, образованные толпой.
Торгуют здесь не только для заработка. Есть, конечно, такие, для кого «вечером кража — утром распродажа». Сшибут на бутылку водки и сворачиваются. Но таких немного. Вот, допустим, величественная старушка Изольда Андреевна с глазами, подведенными стрелочками, как у Татьяны Самойловой в фильме «Летят журавли». Дородная мамаша с толстым пацаном-балбесом, который исподтишка пинает грязным ботинком плюшевого мишку, клянчит у Изольды Андреевны скидку на советскую мясорубку. На дачу. А та и стоит-то десять рублей. Но Изольда Андреевна полушки не уступает. Деньги тут совсем ни при чем. У Изольды Андреевны в каждом ухе — два брильянта в три карата. Просто покупатели ей не нравятся. И все тут. Здесь еще присутствуют отношения, которые не про деньги, поступиться ими — потом себя не уважать.
Сева позвонил в 12. Для него это момент отчаливать. Дальше отираться бесполезно. В условленное место является довольный. Ему удалось разузнать, что у одной из бабушек, держательницы трех московских квартир, имеется буфет XIX века, там, на дверцах с изнаночной стороны, папа записывал мелким убористым почерком свои мысли о жизни, о будущем, как видит его. Папа был профессор. Для Севы — это подарок неслыханный, удача. Несмотря на то, что бабушка заломила за буфет 15 тысяч. Но дело ведь не в этом. Скоро ничего не останется, сработанного руками, с выдумкой.
Кроме того, он умудрился отхватить два самовара с клеймами всего по две тысячи рублей за каждый, германские часы с кукушкой (исправные). Ну, и по мелочи: туфли-лодочки, малиновый берет, рукомойник, старинные будильники с колокольчиком наверху, ватерпас, нагайка, значок ГТО первой степени. Сева перемешивает это в рюкзаке. Потом быстро сует мне ладонь и исчезает, пышный, лучащийся. «И не совсем в вещах, наверное, дело», — думаю я.
Рядом два парня тоже хвалятся друг перед дружкой приобретенным. У одного в руках маленький фотоаппарат AR-4392F, надпись на объективе Lens Made in Japan, похож на тот, что был у маленькой Амели. Комплект слайдов про Армению, правда, пока не на чем их смотреть.
Дома, вытряхивая содержимое своей сумки, выложил на письменный стол велосипедную фару, пузатую, выпуклую в виде «большого глаза», журнал «На суше и на море» за 1984 год и мельхиоровый подстаканник. Сел и задумался, зачем мне все это, зачем?
И только потом, повертев подстаканник в ладонях, на донышке красивую обнаружил гравировку «Любе в наш самый счастливый день».
Катина ракета
Болячки свои старухи, как правило, пытались ликвидировать сами. Кто самогоном, настоянным на мухоморе или волнухе, кто коровьей лепешкой, привязанной к зудящему месту, одна бабушка услышала от кого-то, что можно лечиться мочой. И лучше детской. Бегала с ковшиком за внуком: ну чирикни, милок, чо те трудно, дрыщамон?
А иногда в деревню все же наведывался демиург фельдшерского исусства по прозвищу Филин. Звали его так, вероятно, из-за бровей; прибрежные кусты, чертопполох в лугах, не продраться, — вот какие были у него брови. А может, по другой причине получил он прозвище.
Был Филин с пресной, чуть посвистывающей одышкой, фигуристый, как пингвин, но, на удивление, прыткий. Шмыг в автомобиль свой по кличке «Запорожец». У бабушки голубой был, с ушами, а у него морковный, слабенький. Впрочем, его везти усилял.
Филин обследовал старух. Щупал, иногда жал. По всему было видно, что процедуры эти его тяготят, они портят ему настроение, а вместе с ним печень и жизнь. Он давно проклял весь этот крепчающий повсеместный урбанизм, проделавший нехилую прореху в смычке между городом и деревней. Контингент в захолустье с каждым годом становился менее влекущим и волнующим. Чо там щупать-то? Да и, откровенно говоря, жать тоже совсем нечего. Так — тряпочки.
И Филин вздыхал, как вздыхает по ночам его лесной брат.
Однажды пропылил по улице, цинично так, с пыльцой, а к нам даже не заехал. Спустя время баба Таня Максимова заявилась взбаламученная, как лужа.
Баба Таня Максимова обладатель множества медалей за труд, лучший подражатель голосам всех птиц (филина, кстати, тоже), мой личный тренер по прыжкам в высоту через веревку (когда мы ее коз пасем), по игре на балалайке и надуванию лягушек соломинкой.
-Чо ж делать-то? — произнесла она тоном отнюдь не риторическим.
Бабушка вытерла руки о фартук, пытаясь что-то понять по ноткам.
— Филин приезжал, — продолжила та. — Сказал, рак у меня.
Она попила ковшом из ведра воды колодезной, выудила мизинцем муху, откинула ее прочь.
— А я, дура, замуж собралась.
— Ории!!! — на вдохе, обмирая, как обмирают, получив самую что ни на есть огнестрельную пулю в грудь, произнесла бабушка.
На их диалекте это значило что-то вроде «во врать», «почему я только сейчас об этом слышу», далее по ниспадающей.
.
— А кто он?- спросила вдруг бабушка.
— А, — отмахнулась баба Таня, впрочем, довольно кокетливо, — гырадской, ты яво не знашь.
К вечеру все население деревни – все шесть человек – были в курсе, что у Таньжи, как звали её по-уличному, рак. И поддерживали, но довольно оригинально.
— Ты на смерть-то всё припасла? Поди надо чо?- интересовалась Черная.
— Нюрка, и тебе ищ останется, — по-доброму ответствовала та.
Дед Куторкин молчал, бабушка тоже.
А баб Таня доставала свою горьковскую гармошку и давала жару. Иногда включала итальянскую женщину. В окно летели виртуозно скроенные лексемы, всякие шаблы — платки, по-цыгански цветастые юбки, посуда. А потом опять радость, гармонь и голос срывающийся:
— Катя, танцуй!
А Катя тут как тут. Грузная, с детским, однако, пятидесятилетним лицом, поднимает руки, как девочка, и кружится, наяривает с улыбкой блаженства.
Бабе Тане Максимовой была Катя дочь. У Кати отсутствовала членораздельная речь (только умное мычанье), она не попадала ложкой в собственный рот. И так с детства.
Днем, если тепло, чаще всего Катю можно было видеть сидящей на скамеечке под белёным окном. Она о чём-то думала и раскачивалась, как великий тренер Лобановский. Иногда Катя брала в левую руку упавший с ветлы ивовый прутик и рисовала им под ногами в пыли. Какой-то огромный глаз, а в нём линии и ракету. Бывало, такими рисунками она доводила себя до исступления, рисовала, на что-то указывала, раскачивалась, обхватив голову, и выла. Поэтому баба Таня, прежде чем усадить Катю на лавочку, убирала из-под ног все предметы, любой сор, которым можно было произвести картину.
За поспевшими яблоками или сливой из соседней деревни приезжали на великах пацаны. Они были старше, нахальнее и какие-то более житейские, чем я.
Если Катя была на посту, а баба Таня где-нибудь в огороде, они просили:
— Кать, покажи цветочек.
Катя охотно задирала юбку и раздвигала пышные белые ляжки. И так басовито смеялась, смеялась, что нагнетала ужас. И пацаны даже от цветочка убегали.
Всю жизнь Катя была главной привязью бабы Тани. Муж умер сразу после войны. А Катя родилась в самый День Победы. Если баба Таня куда-то отлучалась надолго, бабушка шла к ним в дом и жила с Катей, кормила её из ложки.
И вот Филин предрёк, наухал, «выписал» от силы «вот это лето, осень, ну, может, зима». И та готовилась.
А в августе, в самом конце, сгоношила всех аборигенов на футбольный матч. Мы с июня уже не играли, и надо же было как-то закрыть сезон.
На лугу — табуретки, ковёр с оленями, тяжелый, но прохладный на ощупь, стол, два ведра воды и аптечка с валидолом да нашатырем. Дед Куторкин, как обычно, соскочил на судейство. Зато все остальные подскакивают, руками машут, разминаются. Как в телевизоре игроки запасные.
Из зрителей чуть — только две козы, привязанная лошадь Аня, Вернись и Бог.
Баба Нюра Чёрная постоянно нарушала правила, дед Куторкин на свой страх свистел, а та каждый раз обещала проверить, полезет ли этот свисток в дедову глотку.
Бабушка стояла на воротах нашего с Таньжой соперника… в старых варежках, как настоящий вратарь и потихоньку рапсукала эти варежки, нитки сматывала в клубок — «всё равно моль пожрала, перевязать надо».
Таньжа, мой прекрасный хавбек с раком в организме, ловила летящий мяч фартуком, оттопырив его за два конца. И когда мяч туда падал, неслась, как оглашенная, калоши сверкали на солнце, шерстяные носки, как гетры в полосочку, торчали из них. Баба Таня вываливала мяч «из подла», как допустим яблоки или грибы, и аккуратненько, «щёчкой», закатывала его мимо сосредоточенной не на том бабушки в левый нижний угол.
— Это не по-футбольному! — голосила Чёрная. — Слышь ты, чертов судья, штрафани эту б****ь.
Дед Куторкин разводил руками: мол, касания ладоней не было, чо я могу? Разве что зафиксировать пробежку, но это ж не баскетбол. В общем, на почве этой английской игры старухи ссорились, невольно начинали играть в вышибалы.
А Катя сидела на табурете под деревом, ухахатывалась и хлопала в ладоши. Ей нравилось всё до умопомрачения.
Дед Куторкин, решивший пресечь безобразие, типа: вы в футбол играете или в регби, был нещадно закидан калошами и прочими артефактами, попавшими под руку.
Потом все пили воду, отдувались, унявшись, улыбались и обсуждали со смехом самые горячие моменты.
Так закончилось лето, минула осень.
Зимой, готовясь на небеса, баба Таня отвезла Катю в дом престарелых.Та сперва объявила голодовку, но, видно, с ней там не особо чикались. И она каким-то чудом сбежала.
Нашли ее весной, когда оттаяло. Километрах в десяти от деревни, в омёте соломы. Прижалась спиной к туловищу хлебному, и застыла с блаженной улыбкой.
Баба Таня, убитая горем, долго лежала под образами и умирала. Оставалось совсем чуть-чуть, но все же ничего не вышло. Похудела только килограммов на двадцать.
Потом она приехала с бабушкой на «Запорожце» к врачу в районную больницу, шла по коридору и звенела медалями. В кабинете баба Таня протянула листок бумаги, ручку и тихо сказала доктору:
— Пиши число, когда я умру. Весна уже прошла, я все летние платья раздала, мне зимой обещали. Нигде порядка нет, ничо до конца довести не умеют.
Потом её обследовали повторно, сказали:
— Ну, надо же. Так не бывает.
Баба Таня плюнула и вышла замуж.
Никакой свадьбы, конечно, не было. Была просто гулянка, которая у старух никогда не отождествлялась с пьянкой. Столы были накрыты прямо под небом. У дома Таньжи. Частушки пели, просили меня включить на кассетнике что-то еще, только не Надежду Кадышеву. Я втыкал им Deep Purple.
— Ничего такая музыка, бодрит, — говорила баба Таня, пританцовывая. — Как ансамбль-то называется?
— Глубоко фиолетово, кричал на ухо ей я.
— Чо?- переспрашивала она.
— По фигу, — вольно переводил я.
Козы тырили маринад прямо с тарелок, дед Куторкин запускал собственноручно изготовленного воздушного змея, и солнце долго-долго о чем-то шепталось с тенями в малине.
А ранним-преранним утром бабушка отправила меня к месту вчерашнего пиршества за сковородой. Стол был не разобран.Окна у бабы Тани занавешены. Новобрачные, видимо, спали еще. Пахло салатом и морем. В соседней деревне, как бурятский шаман, отменно владеющий горловым пением, заработал гудок коровьей дойки.
Под столом поверх множества пыльных следов был прочерчен прутиком огромный глаз. И линии в нём — то ли провода, то ли дороги.
Ракеты не было.
Улетела.
 Белый таракан
Белый таракан
Над входом в подъезд морда слона из бетона. Бивни у морды отбились и вместо них торчат арматуры. Иногда за эти ребристые железки цепляется чья-нибудь улетевшая наволочка, иногда непомерных размеров мужские трусы. Трусы черные, синие, бывают с корабликами. Так и реют на ветру, что флаг, пока их кто-нибудь шваброй не снимет.
В квартире на стене — велосипед. Крутанешь колесо, одна спица за провод телефонный задевает. И тренькает. Покрышки на велике лысые, фара облупилась. Но висящий этот велосипед всегда внушает надежду. Что лето обязательно будет, что мы помчим вниз к Волге – ветер в харю, цепь слетала. Весело и легко жить на свете.
Я переехал в эту коммуналку после университета. Папа как-то (не при мне, конечно) своему другу сказал(но я слышал):
— Делать он ни хера не умел, поэтому стал журналистом.
Фраза меня, конечно, задела, хотя, по большому счету, правда же все. Не преувеличение. Я пообижался малость, а потом захотел доказать обратное. Вон, как Алексей Максимыч, он же газетный Иегудиил Хламида. Все испытывал на себе, и я так буду.
А у дядьки как раз недавно комната в коммуналке появилась, там кованый сундук, потолки три с половиной метра и лепнина. Окна в комнате ни одного нет, их заменяют двустворчатые, высоченные, со стеклом двери. При желании туда даже на диване можно въезжать. Но я пешком ходил.
— Живи, — сказал дядька, — кинув на стол ключи.
Я и жил. Какие мы там устраивали тематические сейшны, можно даже сказать, питчинги. Но об это как расскажешь, разве только приблизительно?
С балкона открывался вид на макушки вязов и сиреней. Через улочку в доме напротив был точно такой же балкон. Частенько там тусили барышни. Курили, не переставая, отхлебывали из горлышек что-то. Смеялись, а потом, видя, что я пялюсь на них поверх книги, быстро задирали майки, мотали своими незагорелыми блюдечками. И смеялись еще громче.
— Тема сисек не раскрыта! – заорал им через улицу покуривающий в открытое окно рядом сосед Эдик. – Девчонки, вы хотя б оттягивали на досуге!
Те громко загоготали, облились пивом и скрылись. Они его попросту не видели, полуоткрытое окно отсвечивало, отражалось кустами и птицами. Эдик затушил папироску и закрыл со звоном створку.
Балкона у него не было, зато было шесть или семь ходок в зону и лет пятьдесят общего срока. Долгое время главным талантом Эдика я считал прицельный, цыкающий плевок сквозь зубы на дымдящий окурок в четырех -пяти метрах. Восторг и уважуха!
Но затем он на моих глазах раз пять ломал все шаблоны, стереотипы, которыми мы его очерчивали. Мы никогда не романтизировали зону. Все эти «что ж ты, фраер, сдал назад».
Да он и сам этого сторонился.
В быту Эдик умел не замутнять свою речь абсентной лексикой. На людях, а тем паче при дамах, изъяснялся подчеркнуто интеллигентно, напрочь пренебрегая феней. Впрочем, иногда бывала пенсия. Случалось – зарплата. Он покупал себе крупы на месяц, алкоголя, брал жестяное ведро и запирался в комнате на двое суток.
А на третий день заросший, синенький выходил. И тогда стилистика его речи менялась, из заплечного мешка сыпалось.
Однажды в таком вот состоянии разогревал Эдик на кухонной плите котлеты. Сковородка скворчала, шипела и щелкала. Подошел поддатый Эдик и крикнул:
— Ша, бля!
Я сам видел, как сковородка умолкла.
С тех я только укрепился в мысли, что слово – это скальпель. А также спирт и огурец. Нарывы любого порядка им можно лечить и ликвидировать.
Бывало, Эдик брал у меня в долг. Ерунду. Мелочь. А утром в день пенсии всегда возвращал. С неизменной чебурашкой «Жигулевского». Я отнекивался, говорил, да ладно, забей. Он вскидывал глаза свои с таким железным прищуром и произносил:
— Не обижай меня, ладно?
Мы с ним не были даже приятелями, так — соседи.
Всех девушек, появлявшихся в общей кухне, он звал почему-то художницами, к товарищам был подчеркнуто учтив и обращался к ним: чел.
Иногда я посещал его комнату, заносил газету. Стол круглый, сервант со стопками и графинами, проигрыватель, пластинки. Топчан у окна. Фотки на стене. На одной – его папа и, между прочим, Блюхер. С папой в обнимку.
На этажерке книжки.
Как-то часов в семь утра в воскресенье Эдик врубил свой проигрыватель. Причем, звучал только припев. «И снится нам не рокот космодрома». Припев заканчивался, Эдик безошибочно возвращал иглу на то же самое место и подпевал. И так раз десять.
Я стукнул ему в дверь.
— Сдурел?
Он был чисто выбрит и в белой рубахе.
— Вот по случаю праздника решил взбодрить население, — уставился он.
— какого праздника?
— Ну, ты даешь, епт. Выборы же!
Все эти выборы были ему, конечно, по боку. Просто, видимо, он кого-то играл. Исполнял роль. Специалисты утверждают, что в российском кино воры выглядят такими картонными и неубедительными потому, что в жизни русского вора они играют роль русского вора. Начальники играют роль начальников. А попробуй сыграть того, кто уже кого-то играет.
По иронии и даже насмешке судьбы подрабатывал Эдик сторожем. В речном ДОКе. Охранял дебаркадеры, которые свозили на Самарку со всех пристаней. Зимой они вмерзали в лед. А ранней весной буксиры развозили их по домам. Очень красивое зрелище – плывущий по талой воде дом.
Однажды мы с моим товарищем, приехавшим погостить, пришли к Эдику и попросили длинный шест, а он у него был. Солнышко припекало. И Волга обнажалась. Пиво со «Дна», пронзительное синее небо и подступившее после пива – всё это вместе ударило нам в голову.
Мы решили «прокатнуться» вдоль берега на льдине. Эдик тоже. Он взял с собой в карман семечек, пачку примы и табурет. Сначала все шло хорошо, а потом шест промазал мимо дна и нас понесло. Люди с берега кричали нам что-то. Слышно было плохо, но мы улыбались всем и махали руками. Да, да, в Чебоксары. У нас там дело.
Эдик сидел на табурете, грыз семечки, курил и говорил, что суетиться глупо. Теченье здесь устроено так, что нас обязательно покружит и прибьет к берегу. Мы виду не подавали, но почему-то старому вору не верили. А он курил и щурился.
Мужики на Ниве, стоящие на другой льдине, сообщающейся с берегом, зацепили нас баграми, обложили теплыми, знакомыми словами и дали водки.
Эдик ехидно лыбился.
А к ночи, когда мы попали к нему в сторожку, сооруженную из старого катера, он достал бутылку, налил и нам. И признался, что вообще-то хотел утонуть. Но нас, дураков, было бы немножечко жалко. Потому что мы раздолбаи, на которых свет держится.
— Устал я че-то, — говорил он. – Время не мое. Скучно. Хочется сдохнуть, но самоубийство – грех. Люди разучились как-то сосуществовать вместе. Все говорят языком как будто только что откинулись, а за словами — нет нихера, никто их за эти слова убить не может. А если за слово не могут убить, значит, и дела оно никакого не обозначает.
А в нас было столько жизни, что речи его тогда казались бравадой, бредом. И мы веселились. А он нам даже на губной гармошке сыграл.
Другие обитатели той коммуналки тоже, конечно, были. Но они отчего-то не запомнились.
Как-то под Новый год Эдик пенсию получил. Хрестоматийно усугублял три дня, курил в постели. Когда я пришел, соседи стояли у его двери, оттуда валил дым. Люди дискутировали, сколько нужно свидетелей, чтобы взломать и проникнуть. Я так испугался, что машинально вышиб ее. Ничего не было видно. Пол уже кое-где горел.
Я сдуру открыл окно. Нащупал матрац, дернул и выкинул. Тут соседи с ведрами подоспели. А Эдик как лежал, так и остался на железной своей кровати. Казалось, не задышит уже никогда. А он вдруг захрипел.
Еще неделю у него был такой голос. Скрипучий, брутальный и хриплый.
Я предлагал ему звонить в разные банки и просить кредиты.
А на Новый год мы с соседями скинулись, и я купил ему надувную кровать.
Эдик покупку оценил, всем руки пожал, раскланялся. А мне сказал:
— А ты злой.
— То есть?
— Хочешь, чтоб, если цигарка упадет, я как воздушный шарик, об потолок и об стены ажно заколдобился?
Ленин и Америка
Фотограф Кунаев – человек в городке N. известный. Закрутив винтом бутылку водки, он выпивает ее за 37 секунд и затем снимает так, будто есть у него кнопка «шэдэвр». Впрочем, эта страсть к выпивке толкает его к вечной изобретательности.
Кого только не притаскивал он в редакцию. Бесчисленных знакомых Высоцкого , собутыльников Венедикта Ерофеева , каких-то негров с саксофонами.А как-то звонит вечером, орет сквозь шум стекла и голосов:— Как ты думаешь? Какой главный прием в репортаже?
— Эффект присутствия, — говорю. – А чего?- Вот и ты тут, заладил: эффект присутствия, эффект присутствия. А Стенькин говорит, что главное в репортаже – водка. Кстати, хочешь написать про американца одного, скульптора, который Лениных и Сталиных лепил.- Американец? Ленина?- Ну, да. Тема – не фуфло. Железно.-Ты ведь опять подсунешь бомжа какого-нибудь.- Зуб даю.Наутро Кунаев притащил в редакцию какого-то щуплого мужика. Он не просил червонец, и отказался даже от пива. Но по-русски шпарил и матерился.
Я отвел фотографа в коридор.
— Какой же это американец. Ты на сапоги его смотрел?-Откуда я знал, — сказал огорченно фотограф, потому что терял бутылку. — Это мне знакомый один рассказал. Говорит, приехал, мол, на выставку лошадей. Из самой Америки. А насчет сапог я подумал: ковбой, наверно.
Это потом выяснилось, что Америка – деревня на стыке трех областей – Рязанской, Нижегородской и Мордовии. Что мужик этот скульптор, ныне интересующийся лошадьми.А сапоги его такие, потому что в кедах не пролезешь там..Он зазвал нас в эту Америку. Мы еле выбили командировочные и стали собираться.
— Чудно как-то… Америка, — не унимался фотограф. И мужик рассказал.
Когда-то, еще до революции, неугодных крестьян, какой-то барин отправил на выселки. За удаленность дорог, городов и весей, те прозвали место Америкой. Когда явилась советская власть, к Америке добавился эпитет Сов.
Так и жили люди. В Америке. Но со Сталиным, и Брежневым .
… И вот мы на трех лошадях с фотографом и Николаем Казаковым, как гусары, а льду в апрельских лужах, уносимся вдаль. Казаков зачем-то дал мне кнут. Раза три невзначай, я съездил им по уху фотографу. Из-под шубняка он показал мне увесистый кулак.
От городка К. в сторону Нижегородской области ехать километров 18. От коней валит клубами пар. С галопа они сбиваются на шаг. Начинается так называемая Нижегородская тайга. Елки, ручьи в лощинах, бревенчатый настил, занесенный песком.
В прорехе показывается Америка. Без небоскребов и Нью-Йоркских огней. Советская Америка – это три двора, пруд и памятник Ленину.
В одной избе живет Николай Казаков. Рядом баня, небольшая конюшня. В другой дом летом приезжает пасечник из села Кользиванова. А в третьей, какой-то андеграундный музыкант из Нижнего проводит изотерические сеансы, «короче оргии там вершит», по словам Казакова.
Этой деревни нет ни на одной карте. Дома были пустые. Председатель, в чьем ведении они находились, отдал их буквально за гроши. Собственно, благодаря удаленности места и лесу, в котором с годами все больше и больше бурелом заполоняет тропы, ничего и не воруют.
Затапливаем печку, болтаем. Фотограф крутит радиоприемник, ловит, как он говорит, этой Америки «голос». «Голос» молчит.
— Зимой и я тут не живу, — говорит Казаков. — Зимой я в соседней деревне. Там у меня тоже избенка. Так что я вроде буржуя получаюсь. А если серьезно, то там у меня брат живет, начальник конезавода. В 90-е взял кредит, законтачил с иноземцами. Они ему породистых лошадей на племя. Сейчас поставляет их богачам.
Сам Николай Казаков здесь с 87-го. Когда-то закончил в Питере академию художеств. Помотался по городам. Разной дрянью, говорит, занимался. Бюсты вождей делал, памятники. В Минске, в Ржеве. Потом уехал к брату. Но и здесь занимался тем же самым. Чего он еще умел?
— Один раз, помню,- говорит Казаков, — когда я в райцентре жил, приезжает, значит, ко мне один большой чиновник из Нижнего. Как раз тогда мода пошла Лениных, Сталиных в офисах ставить. И вот он покупает у меня за доллары большой бюст Владимира Ильича. Потом звонит и говорит: «Выслал за тобой машину. Никак не могу придумать, куда вождя этого поставить. Ты же все-таки скульптор». Я приехал, глянул. На окошко – нехорошо. На столе – уж больно помпезно. А был в кабинете этого начальника шкаф такой старинный, невысокий. Вот, говорю, туда и поставь. Ну, кто ж знал, что он возле этого шкафа секретаршу свою стоя… это…того самого… пер, значит. Припечатает ее и жарит до посинения. И вот как-то от толчков его необузданных, Ленин возьми – и трах по башке этому члену партии. Он копыта и отбросил. Все человеку дала Советская власть: кресло, машину, деньги. Секретаршу, наконец. А Ленин, спустя 70 лет после своей смерти все и отнял.
Морозит. Тлеют угли. Фотограф хохочет. Выпил бутылку и хохочет. Я иду бродить по Америке. Кроме пустых изб и пруда от людей здесь осталась только околица из слег, береза с двумя скворечнями и этот памятник Ленину.
— Как Мамай прошел, — слышу я голос за спиной. Это Казаков вышел за мной, чтоб я не заблудился. В лощине кричит ребенком какая-то лесная птица.
Набродившись, сидим на крылечке, глядим на спутник, ловко огибающий звезды.
— Америка, бля, Амурика, — выходит фотограф на крыльцо. — И какой мудак поставил в такой глуши этот памятник. Домов нету, а он, сука, стоит.
— Это я поставил, — тихо говорит Казаков. – Весело жила деревня, хорошо. И тут председатель сказал, что все деревни, как деревни, а в этой Америке все ни как у людей. Ни одного памятника. Вот они с районным начальством и обязали меня. После того, как его сюда водрузилии, один старик вышел и сказал: — П…дец Америке.
Затушил о сапог папироску «Беломора» и ушел. И в самом деле, хотя, может, и не от этого, но с тех пор стали тут люди умирать потихоньку. Кто от чего. Половина разъехались. Так и не осталось никого. Домов уж нет, а он стоит. Сколько раз я просил трактористов: «Мужики, давайте снесем. А они ржут. Говорят: сам делал, сам и сноси. Даже за водку не хотят. Чудеса…»
 фрагмент рассказа Куст малины для Сергея Довлатова
фрагмент рассказа Куст малины для Сергея Довлатова
Мы приятельствуем с Людмилой Петровной уже второй день. У нее торжественная, как гимн, спина и всегда в кармане губнушка. Она обожает английский футбол и бокс (всякий). На «триколоре» на то и на другое имеет годовую подписку.
За два дня мы обсудили технико-тактические действия футболистов «МЮ» за которых она болеет. И даже поговорили вот про любовь.
— Ну, милый мой. Молчи, грусть. Характер был — атомный. За офицера я замуж никогда не хотела… Хотя и был офицер. И не офицер был. Я девушка озорная, горячая. А выбирать тут никогда особо-то не из кого было. Все бравые уж расхватаны. У меня же казацкие кровя. Дедушка говорил: тебя только красноармейским штыком к двери пригвоздить, тогда ты жена будешь. Вот я и бегала какое-то время туда-сюда.
— То есть химии-то не было, чтобы унесло вот?
Она помолчала.
— За доброту, пожалуй, открытость, верность вышла. Он инженер был. Лесной промышленности. В первую брачную ночь посадил на бульдозер и как дал по лесным ухабам, чтоб, говорит, знала, за кого замуж вышла.
Над крышей сарая прошел тепловоз. Пес звякнул цепью.
Людмила Петровна, как кошку, погладила левую руку.
— Веселье было знаешь когда? Когда пила.
— Простите?
— Ну, то есть киряла.
— Вы?
— А что ты удивляешься? Я — фармацевт главный. Все таблетки-лекарства у меня под замком, спирт. Вот тогда был, как тут говорили, сеанс. И кипиш.
Так и сказала. И губы произнесли привычно…
— А муж что же?
— Он очень порядочный был человек. Ой, милый мой, тут такое было, все не рассказать. Скальпы снимали с людей, и головы отрезали, в футбол ею на Иоссере играли. Туда чуть ли не танки хотели уже вводить. А от алкоголизма лечила офицеров. Вроде резко нельзя прекращать, и на постепенные нужды мне давали, допустим, ящика два. Кто кого лечил?..
Бабушка и космос (отрывок)
— А вот, например. Фокус – покус, — патетично произносил дед Куторкин и снимал свой с покоцанным козырьком картуз. По обыкновению, поверх лысины его сидела какая-нибудь великолепная жаба. Или разноцветная ящерица. А в этот раз — лупил лубошные зенки несуразный кукушонок. Птенец потянулся, взмахнул тщедушными крыльями, зевнул и покакал.
— Какой же вы гад, — почему- то на «вы» обратился к нему дед. Положил кукушонка на траву и пошел за лопухом.
Мы с братом Михой птиц любили. И бабушка тоже.
Когда по весне у грачей выпадали из гнезд детеныши, бабушка откапывала в сундуке свою альпинистскую амуницию. Пояс, карабины, веревки, даже ржавые кошки на обувь. Я складывал в рюкзак желторотых, как яблоки, и лез меж сучьев. Бабушка потихоньку травила, пропускала канат через ладонь и локоть, страховала. Было до ужаса страшно и, конечно, восторженно.
Почти каждое лето в доме у нас объявлялись то щеглы с переломленной лапой (которые бабушка латала синей изолентой).То совы, то воробьи, то коршуны. Последних бабушка лечила, а потом стреляла в них из винтовки ТОЗ, когда те тырили средь бел дня цыплят.
Однажды квартировал даже орел-могильник, сбитый машиной на большаке. Дня три он оклемывался, шипел, ночами сваливался с печки, как картонный, бился в образа (там всегда тлел огонек в лампаде), потом был отпущен. Многие не выживали, потому что не любили жареную картошку с опятами и овсяное печенье.
Мы плакали и хоронили их в огороде. Ставили из палочек, скрепленных проволокой, крестики. Миха даже ел землю и клялся, когда вырастет, станет «зверяческим врачом». (В 90-е он стал бандитом и завел себе вОрона, сейчас он еврей).
У бабушки был «ЗАпор». Такой чурбак на колесиках. Газ на руле, вместо сцепления – рычаг. Тормоза отсутствовали вовсе. Да и зачем в полях и деревне, где всего- то четыре жителя тормоза. Бабушка летала на нем точно фея – шлейф из желтой пыли, останавливалась об ветлу.
И вот после Троицы она привозила из инкубатора желтеньких, пушистых и совершенно безмозглых утят. С этого времени нам с Михой надлежало за ними бдить. Вручался радиоприемник ВЭФ, нет – VEF и мы как негры или даже афроамериканцы с музычкой на чьем-нибудь плече топали к озеру, пританцовывая и кобенясь.
Утята, выведенные с помощью тепла спецлампы были квелые, бабушка звала их «шибздиками», но на деле все было печальней – то в траве запутаются, то лягушонком подавятся, то чуть не взлетят вместе со схваченной за хвост стрекозой. А мы их от этого сберегали. Ну как сберегали? Минут двадцать. Потом становилось нудно, скучно и мы углублялись на чердаки заброшенных домов или в поля за горохом. Когда возвращались, какой-нибудь из питомцев уже беззвучно открывал рот, опутанный нитями трав, и вид имел чрезвычайно синий.
Тогда мы хватали его и мчались к дому.
Миха врубал электроплитку, а я тащил чугунную сковородку. В нее мы и клали почти окочурившегося утенка. Чудо творилось прям на глазах. Минуты через две он мало-помалу приходил в себя. Вставал на ноги, начинал испуганно цикать. А через три — уже пританцовывал. Мы были невероятно горды этим спасением, хлопали в ладоши и в такт орали.
-Ты-ды-ры-ты-ры-ды-ты! Ты-дыры-ты-ры-ды-ты! Йеэх!!! Асса!
-Смотри как радуется, что жив остался, — перекрикивал себя Миха, брал в зубы нож и пускался в пляс. У него выходила какая-то идиотская лезгинка.
-Может, ему горячо?- интересовался я у старшего брата.
-Не, — отмахивался тот:
-Ты-ды-ры-ты-ры-ды-ты! Ты-дыры-ты-ры-ды-ты! Йеэх!!! Асса!
Заканчивалось все тем, что приходила бабушка и разгоняла нас.
Однажды из того же самого таинственного заведения под названием «Инкубатор», она приволокла целую картонную коробку цыплят. Первые дни они обитали на подоконнике, отгороженные доской. Ходили такие — руки за спину, как у начальников. И в такой вот позе прыгали за мухами. Пройдошные мухи нарочно крутили мертвые петли у них перед носом, потом передыхали вниз головой на потолке, потирали свои липкие ладони и дразнились.
Дня через два пришла пора выпускать цыплят в мир. Однако наседка – дутая пестрая курица – принимать их в свое благородное общество вовсе не торопилась. Клевала, цыплята перемекивались от ударов таких через голову в пыль дороги и, ничего толком не понимая, моргали, лезли опять. Тут вступал вечно понтующийся на заборе –перья с переливом- петух. Он издавал угрожающие, курлыкающие звуки. Летел, выставив вперед голову, словно он эмблема на мотоцикле Минск. И тоже клевал, пинал их, как разъяренный теннисист Надаль непослушные мячики.
Бабушка называла петуха плохим словом.
Мы знали это слово, но не улавливали с ним ни малейшего сходства.
Петух же словно обладал пониманием некоторых человеческих лексем, тряс гребнем, орал с забора, высказывал ряд назревших возражений.
Бабушка что-то обещала ему в таких случаях, то ли бошку отсечь, то ли ингридиентом сделать. Неразборчиво.
А вечером, когда пролетела над ветлами цапля и что-то нам крикнула, бабушка сунула в карман фартука початую бутыль самогона, чайную ложку и сказала, чтоб мы собирались на дело.
Слово «дело» нас вдохновило и посеяло внутри холодок вперемешку с некой шпионской тайной.
Во дворе было темно, но предводительница наша предусмотрительно приспособила себе на лоб фонарик. Щелкнула им и стала похожа на единорога. Тугой луч шарил по бревнам, затыканным мхом, пока не уперся в насест. А на нем в петуха. Бутыль и ложку она отдала Михе.
«Потому что ему уже десять, — подумал я, — и он курил репей за амбаром».
Петух сощурился, хвать худющая, но цепкая бабушкина рука его за шею, прижала к груди и командует:
-Держи клюв, держи клюв!
А как держать, если он этим клювом как шашкой машет?
— У-у-у недотепы, — ворчала она и седлала почти верхом петуха, одной рукой подхватывала морду, надавливала пальцами на костяную пасть.
-Наливай. В ложку. В ложку. Бестолковый какой.
Миха нацедил, булькнул, изловчился и влил, петух сперва так сморщился, кашлянул, заперебирал лапами, словно четко осознал: яду дали. Миха влил еще.
Петух зачавкал.
Бабушка опустила его под ноги и ускорила путь пендалем:
— Пляши, дрыщамон!
Такую же вакханалию мы проделали затем и с наседкой.
Я по темноте сбегал ко входу за цыплятами в коробке. И пока наседка чинно усугубляла, мы подсунули в корзину, служившую гнездом, пришлых и накрыли пьяной курицей. Наседка долго ворчала, бабушка ладила ее по голове и веселилась:
-Дурочка моя. Утром проснешься — вот ошалеешь.
А так и было. Мы с Михой вышли на росистое крыльцо – наседка ходила, а за нею все, все, все. Петух, найдя червяка или букашку, устраивал кипиш, клокотал, бил крылом и танцевал, исполнял по кругу ритуальный танец: какой я молодец.
Цыплята, чудно вытянув шею, мчались наперегонки. А он косился, задумывался на мгновение, встряхивал своим гребнем: да ну нафиг, неее, почудилось. Вскакивал на забор и голосил.
И только дед Куторкин, узнав подробности, заливисто, тоненько хохотал. Бабушка подначивала его, мол, небось жалеет, что не знал об этой нашей затее.
-Ну не, до этого я еще не допился, — возражал он. – Чтоб с петухами бухать.
Прошло несколько лет, а мы все так же возвращали в гнезда на ветлу у озера птенцов. Как-то в этот самый момент проходил мимо дед Куторкин. Рядом он вез, держа за руль, велосипед. Багажник защелкнул авоську с покусанным батоном. Ветла цвела и столько было вокруг пчел, пахло медом. И будущей счастливой летней жизнью. И вдруг старик как заржет.
— Степаныч, — обернулась бабушка, ты буздыкнул, штоль, уж с утра?
— Я тут че подумал, — отсмеявшись сказал дед. – Внук-то у тебя вон уж какой колбяк. Допустим, не дай божЕ, конечно, он сорвется. Ну, так сказать, гипотетически. Ты ж со своей этой веревкой – в космос уйдешь.
Я представил это настолько явно, аж нога соскочила. Раздался истошный крик, как будто не мой, секунда полета и я стопорнулся, сложился пополам в страховочном поясе. Стал крутиться.
Бабушка внизу мгновенно и ловко перехватила веревку, быстро увязала ее себе на руку и, как в перетягивании каната, тормозила. Ехала в галошах по новой траве, упиралась и приговаривала, пыжась:
-Кодун проклятый. Чирий тебе на язык.
И все, все, все – дали, едва оперившиеся сады, поля, огороды и облака крутились у меня в глазах. Было дико страшно и дивно красиво.
Бабушка пыхтела, дед Куторкин, неуклюжий как цапля, на своих длинных в кирзовых сапогах, ногах, спешил ей на помощь и бубнил:
— Космонавты, йо. Целая деревня космонавтов. Один я нормальный остался.
На день выбрался в деревню. Шли с Витей на моторке по Мокше-реке. С нами еще один тип, лет сорока, зовут Колян, руки в мазуте, лицо в вечном загаре, голова в петушке. Нос плоскодонки поднимался и падал, шлепался в воду, окропляя лицо. Витя рулил на корме, и когда я поворачивался, товарищ его неизменно растягивал губы в улыбке. Да, ага, вот так у нас тут, гляди, морда городская.
Через час почти ходу, мы повернули и пошли с ревом прямо на берег.
— Пригнись! – заорал Витя, когда я уже собрался прыгать.
Врезались в кусты ивняка, а там узенький канал, на малых оборотах прошли по нему и оказались возле избушки.
Проверили ныреты, вспороли животы лобастым ротанам, костер развели. Вечер крался. Цапля кричала. Красота вокруг была такая, что доставать фотокамеру было кощунством, оскорблением даже. Казалось, что Бог обидится. Чего тебе собака надо, смотри, наслаждайся, запоминай.
Сварили ухи, водки выпили. Сидим у костра. В дубах кузнечики.
Опять выпили. И про реку поговорили.
Я рассказал, что мокша в переводе с одного древнего языка значит освобождение, не в смысле от тела бренного, а когда еще тут, в земной жизни преодолеваешь, пытаешься освободиться от понтов, жалений себя, заботой о ком-нибудь.
Мужики помолчали, выпили еще … Затрещал в мокрых травах коростель.
И тут Витин друг лег на траву и говорит:
— Эх, щас бы притянуть вон ту звезду и написать на ней че-нибудь.
— Например? – спросил Витя.
— Ну, например, хуй.
— Вот, пожалуста, — сказал Витя. — Освободился, блядь. От мозгов.
— Да ты не понял, это как бы сказать в переносном смысле, поэтичном, как послание человечеству.
***
-Слушай, да кому нахер оно нужно, твое русское поле? Это для тебя оно «обросло» кучей ассоциаций, потому что в счастливые моменты жизни ты видел его, перепелов там всяких тихим вечером слушал, да еще поди с бабой? С которой ничего еще не было. Даже не целовались. Для других это все не более, чем пространство, смазанный вид из окна автомобиля, мчащегося на скорости 14-160 кэмэ в час. Пространство, блин, неуютное, с комарами, оводами, величиной с воробья, стеблями ржи, об которые легко порезаться. Мегаполис, капитализм делает все, что мы называем природой, чужеродным. Происходит дикая мутация человека и многое в сознании переворачивается с ног на голову. Черное становится почти беленьким, нормальным.
— Да вы задолбали искать смысл там, где его вообще нет. Давно пора перестать отравлять себе жизнь разглядыванием своего внутреннего устройства…поиски эти затянулись и ни к чему не привели… Вон Гоголь, заглянул. И чо?
— Че?
— С ума нахер сошел и сжег второй том «Мертвых душ». Пей давай.
— Куда? Чтоб сразу в зюзю и не помнить ничего?
— Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выжрет хулиган. Просто помни об этом.
— А закусить?
— Да епт. Чай, не графья. Губищами закусите.
И ничего ведь не предвещало таких разговоров. Просто несколько считающих себя интеллигентами 21-го века придурков вырвались в деревню. Проехали 600 верст. Просто сидели за столом, а в тандыре зрели из свиных ребер щи. Август приобретал присущие ему запахи забродивших яблок и переспелой крапивы. За лесом облака выстраивались в небоскребы. Придурки выпили, принципиально пренебрегая консервами и колбасой. А потом еще.
Вечерело. Тень от дома занимала большую часть двора с едва видимой крышей бани и маленьким ручьем за ней. Где-то вдалеке, в одичавших садах, начала свои трели маленькая такая птичка под названием камышовка- сверчок. И так выводила. Что все сидели, завороженные, слушали.
Заяц Беня (кусок из повести)
Дед Куторкин пришел к нам в гости и воздушного змея с собою привел. На ниточке.
Змея он привязал у крыльца за гирю, служившую в разных хозяйственных нуждах, гнетом. Потопал у входа, будто уже выпал снег, шмыгнул носом.
— У те пятерка есть? — без обиняков спросил, в лоб.
— Ты ж вчера лыжи продал, — бабушка мотала в клубок шерстяные нити. Под ногами выплясывали, изгалялись друг перед дружкой два веретена.
Куторкин опять шмыгнул носом.
— Деньги — не проблема. Я про патроны. Ну, точнее, про дробь.
Бабушка привстала с сундука. Порылась в слоях шаблов и выудила узелок. Там лежали гильзы и производили друг об дружку приятный звук.
— На кабана двинешь?
— На лося, йо, — психанул на подколку дед. Но тут же и забыл. — Заяц, е-пэ-рэ-сэ-тэ. Что коза твоя. Точь-в-точь. По размеру. Один в один.
— А вот так не делат: — беее? — рассмеялась бабушка.
— Да иди ты, — махнул рукой.
— Ээ, болезный, патрончики-то. Трех хватит?
— Вполне, — хотел опять стать вредным он. Однако не вышло. Дошел до порога и вдруг рассмеялся:
— Слышь. Вчера гляжу, Нива ко мне вся заляпанная подъезжат. Под окна. Охотники, сразу допетрил я. Вот у кого патронами можно разжиться. А они пьянущие в дым, коленки то и дело подгибаются, как шарнирные. Я вышел. Не видал ли ты, отец, спрашивают, тут одного мудилу с ружьем, на нас похожего? Три часа его по всем болотам, падлу, ищем. Как сквозь землю. Только вымокли все и упились. Не-ее, говорю, ребятки. Может, с дороги чаю? Для чего, говорят, нам твой чай, у нас водки полный багажник. И хотели мне уж бутылку дать. Я как замашу руками, не-не-не. Я ж в завязке. (С напором бабушке) — Чо, правда! Смотрю, а в машине-то сапог торчит, чуть шевелиться. А от сапога нога ведет. Себе думаю: наверняка к туловищу. Оказывается, пока они ходили, он вернулся в машину, уснул и упал меж сиденьев. Завалился. А они вот его ищут. Така ботва. Я тебе там змея привел, сказал дед уже мне. Норовистый!
Дед запахнул фуфайку со штампом на груди. В прямоугольном этом лейбле содержались буковки. И цифры. «ЖХ-385» через косую черту еще какие-то иероглифы и имя Пужайло. Ф. У нас у всех были такие фуфайки (места не столь отдаленные пролегали километрах в 30, рядом). Бабушка ходила под фамилией Уланов. Д. Миха имел позывной Щипачев. И только у меня одного была маленькая, женская с фамилией Журавлева. Н.
Я часто думал про нее. Про Журавлеву. Эн.
— Короче, — завтра приходите. Будем из того зайца уху есть.
Дед Куторкин был громогласный, но простецкий, смешной. И рукастый. Всяких воздушных змеев клеил, учил из березовых веток сооружать красивые (домиком) лачуги. А еще он слыл в той местности самым козырным мастером охотничьих лыж. У окрестных мужиков они ходили под негласной маркой «йондал». «Молния» по-мордовски.
Мы с Михой много раз увязывались с ним за заготовками, из которых он потом делал болванки. В роще дед бродил вокруг деревьев, стучал по ним ладонями, слушал кроны, будто они могли ему что-то сообщить, шептал. А когда находил годную, радовался и целовал их.
Когда в одном из фильмов прозвучала песня Никитина «Я спросил у ясеня», мы с Михой ни минуты не сомневались, что написана она была специально для деда Куторкина.
Делать заготовки он отправлялся с двухрушной пилой. Ручки между собой у нее были перетянуты бечевкой, чтоб не гуляли. Затем он клянчил у кого-нибудь клячу, привозил столбушки к дому, полобил, счищал кору. Вез на пилораму и делал там «досточки». Клал их в амбаре на ровный пол под внушительные камни. И там они зрели.
А уж дальше — рубанок и ладони, какой-то отвар, в котором он те лыжи «варил», загибал, обивал лоснящейся, ворсистой шкурой. И так пар десять. А список в его маленьком блокноте все не заканчивался.
По первому снегу, когда подваливало, и воздух казался подслащенным, приходил блаженный Ваня. Сам приходил, никто не звал. У себя в голове и у деда он числился испытателем лыж.
По свежему, как скатерть перед праздником, снегу лыжи свистели, сами почти везли.
— А? Летят! — радовался дед. — Как стрижи летят.
Ваня приезжал, запыхавшийся, лыбящийся.
— У засеки оленя догнал, — одно и то же вечно врал он. — Еще чуть-чуть бы и «пумал» за рога.
И без перехода к Куторкину.
— Дашь ключ?
Ваня почему-то любил разные ключи. От замков, гаечные. Но в особенности велосипедные, семейные, где было много отверстий для разных диаметров. Хотя открывать и ремонтировать, ему вовсе было нечего.
Дед же слыл охотником никаким. Всю жизнь в деревне прожил, а бошки курам жена Маня рубила. Он один раз попробовал, положил на пенек шею ее, глаза закрыл и себе по коленке. Эту бы небоскребность да записать, а потом филологам на сковородочке, но тогда казалось, все так умеют.
Каждый день небо как будто по стеклянным бутылям разливали. Я ходил по крепким подмерзшим проселкам. Ромашки меж колеями казались ненастоящими, кондитерскими, с сахарком. И дали. Такие были дали. Будто человек. У которого кто-то умер, ушел, а он потом долго бился в истерике, жалел усопшего, жалел себя, кривил лицо, плакал. А теперь нечем. И в сердце тихая музыка.
Подробности охоты дед приносил как записи полевого дневника.
— Зарядил винтарь. Вышел. Нету зайца моего. Так и прождал до полуночи.
На второй день он сообщил, что будет поджидать зайца в хлеву. Мол, есть у него маленькое, у самого пола оконце, через которое давным-давно навоз выгребали. Что постелит туда соломы, а снаружи, со стороны поля, подсыплет ячменя. Так что — неделю пировать будем.
Потом пришел и с каким-то удивлением даже сказал:
— А зайцы, собаки, умные. Пока я караулил его с поля, он обошел хлев и вдоль стенки к ячменю подкрался, сожрал все, мне «горошки» оставил. На мол, Петя, кури. Иль в самогон добавляй. А чоо? Я пробовал — любопытный, скажу вам, букет. Ждал я, ждал, безмозглый. Вижу подходит ко мне, огромный такой, теребит за плечо и говорит: Мужик, а мужик? Все зайцы в белом.
— Кто говорит? — не поняла бабушка.
— Заяц говорит. Короче уснул я. К вечеру кофе долбану. Готовьте ложки, подельники, — смеялся дед.
С вечера понесло, снегом крупным, с запахом то ли моря, то ли неба . В печной трубе как будто болотная птица выпь поселилась.
Бабушка вошла утром вся в снегу, сказала кому-то:
— Тут пока полежи. А, похож, здорово я те приложила.
Я потягивался, и так лень вылезать было из-под одеяла. Дрова в печке только разгорались. Тут и дед явился. Пустой.
В общем, в эту ночь он решил кардинально поменять тактику. Ждал за углом у хлева, снова предварительно подсыпав ячменя. Но тут снег, метель. Дед увидел — у приманки что-то или кто-то копошится. Прыгнул в лыжи и узрел следы к полю. Следы вскоре кончились.
— И в спину мне под лопатку кээк стрельнет, — продолжал он. — Как из ружья. Решил, знаешь ли, отдышаться. Поставил винтарь прикладом в снег, обоперся на него. Стою. Тучи вдруг порвались. Луна проглянула. Повернул морду-то, а заяц-то вот он, в двух шагах. Встал на задние лапы и тоже, слышь, ищет кого-то. И я так понял — меня. Но не видит, принюхивается. Даже потом одну лапу козырьком сделал, как капитан корабля высматривает, куда дальше плыть? Пройдошный такой, сволочь! Я стою, а ружье-то мое в снегу прикладом. Хотел вытащить, он увидал шевеление и дал газу.
Бабушка откинула шаль с кровати за голландкой. А там лежал, шевелил щеками, будто шептал проклятия заяц. И одним глазом нам подмигивал.
— Не, — пришел в себя дед Куторкин, — эт не мой. Мой был длинный, рослый.
— Как коза, — напомнила бабушка.
— Во-во.
— Ты все ж чеканутый, Степаныч. Луна-то последние ночи-во какая, — она показала, будто несла охапку чего-то, — и низкая. Вот тебе и повержилось, тени-то вытягиваются.
— И? Как же ты его? — уже смирясь с доводами, спросил дед.
— Иду утром в колодец, метель. Лезу в валенках. А он бедный притаился у амбара перед дверью, на приступочкаъ, спрятался типа таво. Только иногда пошевеливатся. Я легонько так его коромыслом — тюк по башке. Испугалась, сначала подумала убила. Домой притащила, да нет, вроде дрыгает лапами.
Заяц у нас прижился. Потом обнаглел, лазил везде. Сгрыз болотные сапоги. Съел несколько журналов «Техника молодежи».
А когда приходил дед Куторкин и они дулись с бабушкой в карты, заяц неслышно переваливался (с передних лап на задние), выходил на середку избы. И смотрел.
— Беня, — (почему-то именно так), не глядя на зайца говорила бабушка, — покажи, как дед Куторкин охотится.
Беня вдруг послушно вставал на задние лапы, вытягивался, а переднюю прикладывал ко лбу, будто кого-то искал.
— Не зевай, — кипятился дед. — Козырь-то крести, куды ты мне винновую шестерку лепишь.
— Не дрейфь, Степаныч, — хихикала бабушка, — в любви тебе теперь обязательно повезет. Вот увидишь!
— Такая тоска, — говорила она ночью в телефонную трубку. — Как будто осенние дожди всей Земли залили мое сердце.
И он мчался к ней. Такси, вино, сигареты.
— Никак не пойму, что со мной, — будто крыльями вязаной из козы шалью обвивала она его шею.
— Чего-то хочется, но сама не знаю чего.
Когда три дня назад она произнесла эту фразу режиссеру театра, в котором была актрисой, тут же ощутила под юбкой его ладонь. Он толкнул ее в декорации «Чайки»…
Через время, глядя в зеркальце и пудря ободранный от неистовства и щетины подбородок, сказала:
— Я даже вскрикивала как она…
— Как кто? – не понял режиссер.
— Как чайка. Я – чайка.
Ей нравились витиеватые фразы, инсталляции и стихи . Она любила снег в фонарях и мерзлую вишню. Один поэт как-то написал о ней:
Ее улыбка из жести,
Ее мечты, как трава.
Элементарные жесты,
Больные оспой слова.
Любовь к неточным наукам,
Под шифоньером вино.
Гостеприимные руки,
Глаза с двойным глазным дном.
Она влюблена во вращенье Земли.
Ну а он был уездным журналистом и писал о театре. Впрочем, особо писать было не о чем. Спектакли были скучными, актрисы распутными и бездарными. То ли дело его коллега Витька Бубнов. Витька был человеком безграмотным, но имел умеренное нахальство и, что называется, хватку. Он встречался с известными режиссерами, актерами, поэтами. Только что вернулся с Московского кинофестиваля.
— Ну и как? – интересовались корректорши.
— Интервью с Николсоном сделал. Спускаюсь по ступенькам в Доме кино, он — по другой лестнице — поднимается. Я: «Хелло, Джек». Он вскинул руку, расплылся в улыбке. Тут охрана – хыщ-щь — его в одну сторону, меня в другую. Но ниче, – закончил Витька, — полосу написал.
И обращаясь к Фролову:
— Старик, в слове «вперед» — «ф» вместе пишется или раздельно?
Впрочем, в театре играла она. Слезно, лажево, надрывно, но что-то тянуло его к ней. Быть может, глаза? Они и в самом деле были с каким-то двойным дном, влекли к себе, засасывали.
А ей уж было мало мужика. Ей хотелось поиграть с ним, как с бритвой. И он таскался за ней. Бродили по набережной, говорили. Он фотографировал ее обнаженной возле ржавых сухогрузов на отдаленной верфи. Она стояла на носу заброшенной баржи, раскинув руки, как птица.
— Я похожа на чайку?
-Похожа. И на камень похожа тоже.
Иногда дня по три они не выходили из ее уставленного всюду пошлыми ароматическими свечами дома. Она билась в его объятьях, и впрямь как зажатая в ладони птица. И с присущей ей эпотажностью называла это днями постельной поэзии.
Как-то Фролов уехал в Вологду. Вернулся вечером, когда полыхал в окнах закат. Прямо с такси позвонил ей.
— Три дня назад, — сказала она, как ни в чем не бывало, — зашел Бубнов с бутылкой Крымского муската. Мы танцевали. Я и сама не знаю, как так вышло. Но я летала.
Осень будет звенеть о стекло. Всю ночь он будет писать ей письма. Писать и смахивать бумагу на пол. Писать и смахивать.
А потом за бутылку в парашютном клубе уговорит летчика АН-2. Самолет оторвется от земли и через мгновенье за ним протянется шлейф из ночных писем. Ветер разметает их по городу. А чуть раньше прозвенит в театре третий звонок. Она выскочит на тускло освещенную сцену и вскрикнет:
— Почему люди не летают, как птицы?
Человек -Гора-Фудзияма. Художник -самоучка, достойный Лувра. Эквилибрист застольных дебатов. Звоню ему:
— Писаатель, — блеюще и как-то даже ругательно произносит он.
И еще что-то обидное хочет сказать. Но я не даю:
-Эт, не ты на озере лунок набурил, морду в кисель легко расквасить?
— Я-а, а ты хде?
— Морду квашу.
— Как это?
— На коньках.
— Б..ть, у меня там флажки на щук стоят, щас все посшибашь мне. Ну, правда, хде ты, че т не вижу?
— Ага, повелся?
-Ниче не повелся, как ты сюда на коньках-то доедешь, тридцать кэмэ от райцентра? И откуда ты знаешь, что я здесь?
-Связи.
-Связи. Приезжай давай. А то я тут уже с собакой стал разговаривать.
Такой человек. Захотел, нанял трактор и уехал за три моря щук удить. Хотя рыбу, как съедобный продукт, терпеть не может. И мы к нему наведались. С коньками, конечно. Потому что ни один дурак не упустит возможность погонять по только-только окрепшему озеру площадью в 4 га. Потому что когда разгонишься — там, где должна быть душа — замирает что-то, шевелится и ты опять живой. А озеро вздыхает порой так, что приседаешь. Но все равно мчишься со щукой наперегонки — она там, а ты здесь. Пока кто-нибудь в лунку не влетит.
А потом мы выпьем и поговорим, чайник будет свистеть, буржуйка покраснеет. А потом взойдет большая луна, и в который уже раз все нам про себя станет ясно.
Мы были пьяные. Сидели в деревенской избе за столом и придумывали названия разным состояниям снега.
Снег – это радость сердца моего. И метель.
Почему у чукчей есть, а у нас?…
— Снег – субстанция стратегическая, — говорил я. — Недооцененная. Он – спасение. Дороги заметены, можно никуда не дергаться, сиди и жди. И от этого ожидания, вернее, от ничего неделания, рождалась куча всего. Дикого, болезненного, метафизического. Ни у кого нет такой тоски, потому что зима такая мало у кого есть. Из этой-то тоски-болезни, говорил немецкий дядька Рильке, рождаются на русских просторах чудотворцы и богатыри.
— Да ладно, пиздеть, — сказал Баляс, который работает в Москве электриком. Своим коронным фофаном Баляс может самую твердолобую бошку на две ровные части раскроить, если надо – на шесть. Как яблоко. — Чудотворцы, епт. Навыдумывает. Все проще и грязней. И никого не жалко.
Зашел Дима и сказал:
А я щас поеду на Самозлейский источник. Правда, пока не знаю, зачем. Но я туда поеду.
И все собрались.
Пять километров лесом по зиме. Хоть и джип, но не вездеход же. Натолкались, накопались.
У магазина я вышел. Остальные курили.
За прилавком стояла девушка.
— Кефир есть? – спросил.
Она показала на полку.
— А вы откуда такие ребят? — бросила взгляд в окно, где кривлялись другие.
— Из Шенино, — говорю.
— Охотники, что ли? А правда, что там зимой только один человек живет?
— Правда.
Полтора литра я выпил сразу.
— Обычно оттуда за другой жидкостью приезжают, — улыбнулась она.
— Так второй день пока. Запасы еще.
— Как вас зовут?
— Меня? Леха, — зачем-то наврал я. Кинул пустой пластик в мусорное ведро у двери. Попал.
— Леш, а вы могли бы со мной переспать?
— Что? – споткнулся я о порог.
— Нет, — опустила она глаза, — ничего, — и ладонью будто старалась отогнать от губ своих сказанное. – Ничего.
Оттепель маленькими ручьями стекала по березам и стволы светились от далекого фонаря.
На источник мы не попали. Доехали только до пилорамы, что стояла на выезде из села, дальше дороги не было.
Радушный пилорамщик Вася выкатил нам почнутую трехлитровую банку самогона, да и у нас с собой было.
В его каморке пахло то ли гробами, то ли вечным сосновым утром.
На столе лежала книга «Планета людей». Половины листов в ней не было. И только под ней пространство было без опилочной пыли. Черный прямоугольник.
Минут через тридцать я вышел. Откуда-то явился Баляс и сказал:
— Я вообще-то только пулями стреляю.
— Хорошо тебе, — говорю.
— Там, за пилорамой, ну под навесом, старый телевизор валяется. Давай, ты его подкинешь, а я постараюсь попасть, — сделал Баляс предложение.
Из темного-темного неба повалил снег. Густой и жирный.
В полукилометре от места, где мы стояли, заметенное еще, стояло кладбище. Я не видел его. Чувствовал. Ощущал. И никого не жалко.
— Так че, – не отставал Баляс, — про телевизор-то? Ты согласен?
Я кинул бычок в снег и говорю:
— Неси.