Владимир Липилин

Владимир Липилин
1974, Краснослободск, Мордовия
Живет в Москве
Прозаик, журналист
Работал собкором в журнале «Огонёк», газете «Гудок».
В настоящее время в:
«Русский Пионер»
«ОДНАКО»
«Православие и мир»
#
Фотоработы Владимира в ФИНБАНЕ
facebook
.
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 2
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 3
ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 4

письма ветру
Каждый приезд в деревню – праздник сердца.
При том, что работы здесь, как правило низовой, приземленной, нет конца, нам нравится это ныряние из одной реальности в другую.
Впрочем, как все давно знают, объективной реальности не существует.
Например, скажут какому-нибудь человеку, что он президент важной корпорации. И он верит, начинает себя вести как президент важной корпорации. Ходит, будто он и правда президент, ест как президент. Даже презирает и увольняет с чувством ответственности за страну. А ведь вполне возможно он добрый и приятный в общении, и никогда не желал стать гондоном. Просто на этих территориях других алгоритмов управления не придумали или они не работают.
В городе мы тоскуем по деревне. Некоторые называют это «дачей», «природой» или «шашлыком». По большому счету, мы тоскуем по себе детским. Когда мы были беззаботны и приезжали туда к еще большей беззаботности. А там мы можем с собой встретиться. Хотя, вовсе не исключено, что от этого соприкосновения можем себе не понравиться, поэтому нередко мы, не успев занести рюкзаки в дом, употребляем прямо на капоте, крупно покромсав колбасу, быстро и тупо превращаемся в свинью, чтоб, как говорится, до основанья, а затем.
В городах проще. Там мы не успеваем половину жизни не то чтобы осознать, а даже почувствовать. Некогда. Говорят, мы разбудили таких бесов, с которыми собственными силами уже вряд ли справимся. И, подспудно зная это, вуалируем, замещаем, негодуем, ну на других, конечно, не на себя же. Это я специально так примитивно говорю.
Вообще же все хорошо. Миру предстоит столько чудесных открытий, связанных с новым человеком. Допустим вот это сращивание нас с машиной. Чем не предмет для исследований не только для будущих социологов, но и антропологов? Эмоциональное выхолащивание принесет баснословные барыши психологам и психиатрам.
А у нас есть деревня.
Но и там мы отнюдь не свои. Я прохожу здесь под негласной кличкой «корреспондент» — с выдерживанием обязательной трехсекундной паузы, в которую мысленно (в голове своей, шепотом) говорящий укладывает как бы само собой разумеющееся слово «е…ый». И тут не пренебрежение, не отглагольная форма прилагательного совершенного надо мной действия, тут эпитет, штамп, относящийся к самому институту второй древнейшей. Сначала это было частичной правдой, а теперь так и есть, спрос определил предложение.
Аборигены ведут себя так, словно они и есть настоящие москвичи. Первыми никогда почти не здороваются, любой взгляд в их сторону расценивается как личное оскорбление, а наши вечерние прогулки или бег трусцой для них — умалишенность или (в лучшем случае) упомянутый ранее эпитет и блажь. Такая простодушная защита.
Иногда мне кажется, что я фиксирую что-то навсегда уходящее, умирающее. Саму деревню, все то, что вмещает в себя понятие «крестьянство».
Но сколько было их — пророчащих и заблуждающихся? В детстве такие люди, взрослые и серьезные, с апокалиптическими разговорами, еще производили какое-то впечатление. Благодаря собственному мешку воображения, все эти их факты ввергали в шок, и даже в дикий страх. Но со временем пришло понимание: они же тоже всего лишь люди. Пусть даже ученые. А язык — он действительно без костей.
Ночами я пытаюсь играть на гармони этюды, которым учит меня ю-туб. Получается плохо, и даже отвратительно. Тогда я беру первую подвернувшуюся книжку. Вчера подвернулся наполовину изведенный на розжиг печи Глеб Успенский.
Однажды ему показалось, что он придумал спасительную формулу. «Всей жизнью крестьянина в прошлом, настоящем и будущем правит власть земли, — написал он. — Оторвется крестьянин от земли – нет народного миросозерцания. Настает душевная пустота, полная воля, неведомая пустая даль, безграничная ширь и «страшное» — иди, куда хочешь».
Но затем и сам народолюбец отчетливо увидел: нравственные основы человека только от земли – миф и камуфляж желаемого под действительное. Земля – она лишь плодородный слой, почва. Тем более, что весь ход русской истории располагал к тому, чтобы крестьянин напрочь забыл свое крестьянство. Агонию длили искусственно, пока было надо. А теперь вот – иди куда хочешь.
В основном деревенские выполняют сегодня функцию человека под названием «муж на час». Дрова, могилы, проводка, всевозможные ямы и котлованы, копка картофеля и строительство. Но это те, кто когда-нибудь где-то работал. Молодежь плевала на такое сжигание калорий.
Коля-Пушкин-Дьявол всегда знает, где в данную минуту трудятся все его конкуренты. Однако конкурентами он сам их не считает – недостатка в пахоте здесь нет. Выбирать можно лишь способ оплаты – натур или деньги.
Коля всегда выбирает натурпродукт. Говорить про денежные знаки для него – ломать себя. Он и у нас-то просит очень редко. Не более 40 рублей — столько стоит в магазине одеколон под названием «Саша».
— Как художник художнику, — серьезно произносит он.
Он, пожалуй, единственный житель Земли, который плачет над моими фотографиями. Правда, изображен на тех снимках он сам. Когда я привожу ему его портреты – из глаз у него натурально текут крупные, точно окалины сварки, слезы.
Он сжимает ладонь в кулак и стучит себя в грудь:
— От тут прям текёт. Река, епта, текёт.
И ерошит свои, наконец-то, отросшие с весны бакенбарды.
— Нет, ну кино, блин.
А вечером мы наблюдаем удивительное действо под названием «возвращение стада». Тишина такая стоит дивная. Деревья, словно электрические лампочки, светятся изнутри.
Женщины, мужики, бабушки и дедушки выходят к своим домам заранее.
Кто-то коротает время на лавочке, заменяющей разом все социальные сети. Кто-то стоит, опершись на посох. Дети гоняют на самокатах, играют в вышибалы.
И вот из-под горки в закатных лучах появляется первая рогатая голова. За ней еще одна. Они ревут.
И люди встают со скамеек, дети бросают играть. Как будто солдаты-победители бредут домой с долгой войны. Не хватает только цветов. Но все букеты внутри них, они превратили их в молоко.
У дома соседей в ожидании этого молока стоит белая «Тойота». Скоро бабушка надоит три банки и, теплые, отправит в Москву. Туда с их сыном отбывает внучка Кристина. Еще год учебы — и она будет жить в Канаде.
Прощаясь, они плачут. Как будто, и правда, перед войной.
А где-то рядом, возможно за той вон желтой, сыплющей на землю мягкие иголки, лиственницей, стоит Бог. Он ни во что не вмешивается. Просто стоит и любит всех.
Патетическое поздравление с Днем печати
«Делать он ничего толком не умел, поэтому стал журналистом», — сказал когда-то обо мне мой же папа. И был, конечно, прав.
Но, видит Бог, я старался.
Когда-то я хотел стать мастером кулачного боя. Выходить на ринг в диких воплях толпы и с командой «бокс» делать коронный хук слева. Это уже потом, когда мы резко сблизились с элегантно крашенным паркетом, я отчетливо понял, что из всего этого мне нравятся лишь слова «брейк», «хук», «нокаут», тусклый блеск с конским волосом перчаток, но не сам бокс.
Затем я хотел развозить письма. По Аляске. В собачьих упряжках. В письмах были бы простые сообщения о простых делах, запахи чужих домов, почерки, зародыши всяких чувствов. Я так этого хотел, что однажды запряг своего в меру лохматого волкодава в санки с разноцветными поперечинами и в 30 градусный мороз махнул на нем в поле, где очистные. Пес пробежал, а я провалился в прикрытый хлипким настом канализационный колодец. Выпал из санок. И тогда в полной мере я ощутил на себе выражение, что оно действительно не тонет. Пес мой вытащил меня. А сам, спутанный веревками угодил в этот колодец. Потом настал мой черед его тащить за ошейник. До дома было километра полтора. И мы побежали. Какашки на нас примерзли и позвякивали, как колокольчики. Было досадно, немного обидно, зато как весело! И вот с тех пор я не перестаю любить письма и собак.
Потом я хотел ездить зимой на таком старом трамвае, который на языке трамвайщиков зовется «метлой». У него еще помимо фар огромный прожектор, как у паровоза. Ездит этот трамвай обычно ночью. Расчищает рельсы от снега. Улицы пусты и тихи. Кое-где светятся мутные от пурги окна. А ты, в мягком постукивании, едешь тихонько по городу, как будто бережно везешь в тугом луче, подчеркнутом метелью, какое-то кино детям. Про приключения, про интересную не без опасностей жизнь.
Работать на этом трамвае я тоже не стал. Потом было еще много метаний. Хотелось быть сборщиком велосипедов «Сура» на пензенском заводе, пчеловодом, лесником, закройщиком парашютов на Ивановской ткацкой фабрике, астрономом в поселке Нижний Архыз.
Но вскоре понял, что от всех этих работ мне нравится атмосфера, запах щей, а не сами щи. Обладание фактом, какой-то историей стало гораздо ценнее, чем обладание той или иной вещью.
Да, мы не воздвигаем дома. Зато когда получается разобраться в некоторых проблемах, некоторым достойным людям удается эти заслуженные дома получить. Мы не лечим людей, но многие из нас помнят врачебную этику главным в которой является постулат «не навреди» Мы бываем невероятно циничны, но каждый божий день сталкиваемся со всеми божьими заповедями и для краткости сводим их в одну «просто не будь гондоном» (причем, это относится и к девушкам). Мы все время живем внутри некоего текста, как внутри поцелуя, пощечины или плевка. И вот находясь там, многие из нас пытаются конструировать жизнь так, чтобы все вокруг стало немножечко добрее, прости Господи, справедливее. И мы сами тоже. Честное слово, я до сих пор знаю таких.
Ну и это, с Днем российской журналистики!!!
Сегодня встретил пьяного мужика. Он переходил реку через висячий мост. Мостик качался, мужик нет. Я с велосипедом шел с другой стороны. Когда мы поравнялись, мужик сказал:
— Ты не переживай.
— Да я, — говорю, — не переживаю.
— Бля, как я люблю умных людей, — произнес он. И пошел дальше. Мостик качался, а мужик нет.
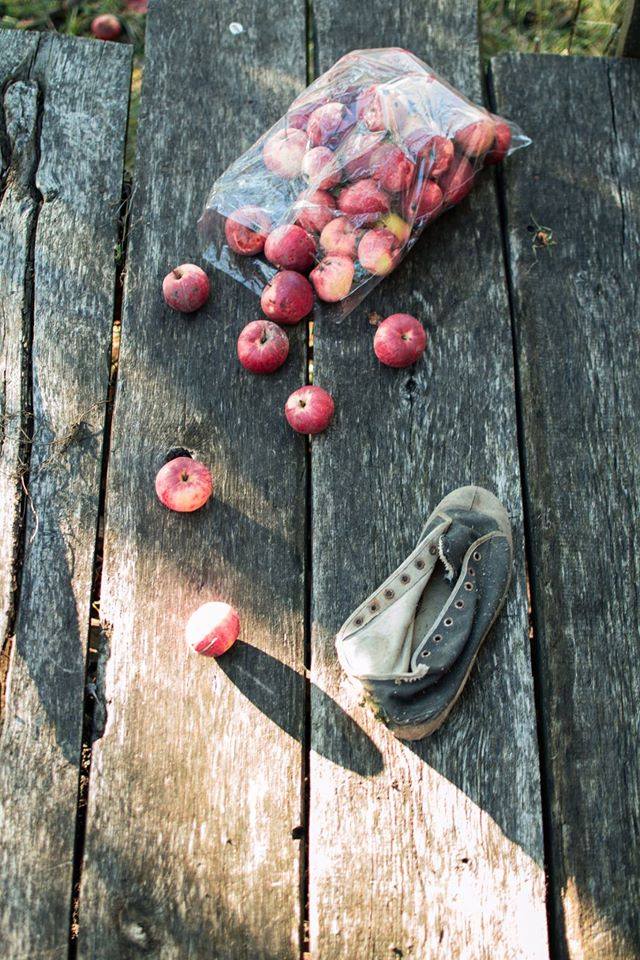
АНЯ, ВЕРНИСЬ
Каждую осень ближе к заморозкам бабушка приносила с озера целую снизку еще живых в капканах ондатр. Те вырывались, верещали, клацали сковывающим их железом. А бабушка степенно брала по одной за внушительный, как бикфордов шнур, хвост и, ударив головой о приступок крыльца, успокаивала. У ондатр были открыты глаза, из ноздрей сочилась кровь. Но страшно не было, просто удивляло и не постигалось вот это: все так легко происходит. Жизнь – перышко на ладони.
В общем, на охоту я не собирался, но проведать место, в котором для меня было столько обжигающего сердце пространства, желалось очень.
Товарищи добрались ко мне вечером, употребили по три кружки чаю. Я кинул в багажник рюкзак, и мы тронулись.
Нижний прошли в полночь, подолгу задерживая взгляды на мостах, утыканных огоньками. Я испытывал самое настоящее, совершенно дурацкое, как улыбка похмелившегося человека, бережно несущего облетевший букет роз, счастье. От этого уюта, катящего на четырех колесах, запотевших боковых окон, которые то и дело нужно было протирать ладонью, печки, дышащей подогретой осенью прямо в лицо, но главным образом от того, что так все удачно пока складывается. И я еду.
Под утро свернули с большака, остановились. Туман не давал никакой возможности оглядеться. Метрах в пятидесяти справа виднелась шиферная крыша двухэтажного барака, много-много антенн. Из-за этого барак походил на заблудившийся в среднерусских просторах фрегат.
Вдруг из марева проступила фигура мужика. Фуфайка защитного цвета, сырые резиновые сапоги с прилипшими нитями трав. Руки в карманах. К правой была привязана веревка, уходящая далеко в марево.
— Братва, закурить не дадите?- сипло спросил он.
Я вытащил пачку.
— Подожги сам, а.
Чиркнул зажигалкой, протянул, он вытащил из карманов руки. Пальцев на них не было. Ни одного. Сигарету он зажал в культях, затянулся.
— Че за город-то, отец? – поинтересовался Женя.
Дядька поддел цигарку языком, сдвинул ее в уголок рта и невозмутимо ответил:
— Марс.
Веревка на его локте зашевелилась, стала дергать.
— Паскуда, — процедил он, впрочем, без ярости. – Борька, Борька, Борька, твою мать.
С другого конца провода раздалось баранье блеянье, переходящее в нецензурное.
-Ты куда нас завез? — спросил актер.
— А мне нравится, — благодушно потянувшись, сказал художник-некрофил.
Белая пелена оседала, будто пыль в полях от комбайнов, удерживаясь лишь в желтеющих перелесках.
Как ни странно, проселочные дороги не запахали, они не заросли репейником и, кажется, были даже на прежних местах. Кто-то куда-то ездил по ним.
На месте была и деревня, которую сперва помечали в картах как «нежил.», а потом и вовсе перестали наносить. На въезде гостей встречал ржавый остов старого гусеничного экскаватора, уткнувшегося ковшом в землю. Лет двадцать назад в деревне появился фермер, отставной полковник ОБЭП. Он разработал маниловский план, провел даже асфальт в голове своей, получал немыслимые урожаи топинамбура, взялся чистить озеро, форелью из которого, по его словам, планировал обеспечить на долгие годы не только район, но и всю Нижегородскую область, а, может быть, даже и страну. Потом, правда, экскаватор сломался, топинамбур чего-то посох, а рожь забили васильки. Фермер осерчал, написал комбайном по полю что-то вроде слова «х..й». Сдал в металлолом всю технику и купил в Болгарии маленький домик.
Мы медленно мяли бурьян «кенгурятником».
— Забавно все как,- сказал Женя. — Природа, как собака, залижет на себе любые раны, которые сделал ей человек. А человек, если стал ублюдком, то это не лечится.
С легкостью матерого домушника монтировкой он поддел на амбаре замок. Обнаружил там порожние сгнившие бочки, сундук с поеденным молью добром, конскую узду на гвозде и косу-литовку. Неотбитая, она шла плохо, но полынь и крапиву до крыльца уложить кое-как удалось.
И амбар, и дом принадлежали последней обитательнице этой деревни – бабе Нюре (Анне Михайловне) по прозвищу Черная. Внешностью цыганки и норовом ледокола «Ленин» когда-то она внушала ужас местным передовикам пятилеток. Анна Михайловна, в ту пору еще просто Анька умела за ночь спахать на каком-нибудь чахлом ДТ-75 три дневных нормы. Забулдыжные механизаторы всерьез полагали, что без ее ведьминских замашек тут не обходится.
— Если глянет недобро – сляжешь, а если хорошо поглядит – пропадешь, увязнешь, собачонкой на привязи станешь, — сплетничали взрослые дядьки.
И развивали тему.
— А чего. Вон видал у нее запАска от «Беларуси» за сараем в крапиве стоит? — говорил один другому.
— Ну, — напрягался тот.
— Вот в этом колесе она по ночам и шабашит.
— В смысле?
— На этот, как его, на съезд ведьм летает.
Трактор свой она звала нежно, как городские фифы своих фанфаронистых ухажеров «мальчик мой». Если случались поломка, она загоняла его «на яму», в которой в 19 веке обжигали кирпич. Холила и лелеяла. Без нее не обходилась ни одно всесоюзное мероприятие — Волго-Дон, целина. Товарищ Хрущев собственноручно приколол на ее (во всех смыслах выдающуюся) грудь Орден Ленина, пожал ладонь, и даже, говорят, поцеловал в смольную щеку. Но орден она не носила, разве что по-пьяни иногда растворит со звоном окошко и безумно заорет через озеро:
— Стакан орденоносцу!
Правда, никто чего-то не спешил. Не несся, сломя голов,у с граненым, боясь расплескать. Да и не кому было. В деревне, кроме нас с бабушкой и Таньжи, проживающей в тополях под кодовым названием «где в 79 году Семен Костькин об башку агроному гитару сломал» больше жителей в ту пору не имелось.
— Странно как, — сказал актер Андрей, когда мы вошли в дом, — замок не сломан. Выходит не лазили. То ли все такие сознательные в округе. То ли…
— Тебе ж, идиоту, говорят, — интеллигентно перебил Женя, — колдунья тут жила. Вот и все объяснения.
И правда – все, все было на месте. Чугуны, ухваты, фотокарточки в рамке, крашеной серебрянкой. В столе обнаружилась даже советская мелочь и стихи песни «Вьюн над водою» переписанные от руки. Отвердевшие пряники в авоське, кровати с железными еловыми шишками на спинке, мертвая бабочка между рам. Как будто хозяйка вышла куда-то на время.
Мы распаковали рюкзаки, я пытался разжечь печь, но она чадила.
— Выпить надо, — резюмировали Женя. – А потом, помолясь, поди, и к супу кого-нибудь застрелим.
— То есть, как это, кого-нибудь? – всполошился актер. – Я сюда на уток ехал.
— Не ссы, -подбодрил его художник.
Выпив и закусив, петербуржцы, долго собирали свои навороченные ружья итальянской фирмы «Бинелли», затем отправились на озеро. Я разглядывал фотографии. Она на гусинице трактора, а вон тост произносит за богатым столом. В молодости она была красива, несмотря на мощный нос и едва заметные усы над губой.
С Черной была связана самая романтичная в деревне история. Однажды (в конце 60-х), когда она уже вернулась из своих странствий окончательно, к ее дому подъехала желтая «Волга».
24-й модели с шашечками. Шустрый, щуплый мужичонка долго выгружал из багажника прямо на траву позвякивающие ящики со спиртным, свертки в бумаге. Черная вышла на крыльцо и застыла:
— Чалый, ты?
— Кто ж еще, — лыбился разодетый в расклешенные кримпленовые брюки, пиджак и желтый чешский галстук тот.
Как выяснилось позже, вместе с этим Чалым Анна Михайловна когда-то в буквальном смысле давала стране угля. Она сгребала этот уголь на тракторе, он – был слесарем в автоколонне. Потом поднялся, возглавил ее. И вот – явился.
Весь вечер они кутили под старой черемухой, вспоминали. Она – в цигейковой шубе, подаренной им. Он – галстук долой, в рубахе, расхристанной на груди. Никто толком ничего не знал о том, что у них когда-то было, только Чалый потом проболтался деревенским, что каждый отпуск следовал за ней по пятам, искал.
И вот – ночь. Чалый долго курил на воздухе. А вернувшись, нарочно ошибся койкой. Анна Михайловна трактора колесные переворачивала руками, а его просто взяла за майку, трусы и выкинула в окошко. И шубу тоже.
Впрочем, начальник автоколонны был парень упертый, чумовой. Он еще раз съездил в город за водкой, опоил всех комбайнеров, нарушил уборочную. И через три дня на ЗИЛу, в кузове которого был из тех же комбайнеров подобран вполне себе профессиональный оркестр с баяном, балалайкой, пионерским горном и даже тамбурином, приехал снова. Но Анна откровенно послала всех этих жалельщиков из министерства любви.
— Сука, — шептались в кузове. – Такого мужика приворожила. А теперь изгаляется.
Но и тут не сдался бывший автослесарь. В татарской деревне Лопуховке, что была по соседству, он приобрел ей пегого жеребенка женского полу. И назвал его АНЯ, ВЕРНИСЬ. Перевязал бантом из косы дочки одного татарина. Отослал. Затем докончил оставшиеся деньги и укатил в свой угледобывающий край.
«Пах, пах» — стелилось от озера по не просохшей еще траве.
Черная тоже стала под старость поддавать задорно.Затрет две фляги бражки из старых вареньев, и не давая им созреть, тихонечко выцедит ковшиком. Ходит, бормочет что-то, шепчет себе под нос. Пролетающие мимо грачи к ногам падают. Выпьет, а потом клянчит у бабушки. Но бабушка ее ни разу не боится, раз откопает в смородине бутылочку из заначки, другой, потом пошлет: «Нюрка,ты меня хоть в ежика преврати, больше не дам. Ты ж подохнешь. А я потом жалеючи на жальник (почему-то так иногда называли в деревне кладбище) тебя волоки… Она уходила, не превратив бабку даже в корову, все шептала чего-то, шептала. Ее запои странным образом рифмовались с пришвинскими «весной света», «листобоем» и «зазимком». Однажды она подозвала меня, шарахающегося по саду, в поисках орешника на удилище. И попросила втихаря от бабки съездить в ту самую Лопуховку. В магазин. За вином «Улыбка». Сказала коротко:
— Трубы горят.
Мне было 9 лет, и на лошади ездить я добром не умел. Но она помогла, подсадила на Аню (которую уже можно было назвать старой клячей), зажала в кулак синенькую пятирублевку, присовокупив к лошадиному заду смачный поджопник. Сама же чинно и как-то плавно завалилась боком от этого па в крапиву. Я поскакал.
Это было настоящее волшебство! Поля неслись мне навстречу, мир был таким теплым и простым, как баня на следующее утро.
На сдачу к трем бутылкам с кубанской девушкой на этикетке, седовласый татарин насыпал мне в холщовую сумку мармеладу в крупинках сахара. Отвешивал Аньке поджопник, и я мчал обратно.
«Ба-бахх» — неслось с озера.
Мы сошлись с ней на фоне «Улыбки», и еще некоторых незначительных вещей. Только-только в далекой Мексике закончился чемпионат мира по футболу. Мне купили мяч, настоящий, ну, такой, с черными ромбами. И я слонялся с ним, забивая голы во все воображаемые ворота.
Тогда Черная пошла к старухам, построила их на лугу. Разбила на две команды. Бабушка с Таньжой, а мы с ней. Штанги сделали из худых чугунов. И началось.
Черная ловила летящие верхом мячи подолом своего фартука, и так несла, как гуся, к противоположным воротам, там вываливала и пасовала мне. Остальное было делом техники.
— Это не по- футбольному, — кричала Таньжа.
Мой массивный вратарь-гоняла, шел в расклешенной цветастой юбке на свою половину поля, астматично дышал, и никак не реагировал.
— Это не по-футбольному, — на тон выше ныл соперник.
— В ебеня, — беззлобно и загадочно реагировала Черная-… — правила вон… иди почитай.
В тот день мы выиграли со счетом 11:3.
Художник с актером вернулись часа через четыре. На их поясах висели утки. От шагов шеи птиц колыхались.
— Девять штук, — сказал Женя.
— Двух не достали, — уточнил Андрей.
Уток сложили в ряд, и Женя принялся их фотографировать. Селезни отливали радугой.
Товарищи пили, смеялись, позировали друг другу с ружьями, из которых не выветрился еще смертельный дух. Раскрыливали уток. Ветерок шевелил их верхние пуховые перья.
Я пошел бродить по деревне. В доме, где когда-то проводил у бабушки каждое лето, а бывало и зимы, отсутствовали крыша и пол. Теперь там, как в оранжерее, росла береза. Из мертвой, сброшенной кем-то с потолка земли при разборке потолочных досок, я пытался извлечь книжный шкаф. Острое и холодное что-то полоснуло по ладони. И закапало в пыль, сначала беззвучно, а потом тенькая, будто маятник в часах.
«Кап-кап, кап-кап», — выталкивало сердце.
«Тук-тук, тук-тук», стучали когда-то ходики, когда мы здесь под вечер успокаивались, и бабушка, сидя на сундуке, рассказывала со смехом про далекое. Ужасное или светлое. А мы, в предвкушении утренней рыбалки или похода в поля за созревающим горохом, засыпали сладко, не понимая ее молитв и замысловатой, шепотом сказанной фразы «Бог — все во всем».
Я не был тут с тех пор, как не стало ее, потом Черной. Двенадцать лет прошло, а на яблонях в саду ветер раскачивал огрызки веревок, которые служили нам качелями. Стоишь, смотришь на это, и вдруг тебя, что называется, накрывает. Здесь почему-то вериться, что ничто и никуда не уходит, не исчезает насовсем. Обрывки тех слов, отношений, характеров остаются где-то на мировом сервере памяти. И когда совсем муторно, вспомнишь, будто наберешь известный адрес в сети, и по ссылке в поисковом окошечке всплывет другое бабушкино выражение «Делать надо все старательно и хорошо, говенно само получится».
Когда я вернулся, у костра, кроме товарищей сидел на корточках какой-то дед.
— А я слышу, громыхают, — говорил он. – Дай, думаю, схожу.
— А сколько тут до вашей деревни?- спрашивали питерцы.
— Да километра три, наверно.
Женя немедленно вручил ходоку самых отборных уток и пластиковый стаканчик.
— Не, не, — запротестовал тот. – Я их не ем. Зубов шесть штук осталось, да три тебенька. И у старухи тоже. Я зайчишками, бывает, промышляю, — усмехнулся он чему-то. – Даже свой способ охоты изобрел.
— То есть? – выпив тоже, спросил Женя.
— А вот нюхательный табак, знаешь?
— Угу?
— Значит, беру его, хожу такой, по пенькам рассыпаю. Заяц подошел, нюхнул, и кэ-эк чихнет – х…к мордой об пень. Готово дело. Я потом только иду утром, в мешок их штабелями складываю.
— Гонишь, дед, — сказал Андрей.
— Провалиться на месте, — лукаво сощурился старик. Его одарили сигаретой и дополнили стаканчик водкой.
Он ловко, без спешки, выпил, занюхал опять рукавом.
— Пойду я, ребятки. А ты, что ли Ольгин, внук? – вперился он в меня. — Во вымахал. Помнишь, ты маленький приходил ко мне в кузню и просил дать железяк?
Я не помнил.
— Ну, я тебе и дал, чемодан с подковами, еще какой-то рухлядью. Эх,бабка твоя мне звездюлей и навешала. Говорит, надорвался, три дня с горшка не слезал.
По этому случаю деду налили еще.
Женя рассказал про утреннюю встречу с мужиком.
— А, это Толик, — прикурив от головешки, сказал старик. – Он столяр от бога. А года три назад москвичи выкупили там ДОК. Ну, он забрал тиски, говорит, его были. А они ему морду набили, и пальцы обеих руках обкорнали. Сказали, закон должен быть и порядок. Что поделать, звери.
Дед помолчал.
— А город тот вовсе не город, село. Раньше Маркс называлось, потом, как водится, нужная буква, отвалилась. Кругом один Марс, ребятки. Ну, спасибо вам, Медведеву и Путину. До свиданья.
Женя вознамерился довезти его до дому. И Андрей тоже.
Руку дергало под бинтом, не утихало, я растопил печку.
Вернулись они только к полуночи. С ними был бородатый спутник в футболке ЦСКА, 25 номер, сзади надпись «Рахимич», а на трусах другая- «Дина».
— Отец Виктор, — отрекомендовал его Женя, вынося из машины еще охапку спиртного.- Вот такой человечище. Нападающий последней молодежной сборной СССР по футболу. От него три дня назад жена ушла.
Батюшка зачем-то привез с собой икону,завернутую в полотенце, поставил ее аккуратненько на крыльце и уселся возле костра.
Потрескивал пластик в ладонях, гремела музыка через форточку авто, полная луна далеко простирала тени деревьев. И землей пахло, которая отмучилась, родила и теперь, изможденная, успокаивалась.
— Вот я мертвяк рисую, батюшка, — говорил Женя. – Понимаешь? А к картинам этим из американских галерейщиков очередь. Я ж когда-то так, дурачась, написал это. Теперь этой хренью деньги зарабатываю. А вот они, — кивнул он в темноту то ли на уток, лежащих в траве, то ли на саму деревню — были живые. Настоящие.
— Господи, какие же мы все мухи, — говорил отец Виктор, опрокидывая очередной стакан. – И я, и вы. Все.
Они еще долго говорили о Льве Гумилеве с его «Этногенезом и биосферой земли», о том, что у каждой нации есть свое окончание, о Генри Форде, о боксерах выдающихся. Потом все, кроме отца Виктора разошлись, уснули, кто где. А я еще долго слышал с печки сквозь пьяный храп товарищей, как треща бурьяном, в футболке с 25 номером на спине и трусах с надписью «Дина», батюшка ходит босиком по деревне и басовито поет: «Богородице, Дево, радуйся».
Утром мы проснулись от воя сигнализации.
Женя выскочил на улицу, вернулся, усмехаясь.
— Е-мае, я ж забыл. Мы вчера в магазине у девушки кота купили. За 56 рублей. Она про какую-то тетю Маню говорила, мол, ее животина. Но нам-то по фигу, что ты, мы ж пограничники. А этот, сволочь, пригрелся в машине и дрых на задней полке, под утро наверно, надоело, и стал везде лазить.
Он держал кота за загривок, тот щурился, моргал глазами, висел.
На улице моросило. Завтракали чаем в пакетиках и раскрошенными конфетами «Родные просторы». Батюшка прятал грязные ноги под лавку.
К обеду развиднелось, и я опять шатался по деревне. Заходил в дома, уносил оттуда пуговицы с тесненным якорем, листки, исписанные чернилами, чей-то нательный алюминиевый крестик.
Когда мы повезли отца Виктора домой, у него вдруг зазвонил оживший мобильник.
— Матушка, ты уж прости меня, дурака, — сказал он в трубку и засиял. – Спаси Господи.
Он нажал отбой и выдохнул:
— Аня…
Сглотнул что-то, морщась, будто у него больное горло и добавил:
— Вернулась.
У дома священник благодарил нас за что-то, трепетно и даже горячо, базапеляционно отказывался от уток, но мы уговорили, навязали. Я взял листок бумаги, положил его на капот и минут десять писал на теплом железе всех деревенских, которых и не знал даже, но по рассказам бабушки, Таньжи и Черной помнил.
— Спаси Господи, — твердил отец Виктор от порога, махал нам этим листком, прикладывал его к груди и слегка, почему-то виновато кланялся.
Мы сели в машину и поехали за грибами.

ЧЕМ ПАХНЕТ КОСМОС?
В праздники деревенские бабки по очереди топили баню. Она, соломенная, похожая на мокрую курицу, гляделась в чуть сморщенную рябь озера. А сразу за ней — кочковатая степь да луга заливные. Больше на том берегу строений не было.И вот пока мы таскали воду, выливали в чаны — там, за старым срубом с осыпавшейся из пазов глиной, не умолкали чибисы. Бестолковые, хохлатые птицы, родившиеся, кажется, с единственным вопросом к существу человеческому.
-Чьи вы? Чьи вы? – пищали они, с таким императивом, надсадой и ноткой тоски, будто и правда знать это им было позарез необходимо и интересно.
Любой ответ – шуточный или серьезный был, конечно, неправильный. И они, не сбавляя, продолжали, .
А мы весело расплескивали в кеды из ведер небо. Гадали по дыму, какой к сумеркам будет клев.
Старухи мылись. Затем бабушка с тяжелой одышкой, в ночнушке до пола, купала нас.
Воздух в предбаннике измерялся в промилях, а солома под ногами казалась масляной.
И уже после в чьей-нибудь избе начиналась гульба.
Дед Куторкин по обыкновению жег. Старухи вторили ему. Миха дрых, а я на грани какой-то зыбучей реальности слушал разговоры.
И что-то смешно щекотало от голосов внутри головы, в темени. Словно там, под черепной моей коробкой, ходил, терся о косяки мыслей кот, выписывал восьмерки, толкал лбом в бесконечность и приятными мурашками трещал, щурился.
После яств и самогона, они играли в карты, вспоминали, спорили. И если потом шли на воздух, то тем все и заканчивалось.
А если поддавали еще, то переходили в стадию песен, а потом (по традиции) плача.
Дед не любил этого, отчаливал.
Конечно, в детстве мир настолько же преувеличенно прекрасен, насколько и трагичен. Все на пределе. Но когда за плач брались бабки, у каждой из которых такие неподъемные сундуки горестей и печалей, то вообще была полная уверенность, что все скоро кончится. Что будущего нет и мы никому не нужны.
«Ничьи мы».
Обычно в этот момент у меня слезы капали, а Миха начинал гнусно портить воздух и утверждал потом, засранец, что он это вовсе не специально.
Или в кухне случайно брал с полки самую нижнюю тарелку из стопки – видимо он тоже не выносил этой драматургии. Нужен был какой-то диссонанс.
А однажды в такой пир нас дома не было, мы туда из леса возвращались.
Сквозь распахнутые окна, занавешенные марлями, элегично выводила Марина Журавлева.
«Облаками белыми, белыми. Уплывет любовь наша первая».
Потом включили ламбаду. Да, имелась у нас такая роскошь на магнитофоне.
Бабушка очень даже виртуозно могла исполнить это латино.
Дверь в дощатый погреб у соседского дома была незаперта. Мы заглянули. От стрехи в тварило темени уходила натянутая веревка, покачивалась. Когда глаза привыкли, мы узрели бабу Полю.
Она повесилась.
Миха был расторопнее, схватил ржавое лезвие косы, торчащей под венцом погреба, рубанул по витому. Бабка свалилась.
Прибежали старухи, вынули ее и, как это ни странно, она выжила.
Баба Поля сидела на траве возле дома в одном галоше, совершенно чумная, раскачивающаяся еще в ритм веревке.
— На губах прям горечь, как угля наелась, — сипло почти шепотом говорила она.
Позже она поведает,как летела уже куда-то, как скорость была такая, что она от ужаса прикусила язык.
— Эхе-хе, царица небесная, — выдохнула бабушка. Только она могла с такой интонацией сказать эти простые слова, что в них, произнесенных, умещалась целая книга под названием «Исход». И весь человек – земной и небесный.
Бабка Поля – тщедушная, сгорбленная, сухая жила в соседнем доме с бабкой Нюрой, которой приписывали колдовские навыки,и у которой была лошадь по кличке Аня, вернись.
Анна Михайловна — властная, мощная, крутая. Пелагея – временами занудная, тихая и вечно в работе.
Иной раз смотришь в поле – стог сена вроде бы сам по себе идет. А нет. Это бабка Поля его на спине волочет. А зачем? А накосила. Сгодится, чай.
Ей никогда не нравились наши с Михой прыжки с крыши дома на будку от «Москвича»- каблучка, которая служила будкой собаке. Мы шумели железом.
Не нравилось, как мы в навозной куче запалили однажды костер и из гудрона в обычном ведре с добавлением, естественно, сметаны, пытались состряпать настоящую жвачку. Она ворчала на наших родителей:
— Выдриснут одного-двоих (имелись в виду дети) они потом и вырастают нахалами.
Но весь тот день она ходила такая нездешняя, в свете.
Нам была тогда притягательна смерть и мы хотели расспросить ее подробней о полете в петле, но не решались.
А вечером с дедом Куторкиным катались на свинье. Ну, пытались получить родео.
Жирная Глаша с висячим подбородком так взбрыкивала и, когда мы летели прочь, убегала за амбар. Оттуда высовывалась, смотрела на нас ничего не понимающими глазками партийного функционера. Будто спрашивала:
— Чего вам, гадам, надо-то? Объясните, я поднатужусь, сделаю.
Мы загнали ее, пылающую, к деду во двор.
Шел август, даже не шел, а рушился. Звездами в полынь.
Мы сидели на скамейке перед домом и считали их, не успевая загадать ничего путного.
— А я в воспоминаниях Армстронга читал, — вспорол тишину дед, и опять сделал вертикальным козырек от картуза, — у наших космонавтов. Что углем там пахнет, сваркой и железной дорогой.
Тихо, неспешно, вразвалочку шествовали друг за дружкой две медведицы – большая и поменьше. Чибис пролетел. Но ничего у нас так и не спросил.

Вечер у Эммы
История одной фотографии
2002 год Июль. В начале двухтысячных, сразу после окончания МГУ им. Н.П. Огарева, я работал в газете «Самарское обозрение». Без преувеличения, там подобрались корифеи профессии. Люди, обладающие прекрасным русским языком, тонким чувством юмора и иронии. Это было одно из лучших изданий не только области, но и страны. На работу я бежал, а это ли не счастье? Газету уже в день выхода невозможно было купить. Толстый еженедельник читали строители, инженеры, врачи, спортсмены и даже губернатор и мэр города. И тот, и другой зачастую, правда, без энтузиазма. Глава региона высказывался всегда подчеркнуто осторожно, а мэр как-то в сердцах бросил: «Не люблю я это «Самарское обозрение» — там одни евреи и Липилин». Хотя сам носил звучную фамилию Лиманский. Единственное, что для меня было странно это то, что в еженедельнике почти не было материалов о простых людях. О людях не бизнеса или шоу-бизнеса, а тех, кто составляет реальную ликвидность города, области, страны. А ведь Самара — город, напичканный историческими событиями и масштабными характерами. Темы просто валялись под ногами. А мне всю жизнь именно это и было интересно. Однажды в отпуске, я взял велосипед, палатку, спальник переправился через Волгу на речном трамвайчике и просто поехал бесцельно по Жигулевским горам. В селах и деревнях еще держали коров. И как-то в дождь мы с одним пастухом укрылись под навесом для сушки сена. Места те были сплошь легендарными, в Ширяево, например, родился когда-то поэт, впоследствии друг Есенина (взявший по названию села себе псевдоним Александр Ширяевец). Последнее свое стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья»… Сергей Александрович посвятил именно ему. Там же немногим раньше Илья Ефимович Репин писал этюды с местных бурлаков к своей знаменитой картине. В соседнем селе Гаврилова Поляна была когда-то знаменитая на всю страну психушка, в которой побывали многие знаменитости. Как раз в том селе мы и пережидали с пастухом дождь. Разговорились. У пастуха по понятным причинам дефицит общения. Он рассказал и о том, о чем я не спрашивал.
— А вон в том доме, на склоне, — указал он, — старуха одна живет. Немка. Она любовницей у Гитлера была. Мы ей дустом помидоры посыпали, — шепотом произнес пастух. — А она, падла, живехонька.
Мало ли может намолоть человеческий язык? Я не особо-то поверил. Но решил зайти, попросить воды, познакомиться, в общем.
Почти всегда к журналистам люди относятся с подозрением. И часто справедливо. Человеку, если он не звезда сериалов, не надо, чтоб о нем вообще хоть как-то писали. Ни плохо, ни хорошо. Бабушка продержала меня у порога минут 15. А потом все же предложила чаю. Кроме старосты села, которая каждый день тогда заходила ее проведывать и приносила продукты, вызывала врача, заказывала дрова на зиму, Эмма Винд (так звали бабушку) ни с кем не общается, психиатрическая больница, где она проработала много лет, сгорела, телевизор не работает, радио тоже.
Давным-давно в старом городе Мюнхене работала Эмма Винд в типографии. Читать словари и набирать в ящички литеры нравилось ей. Из текстов слагались целые судьбы, затем сваливались в емкость и переплавлялись в новые строчки. Жизнь казалась податливой, как свинец.
Однажды в типографию заглянул человек со взглядом, как формулирует Эмма, испуганного кролика. Он подошел к ней и, дико смущаясь, сквозь шум спросил, не поможет ли она ему подобрать шрифт на афишу для выставки. Эмма оформила бумаги и набрала крупным кеглем: Адольф Шикельгрубер. Первая персональная выставка. Этот человек, потом несколько раз захаживал в типографию. Искал встречи с Эммой, но она пряталась от него.
— Почему? – интересовался я.
— Трудно объяснить, — сказала Эмма, помешивая ложечкой уже остывший чай. – Вроде бы человек, как человек. Галантный, с блеском в глазах. Но блеск был какой-то… Таким с дамами не везет. Что-то не складывается, не тянет к нему, а наоборот… Афишу мы ему сделали. Только вот была ли выставка, я сейчас не вспомню. Картины, впрочем, были любопытные, я бы даже сказала, нежные. «И чего ты нос воротишь? — вопрошали подруги. Усики у него, правда, противные, но выйдешь замуж, сбреешь». Однажды он подловил меня на улице. Мы выпили по чашечке кофе. Я особо-то не говорила, да и он молчал. Мужчина он был неглупый, видимо, понял все и больше не появлялся. Я быстро забыла о нем. Но, когда увидела позже на площади, дурно сделалось. Он уже увлекал за собой массы, держался уверенно, и приветствовали его уже не как Шикельгрубера, а как Гитлера, но глаза… Они оставались прежними.
В юности, занимаясь живописью, Адольф Гитлер действительно подписывал некоторые полотна Шикельгрубер. Австрийская фамилия Schickelgruber принадлежала бабушке Гитлера по отцовской линии. Есть версия, что отец Адольфа был незаконнорожденным, якобы он появился на свет от богатого еврея, у которого бабушка диктатора была служанкой. Да и сама фамилия в Германии была как насмешка. «Schickl» в просторечии означает «дерьмо» или «грязь». Слово «Gruber» это «яма». Есть версия, что Schickl на одном из австрийским диалектов означает то же, что и обычное немецкое слово Scheisse, таким образом Schicklgruber -человек, который вычищает выгребные ямы. И папа Адольфа, видимо, натерпевшись, сменил фамилию на Гитлер.
Эмма продолжала работать в типографии. Тогда, говорит она, никто еще не готовился к войне. Во всяком случае, обыватель не думал и не знал об этом. Как-то, гуляя по мостовой, она встретила высокого мужчину, напевающего себе под нос странную песенку. Мотив до того понравился ей, что она не удержалась и спросила на немецком, откуда такая мелодия? Мужчина ответил с едва заметным акцентом, что это русская песня «Вдоль по улице метелица метет».
«Большевик, — мелькнуло в ее голове. – Сейчас он заманит меня куда-нибудь и проткнет штыком». Так в детстве пугали ее все окружающие, если речь заходила о сущности русских.
Но любопытство взяло верх. Разговорились. Господин в шляпе не казался ей кровопийцей. И хотя он был старше ее лет на двадцать, она не почувствовала этой разницы. Было в нем некое сочетание благородства, бесшабашности и куража. Это был профессор Московского университета Александр Максимов. Он рассказывал ей о русской литературе на чистом немецком, тут же переводил Блока, Есенина, Маяковского. Но Эмма и сама читала тех поэтов в оригинале (ее бабушка часто бывала в этой странной, но, по ее мнению, необъяснимо притягательной стране, она-то и учила Эмму русскому языку). Они встречались. Беседовали. Ходили в кино, но чаще в тир. Папа Эммы был охотник и с детства учил ее стрелять. Порой их дуэль затягивалась до кромешной ночи. Он провожал ее до подъезда. Коротенькое платьице в горошек, озорные глаза да ямочка на правой щеке – такая была Эмма в те годы. Однажды у подъезда Максимов будто споткнулся и резко шагнул к ней.
— О, — вспоминает Эмма, чуть смущаясь, — это был во всех смыслах крепкий поцелуй. Например, как бутылка хорошего шнапса, — улыбается она. На следующий день Максимов уезжал, Эмма пришла проводить его на вокзал. Уже и паровоз закричал, и множество ладоней взметнулось вверх…
Неожиданно для себя Эмма вскочила на подножку и уехала в Россию. Тогда такое безрассудство было возможным.
Москва Эмме не понравилась. Грязно было в Москве. Даже в типографии, куда ее через некоторое время устроил Максимов, и где она занималась в основном технической работой, нужно было ходить в калошах. Тогда она впервые услышала это слово. Вскоре Максимов отправил Эмму в санаторий, в Болшево.
Она теребит сухенькими руками, на которых вены, как реки, единственную фотокарточку композитора Варламова. С ним Эмма встретилась именно там. И влюбилась.
— Получается, что Максимов как бы сам меня подтолкнул, я тогда, конечно, очень красива была. Профессор все понимал и не стал чинить гадости. Наоборот, мы потом часто встречались, и с Варламовым они общались любезно, — говорит она.
-Сначала мы просто встречались, я снимала комнату в Сверчковом переулке.
Как-то зимним вечером у подъезда Эммы остановился извозчик. Звякнул колокольчик. Ей передали записку. Она развернула холодную с мороза бумагу. Строчки посвящались ей. Только тогда она и узнала, что Варламов, оказывается композитор. Затем он не раз исполнял тот романс, что прислал тем студеным вечером Эмме, на рояле. Впрочем, не только этот. Среди различных его творений Эмма однажды услышала напев, который, по сути, познакомил ее с Максимовым. «Ты постой, пост-о-о-ой, красавица моя. Дай мне наглядеться, радость, на тебя!»
— Да, да, — говорила она тогда. – Я это слышала там, где дом.
— Это вряд ли, — усмехался музыкант. – Эту песню написал мой дед. Давно. Там,- махнул он рукой, в Симбирске, где был наш дом.
Вскоре Эмма перебралась в квартиру Варламова. Устроилась работать в Бюро погоды, которое было на Красной площади. Она работала там техническим сотрудником, наносила на карты значки осадков.
Бывало на огонек их с Варламовым арочных окон захаживали Лемешев, Шульженко, Уланова. К тому времени Эмма расширила свои познания не только в русском языке, но и в русской кухне и очень ловко, а главное, вкусно готовила щи да каши. Пекла пироги. Лемешев восхищался ее способностями и в шутку продолжал ликбез по великому и могучему. Эмма же не могла взять в толк, как это руки могут расти из попы, кто такой Гулька и почему глаз нужно куда-то натягивать.
Затем началась война, многих немцев из Москвы выселили, и Эмма боялась, что их с Варламовым разлучат тоже. В Германию, благодаря тому же Лемешеву, не отправили, зато отправили в лагеря.
Варламов давно был на заметке ГПУ. Часто восхищался некоторыми джазовыми композициями. Говорил, что джаз – это настоящее, в нем намешено все. К тому времени (началу 40-х) он был руководителем первого Государственного джаз-оркестра Союза ССР, директором Всесоюзной студии эстрадного искусства и организатором джазового ансамбля с преобладанием смычковых инструментов «Мелоди-оркестр». Он был мистически талантлив, а это не любили бездарные конкуренты. Они ждали повода и повод этот случился.
— Арестовали нас вечером, когда мы собирались ужинать.
— И в чем вас обвинили?
— Была такая история. Ученик Варламова, сын его друзей, пианист, член музыкального запасного полка, отстал от эшелона. Задержался у девушки и отстал. А в комендатуру идти побоялся. Поселился в пустой бабушкиной квартире и жил там в шкафу. Варламов об этом знал. У него было много, как он считал надежных, знакомых в Кремле, он с кем-то поговорил, чтоб парню не калечили жизнь, а просто отправили хотя бы в штрафбат. Но тот, с кем он поговорил, тоже испугался.
Им вменили пособничество дезертиру.
— Но даже там, — говорит Эмма, — в тюрьме Варламов писал музыку. Однажды он попросил надзирателя принести ему в камеру лакированные башмаки, желтую манишку и нотную тетрадь. Удивительно, но надзиратель все исполнил в точности. Хотя кара за такое была известной. Толпа в красных погонах собралась у глазка одиночки. Варламов ходил возле нар, отстукивал башмаками ритм и что-то заносил в тетрадь.
— Музыка ложилась на сердце, как первый снег на степь, — смущаясь своей нахлынувшей поэтичности, говорит она. — Он будто жил в параллельной реальности. Многие свои лучшие вещи он написал там, в тюрьме.
Им дали по 8 лет. Его отправили в Ивдельлаг. Ее — этапом до Магадана.
— Я когда-то мечтала Россию посмотреть, Сибирь увидеть, тундру. Вот, — улыбается она, — удалось. Мы сидели там, в одной камере с женой печально известного генерала Власова. Но даже в тюрьме та не переставала писать бисерным почерком мужу бесконечные письма на обратной стороне библиотечных формуляров, которые тут же рвала.
— А как там к вам относились?
Она улыбается.
— На зоне нормально относились. Делились последней коркой хлеба. По-настоящему я только там поняла словосочетание «широта русской души». Потом было всякое. Но я понимала тех людей.
Оттрубив от звонка до звонка, она долгое время скиталась по различным городам. Довелось поработать на ветке, в Мордовии. Явас, Ударный и прочие – очень знакомые для Эммы слова. Варламов после тюрьмы поселился в Казахстане, поскольку в Москву въезд ему был закрыт. Эмме писал, чтоб ехала в Самару, к его тетке. Она тогда так и сделала. А некоторое время спустя, уехала в Жигулевские горы. Работала прачкой в местной психушке, где когда-то тоже была тюрьма, знаменитая своими каторжниками. Долгое время там сидела эсерка Каплан, стрелявшая в Ленина.
— Руки до сих пор сморщенные, — опять улыбается она.
…С Варламовым они больше не встретятся. Эмма напишет, что вышла замуж. Хотя все эти годы будет одна-одинешенька. Варламов затем вернется в Москву. Будет писать музыку к различным фильмам. Выпустит несколько пластинок. И умрет в 90-м. На его похоронах будет звучать музыка, посвященная ей.
А потом здесь, в Жигулевских горах, где в облака уходят тропинки, и звезды можно протирать тряпочкой, умрет и она. Но не сейчас.
Сейчас Эмма идет в комнату, где за ней наблюдает с портрета поэт Блок. Выносит железный ящик и откидывает вуаль со старого проигрывателя с металлической летящей чайкой в уголке. На дне ящика лежат семь винилов в старинных картонных конвертах. На самой верхней этикетке – негр в полосатой шапочке и надпись «Round about midnight. Warner Bros. Inc. 1944».
Пластинка тяжелая и чистая. Извлеченная из конверта, она пускает на потолок несколько солнечных бликов, как вода. Зашипело под иглой, полилась музыка. Потом мы слушали «Соленые орешки» Диззи Гиллеспи, «Ночь в Тунисе», «Орнитологию» и «Леди Берд». В паузах было слышно, как лают у реки собаки, как кричит где-то петух.
— А вот эта моя любимая, — сказала Эмма. Слегка подула на пластинку, на ней медленно растаяло пятно от дыхания и зазвучало «Вдоль по улице метелица метет». И хотя было жарко, по спине почему-то бежали холодные мурашки. Эмма была счастлива. Лицо ее светилось. Она как будто помолодела лет на тридцать.
Под вечер я покинул ее дом. Вез велосипед за руль и шагал к пристани.
— Ну, че? Рассказал она тебе, как под Гитлером была? – тупо лыбился пастух.
Отвечать ничего не хотелось, и я прошел мимо.
— Не может же быть, чтоб у тебя из родни никого не убило на войне. Так ведь? Просто вам теперь на все плевать. Такое нельзя забывать и прощать, — крикнул он в спину мне.
Шины велосипеда набрали раненых, с желтизной по каемке, осиновых листьев, хотя до осени было еще очень далеко. У пристани лежал пятнистый теленок с колокольчиком на шее. Когда теленок поднимал голову, колокольчик на нем звенел.
КУСТ МАЛИНЫ ДЛЯ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
Окно кухни выходит во двор. На треснувшем подоконнике дымчатый кот с поломанными усами, спичечный коробок, банка засахаренного варенья, складной нож, потрепанный численник и граненый стакан. В стакане, как пуговицы, маленькие (на погоны) звездочки. Они слиплись в комок. Заржавели. Не пригодились.
Окно кухни открыто. Людмила Петровна Быкова слышит с улицы голоса:
— Нет, нет и нет. Хотя так, как ты говоришь, тоже, конечно, можно.
Мужики ремонтируют мотоцикл с пухлыми колесами в человеческий рост.
Или:
— А вот дождик прошел, ну, такой, с пузырями в лужах, и плакать охота. От того, что живешь, — радостно сообщает пожилая дама.
Это часть бабушкинской кодлы вышла на прогулку. У бабушек в поселке Чиньяворык ячейка внушительная. Они составляют костяк интеллигенции, но запрещают себя так называть. Не костяком, конечно. Интеллигенцией. В праздники бабушки танцуют фокстрот, поют романсы, а иногда просто плачут. Потом устраивают потешное чтение — допустим, Пушкина на фене. Из нынешних аборигенов не под силу это почти никому. Нынешние аборигены мелкие, у них, по выражению бабушек, только «бабломер в глазах и никакой отчаянной жизни. Чтоб наотмашь, чтобы вдрызг».
Мы приятельствуем с Людмилой Петровной уже второй день. У нее торжественная, как гимн, спина и всегда в кармане губнушка. Она обожает английский футбол и бокс (всякий). На «триколоре» на то и на другое имеет годовую подписку.За два дня мы обсудили технико-тактические действия футболистов «МЮ», за которых она болеет.
Людмила Петровна когда-то первая в этом краю прочла отрывки из повести «Зона». И обомлела. Писатель рассказал не только о местах, в которых она, по сути невольно, живет с 1963 года, а и о людях, с которыми она была знакома коротко, проводила рабочие беседы и пела нерабочие совсем песни.
«Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны. Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным», — написал Довлатов в предисловии.
Это кажется эпатажной выходкой, как здесь говорят — понтом. Когда впервые читаешь «Зону», думаешь: надо же, какими звучными фамилиями наградил автор героев, не говоря уж о топонимах, которые вообще словно клички коронованных воров. Все эти Синдор, Чир, Иоссер. Не может же это существовать на самом деле, даже у такого загадочного народа, как коми? Который, конечно, хитрый и поэтичный, который до сих пор использует для обогрева в том числе и тепло животных, ибо дома строит таким образом, что в нижней их части обитают овцы, козы, коровы, а вверху — они — волшебные коми-люди, пьющие для утоления жажды злющую протертую с солью и молоком редьку. Но нет, оказывается, названия поселков реальны. Вот они. Мы ездим по их полынным желтым дорогам. То и дело топим «уазик» в роскошных лужах, вымокаем до пояса, и хмурый водитель разговаривает сам с собою:
— А я говорил, что передок не работает!? Говорил.
Известно, что Сергей Довлатов-Мечик попал в надзиратели в 1962-м совсем не случайно, он попал туда по спецнабору Внутренних войск , будучи отчисленным «за неуспеваемость» из университета.
«Мы сошли на станции , затем три часа тряслись в грузовике, еще два шли пешком по узенькой тропинке до лагерных ворот».
Наш проводник Антон Алексеевич Огневой, ветеран службы охраны, не настолько, правда, ветеран, чтобы помнить службу Довлатова, мог бы запросто устраивать тут квесты по тексту.
Утром мы ходили к остаткам ШИЗО, где Довлатов, вернее его прототип Борис Алиханов, был надзирателем.
«Там содержались провинившиеся зеки. Это были своеобразные люди. Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору.
Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами… Должность Алиханова была поистине сучьей».
От изолятора, правда, осталась одна только стена с ржавыми дверями. Так интересно: стоит стена, а сзади — дождик моросящий по веткам тайги накрапывает. Всюду растут иван-чай да люпины, прекрасная крапива и лопухи величиной с газету. В Коми лето еще! Ров перед , через который были мостки и по ним же в конце повести вел Алиханова, превратился в довольно глубокую и быструю речку. Я разбегаюсь и прыгаю, ноги едут по жирной грязище, уже ищешь глазами, куда кинуть рюкзак, но подошва упирается в прикопанный оторванный засов, карабкаешься дальше. Подполковник Роман Александрович Деменков за мною. Проводник остается на песчаном холме.
А мы ходим по развалинам — то ложку алюминиевую найдем, то мокрое крыло бабочки.
— Через год все будет по-другому, а через пять лет вообще ничего тут не будет, — загадочно говорит подполковник.
Лагеря, что начинаются отсюда в некотором роде наследники, продолжатели не героически легендарного Устьвымлага. Чиньяворык — это такие тюремные ворота, открывающие путь в тайгу, к десяткам зон, описанных . «Ворота» возникли вблизи железнодорожного полотна, ведущего к , в 1941-м. Москве, ну и стране, нужны были дрова, тес, горбыли. Здесь этого было в достатке, а главное, были такие спецлюди, кто мог день и ночь этот лес у земли отбирать и им за это ничего не было. В Коми вообще, чего ни коснись, все связано с зеками: дороги, города. В смысле, все это было ими построено. Волшебным коми-людям все это не нужно, тюрьмы тоже.
Сразу по приезду Довлатов был направлен в школу надзорсостава под Ропчу.
И мы туда едем.
— Вообще-то это немного удивительно, что он сюда попал. Пусть даже по спецнабору. Да, это в ту пору был. Но в ВОХРу брали людей без рефлексии. Впрочем, в то еще время случайно попадали и художники разные, скульпторы — чеканутые, в общем, создания. Позже стали только из Средней Азии брать.
— Почему?
— А для них это был праздник. Сбежать с каторги хлопковых полей. Они были исполнительны и долго никогда ни о чем не думали.
Под Ропчей еще сохранился каменный гараж с мозаичным панно, где радостный Гагарин, спутники и крейсер «Аврора». Зачем такое в гараже? Кто расскажет теперь? Баня, часть хозпостроек, медпункт, слесарка. Остался прогулочный дворик с небом, занавешенным колючкой, ступени, поросшие мхом, которые ведут на мостки надзирателя. В камерах прямо из земляного пола растет малина. Мои провожатые машинально срывают ягоды и закидывают в рот.
Чуть дальше — одно из зданий лесобиржи.
«Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.
Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.
Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.
Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:
“Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс… Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы…”
Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик — голодные, униженные, измученные страхом.
Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.
Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.
Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали».
Рядом с крытой щепой сушильней несколько сосен, не уступающих высотой надзирательской вышке. Внутри — сейф с облупленной краской, какие-то фляги, бочки. И после стольких лет визжания пилорамы — убийственная тишина, которую в следующий раз человеческое ухо может услышать разве что в гробу. Пространство как будто восполняет отобранное.
За соснами речка, в речке много солнца, в речке рухнувший дощатый мост. Возможно, на том самом месте, где избивали пятьдесят с лишним лет назад писателя, дядька собирает грибы. Полную кепку подосиновиков настругал, а еще два ведерка из-под майонеза.
Едем в Иоссер. Поселок еще существует, а вместо колонии особого режима — березовая поросль, фундамент.
Солнце ушло за горизонт, но свет его еще долго тлел в верхушках берез на дальнем пригорке, медлил. Как будто перед поездом чья-то прощальная ладонь на щеке.
За окном кухни сараи, крытые толем, пики со скворечниками, собачья жизнь в будке с зевающим волкодавом, а чуть выше крыш, вдалеке, железнодорожная насыпь. Пройдет скорый пассажирский — утренний кофе пора пить, одинокий маневровый тепловоз прокатится, колыхая, как черный флаг над трубой, дым, — пора в палисадник: там на грядках лук, чеснок, а главное — мальвы выше любого человека.
Людмила Петровна так и говорит:
— Все ерунда, главное — погляди, какие мальвы у меня выросли.
Сегодня она не спала полночи. После нашего прихода расвспоминалась, расчувствовалась. И корила себя, что губы не мазнула, что паричок не нацепила. И вообще ей непонятно: при чем тут она?
Я говорю, что все поправимо. Буду ждать ее у крыльца в шесть вечера при полном марафете.
Людмила Петровна из тех людей, которые вот как-то необходимы. Многим. Так бывает: увидишь человека и поймешь, что он необходим, нужен. И не только тебе.
Вчера она говорила:
— Часть моей жизни прошла в городах, которых нет уже. Родилась в Сталинграде, училась в Ленинграде, потом с мужем какое-то время в Свердловске жила.
Ее папа построил стадион «Ротор», там есть медная мемориальная доска, которую часто воруют. Семья была спортивная. Баскетбол, легкая атлетика, конная выездка.
В Ленинграде окончила химико-фармацевтический факультет.
— Можете себе представить? Удивительная была жизнь там. Театры, кино. В очереди за сосисками стояла за Райкиным. Только я две брала, а он два кило. — Улыбается.
— А в 63-м, по окончании, направление сюда получила. Сперва обрадовалась: буду униженных и оскорбленных учить химии и лечить.
— А потом?
— А потом не очень. Зима пришла. Помните, как в «Зоне» капитан Егоров привез сюда себе жену из Сочи, она проснулась, а в умывальнике в квартире вода замерзла? Очень точный эпизод. Развешивать нюни было нельзя, мы понимали, что только сам, сам можешь здесь конструировать вокруг себя ощущения. Помню, из Малиновки в Ропчу на каблуках вечером в клуб. Выходишь после работы и идешь. Там потанцуешь — и в обратный путь. Как раз к утру будешь.
— С провожатыми, естественно?
— Ну, милый мой. Молчи, грусть. Характер был — атомный. За офицера я замуж никогда не хотела… Хотя и был офицер. И не офицер был. Я девушка озорная, горячая. А выбирать тут никогда особо-то не из кого было. Все бравые уж расхватаны. У меня же казацкие кровя. Дедушка говорил: тебя только красноармейским штыком к двери пригвоздить, тогда ты жена будешь. Вот я и бегала какое-то время туда-сюда.
— То есть химии-то не было, чтобы унесло вот?
Она помолчала.
— За доброту, пожалуй, открытость, верность вышла. Он инженер был. Лесной промышленности. В первую брачную ночь посадил на бульдозер и как дал по лесным ухабам, чтоб, говорит, знала, за кого замуж вышла.
Над крышей сарая прошел тепловоз. Пес звякнул цепью.
Людмила Петровна, как кошку, погладила левую руку.
— Веселье было знаешь когда? Когда пила.
— Простите?
— Ну, то есть киряла.
— Вы?
— А что ты удивляешься? Я — фармацевт главный. Все таблетки-лекарства у меня под замком, спирт. Вот тогда был, как тут говорили, сеанс. И кипиш.
— А муж что же?
— Он очень порядочный был человек. Ой, милый мой, тут такое было, все не рассказать. Скальпы снимали с людей, и головы отрезали, в футбол ею на Иоссере играли. Туда чуть ли не танки хотели уже вводить. А от алкоголизма лечила офицеров. Вроде резко нельзя прекращать, и на постепенные нужды мне давали, допустим, ящика два. Кто кого лечил?..
По шиферной крыше дальнего сарая скатилось и упало в траву поспевшее яблоко.
— Это был ошеломительный мир, и столько вмещалось в то время и плохого, и хорошего. Сейчас при всем желании это невозможно: пространство осталось вроде бы то же, а время спрессовалось или скукожилось. Не понять. Столько мы тогда успевали.
— Да, Довлатов вот кучу писем родне писал, стихи пачками, а еще умудрялся на губе сидеть, на вышке стоять.
— Вот-вот. В середине восьмидесятых где-то в журнале «Родина» опубликовали отрывки с письмами под единым названием «Зона». Название меня заинтересовало. Я прочла и удивилась. Это же про наши места. И не просто места, а люди, упомянутые в повести, я с ними работала. Капитан Прищепа, дядя Леня Токарь, инспектор самообороны Торопцев на Ропче, который сказал Довлатову, когда тот выпускался из школы надзорсостава: «Запомни, сынок. Можно спастись от ножа, можно блокировать топор. Можно все, но если можно бежать — беги и не оглядывайся». Вот они прямо вчера еще были живые. Капитана Прищепу я довольно хорошо знала, мы даже выпивали вместе в компании. Он такой и был. И вообще, вроде бы вещь художественная, а там почти все правда. От этого художественное становится в сто крат эмоциональнее, что ли.
По-над крышей прошел товарняк.
— Мне кажется, если б не было такой армии для Довлатова, то и писатель он был бы совершенно иной. Есть изданные его армейские письма отцу. Видно, как он хорохорится, бравирует, старается не выдать собачьей тоски, называя отца в письмах «дорогой Донатец», пытается быть веселым, небрежным где-то. А вообще же все было подчинено одной-единственной цели — раз уж попал сюда, использовать время с пользой, поставить эксперимент над собой, наблюдать как бы со стороны, а вот если сюда уколоть, впитывать, внимать для того, чтобы потом писать и писать, пока не сломаются пальцы. Если б не это человеку с его уровнем — можно было запросто выпустить себе пулю в лоб или рехнуться. Опять же вот девушка эта из Сыктывкара — Света Меньшикова. В газету с ее портретом как победительницы студенческих игр по легкой атлетике были завернуты боксерские перчатки Довлатова. Он написал — она не ответила, он написал со стихами — опять тишина, он написал со стихами, сочиненными ей. Начался эпистолярный роман, как скажет он позже, спасший в ту зиму ему жизнь. И это не пафос. Вы представьте себе двадцатилетнего мальчишку в тайге-глухомани, среди убийц и головорезов, которым вообще терять нечего. Тут сформировавшаяся личность на стенку полезет. Девушка приезжала к нему сюда, в Чиньяворык, потом в Ленинград, когда он уже был женат второй раз. Сорок с лишним лет скрывала свое знакомство, да и зачем афишировать. Она и сегодня живет в городе Сыктывкаре по тому же адресу, на который писал Довлатов. Так что, мил человек, как говорил друг и соратник его Петр Вайль, в жизни ничего случайного нет, все, что нужно, рифмуется.
Людмила Петровна идет колдовать в свой маленький огород.
— Терпеть не могла эту землю, работу на ней. А муж любил. И вот теперь меня будто подменили. Не умею, а копаюсь все равно. Я как бы извиняюсь, что ли, перед ним?
Муж Людмилы Петровны, два срока единогласно и безоговорочно избиравшийся главой администрации поселка Чиньяворык, проложил по улицам асфальт, построил несколько домов, реконструировал школу.
— А где же клуб, который сооружал Довлатов? — интересуюсь у нее.
— Сгорел, — говорит. И, поразмыслив, добавляет: — Сегодня годовщина. Одна железяка осталась, в которую когда-то афишу вставляли.
Я отыскал железяку. Над пустой рамой четыре металлические буквы: «кино».
«…И все же я благодарен судьбе за эти годы. Впервые я затормозил и огляделся. Впервые обмер, потрясенный глубиной и разнообразием жизни. Впервые подумал:
“Если я не замечал этого раньше, то сколько же человеческого горя пронеслось мимо?!” То, что мне казалось важным, отошло на задний план. То, что представлялось малосущественным, заслонило горизонт… Я понял — человек способен на все, и в дурном, и в хорошем. Я понял, ад — это мы сами. Только не хотим этого замечать. И еще я узнал самое главное. То, ради чего стоило пережить эти годы. Я узнал, что в мире царит равновесие. Кошмарное и замечательное, смешное и печальное — тянутся в единой упряжке. Я убедился, что люди носят маски. Маски бывают самые разные. Маска набожности и маска долготерпения. Маска учтивости и маска любви. Маска совести, юмора, интеллекта. Эти маски приросли к нашим лицам. Но я-то знал — сутки лесоповала, и двадцать веков цивилизации бесследно улетучатся. И останется человек без маски, твой двойник.
Лагерь навязал мне целый ряд простых, оскорбительных истин:
Всегда готовься к худшему — не ошибешься. Забудь о человечности. Этот фрукт здесь не растет. Не унижайся до просьб. Бери, если можешь, сам, а если — нет, то притворяйся равнодушным. Не бойся смерти. Пока мы живы, смерти нет. А смерть придет, мы будем далеко. Верь одному себе. И то не до конца. А главное, всегда бей первым».
С языка коми «Чиньяворык» переводится как «бревенчатый длинный сарай, стоящий на берегу реки, для сушки рыбы». Именно в это поселок медленно, но верно превращается.
Зоны, которые описывал Сергей Довлатов, в которых служил, почти все сегодня поросли репьем и крапивой. Нет, не то чтобы стало меньше в стране преступлений, просто везти сюда заключенных нерентабельно, сами колонии не отвечают международным стандартам, тюремному ГОСТу. Да и делать здесь уже, по сути, нечего: чтобы открыть производство — необходимы вложения, а это, как говорит мой новоиспеченный чиньяворыкский приятель Сережа Бузон, ссыкотно.
Лес, до которого можно было легко и бесплатно добраться, за семьдесят с лишним лет поредел изрядно; чтобы добывать дальний, таежный, нужны дороги, прочая инфраструктура.
— Понимаешь, все какое-то временное, — говорит Серега Бузон.
У Сереги пятерни — как листы шифера, он употребляет много слов, запрещенных Госдумой.
Судьба Сереги для здешних мест статистически банальна. Получил пятерку, сел, вышел, осел. Впрочем, нет. Присутствует в его истории и налет блатного романтизма.
— У меня жена мусор, — говорит он, почти рисуясь. — Я с одной стороны колючки был, она — с другой. Познакомились, то-се. Я и остался. Сын одиннадцатый класс окончил, дочь — три года. Самая крепкая семья знаешь какая?
Ответа он и не ждет.
— Такая, где полгода жену не видишь. Вот я, например. Полгода зимник к Белому морю прокладываю. Мерзну, коченею, зато полмиллиона получу, приезжаю — праздник че ты. А скоро вообще дадут сертификаты, и мы отсюда свалим.
«Сертификат» в этих местах управляющее, обнадеживающее, самое сладкое слово. По госпрограмме каждый северный житель имеет право получить такой сертификат на жилье и уехать куда ему заблагорассудится, навстречу лучшей жизни.
Правда, для этого нужно, чтоб ты жил в некой халабуде в какой-либо выдающейся северной дыре. Вот поэтому и скупают тут рухлядь сторонние. Поживут год-два, а еще фиктивно разведутся.
— Тошнота кругом. Вишь, все спутниковых антенн понавешали, щели в полу, как у Довлатова сказано, — собак можно через них в дом приглашать, зато — «Триколор».
Серега каждый вечер подшофе, предлагает мне почему-то оказать могилку зека в тайге, за которой кто-то ухаживает.
— Тут кругом одни могилы. Я с тестем стал в подполе погреб рыть года четыре назад — череп выкопал, кости. Между прочим, человечьи.
— А где же все надзирательские вышки? — интересуюсь.
— Где, где. Щас скажу. Спилили, ты че. Они ж на балансе были. Зоны загнулись. Представляешь, только в Чиньяворыке когда-то содержалось больше тысячи человек. А теперь — 140. И типа в колонии-поселении вышки не нужны.
Подполковник Роман Александрович Деменков эти сведения подтверждает:
— До недавнего времени ставили заключенных из колоний-поселений на эти вышки, чтоб следили за порядком. Пришла директива, что мы делегируем административные полномочия заключенным. Пришлось снести.
В последнее перед отъездом утро, в пять часов, через покинутые бараки, где косые на петлях двери, иду к Сереге попрощаться. Он, сонный, курит и прячет по-зоновски огонек в кулак. На кулаке его наколка «Весь мир бардак». Туман слоями лежит над тайгой. Проходящие мимо женщины интересуются: а чего это мы уже два дня тут снимаем?
— Кино, — хрипло говорит Бузон.
— Ага, снимите мусор наш, мэрша вообще прифигела — бараки на дрова продает, а мусор потом не убирает. И посмотрите, сколько развелось собак.
— Да вообще, — напирает Серега. — Зажрались. Волкодавы им уже не блюдо, а коза не барышня. Совсем обнаглел человек, — паясничает он.
Потом говорит:
— А правда, собак есть вообще перестали, и козы приобрели на морды нагловатый оттенок, не пялит их никто.
Мы идем с Серегой к реке, через нее кривенький мостик. Кочегар дядь Боря, с которым общались вчера, удит хариуса. Там, за мостом, где когда-то был выводной коридор и Довлатов водил по нему особо опасных на работу, теперь картофельные поля. Все цветет, щебечут птицы.
— Знаешь, че я тебе скажу. Все идет как идет. Думаю, сегодня тут Довлатов не поживился бы ни строчкой. Не о чем писать. Серятина, блин, одна. Характеров нет. Какие это, слышь, преступники. Не злодеи, а шелупонь.
Мы переходим мост.
На тропинке юродивый Вова. Он поднимает пласты цветущего, разогретого солнцем парного клевера и зажмуривается.
— Другая, совсем другая жизнь, — бубнит он. И шумно вдыхает и зажмуривает опять глаза.
Когда мы, набрав штук шесть белых, возвращаемся обратно, Вова сидит у моста и задумчиво говорит:
— Стоит корова на лугу и писиет. Вот так и человек: живет, живет да помрет.
Деньги еще какие-то были, но билетов на самолет не имелось вовсе. Поездом из Анадыря не доедешь, поэтому мы с местным режиссером массовых действий Славой, как могли, пережидали время. Два раза посещали некие мутные спектакли, ходили в краеведческий музей, а потом принялись за интерактивную игру, придуманную здешними полярниками, надо полагать, тоже не от разухабистого веселья. Называется действо «белый медведь». Штука, в общем, незатейливая. В большую пол-литровую кружку всклень наливается пиво, затем отпивается, а образовавшееся пространство дополняется водкой. И так до тех пор, пока напиток в кружке не станет прозрачным. Это – «белый медведь» приходит. Уходит он, а с ним и все печали, думы окоянные, строго наоборот. На второй день таких испытаний Слава сказал:
— А поехали на Уэлен.
— Для чего?
— Там край земли. — И вообще…
Я оглядел скопление порожней тары на полу, где для прохода оставалась лишь узенькая тропка:
— И так уже, -говорю, — дальше некуда.
Но Слава был настырен:
— Киты там щас, в проливе товарища Беринга, любовь крутят. А чукчи их бьют. Понимаешь? Драма!
Утро на пахнет мерзлым бельем, внесенным в помещение с улицы. Мы — русским духом.
Нам везет. Погода благоволит, полный штиль. И вертолет не надо ждать в левом крыле аэропорта неделями. Летим. Небо, как море и можно долго глядеть, как тень МИ восьмого пересекает балки, лощины. Выбирается в тундру. Внизу – пустота на сотни верст, ни зверька, ни человечка, только текут в разных направлениях долгие ручьи неких сиреневых цветов.
Слава спрыгивает с подножки, встает на карачки и картинно целует землю. Отплевывает крупинки, хрипло произносит, оглядывая простор:
— Да, бля…. Дальше только Америка.
Поселок ютится на самом крайнем северо-востоке родины, на . Около 12 тысяч километров от Москвы, 86 километров до США. Уэлен — адаптированное русскими с чукотского «Увэлен» — «черная земля». Название населенному пункту чукчи дали за торчащие на ближайшей сопке кромешные бугры, которые видны в любое время года и служили с приснопамятных времен путникам ориентиром.
Указующий перст, галечная коса, шириной в двести метров, как индейская пирога разрезает два океана — и Тихий. Тут особенно очевидна усердная борьба двух стихий: воды и суши. Гигантская земная плита медленно наползает на , вот-вот нахлобучит. Там, в глубинах постоянно происходят тектонические разломы, которые наглядно иллюстрируют всю хрупкость, неуравновешенность бытия в этой части земного шара.Здесь,скованные морозом в огромные неподвижные поля, льды вдруг начинают наползать друг на друга, крошиться, обнажая трехметровую толщину. То отступают куда-то далеко, оставляя огромные разводья, то опять. Вечное это движение в 80-километровой горловине делает его чрезвычайно опасным и зимой, и летом. Но и тут люди живут. И давно. Изучая захоронения уэленского могильника, древние стоянки на побережье, ученые определили, что обитаемыми эти места являются около трех тысяч лет.
…Отчетливо теплый июнь. Бродят айсберги. Когда они наползают друг на дружку, получается жалобный скрежет, как если бы железнодорожный состав на медленной скорости преодолевал крутой поворот.
Мы идем разыскивать славиного знакомого старика Элле. Во дворе двухэтажного барака изборожденный канавками морщин эскимос чинит сеть. Развесив ее между качелями и детской горкой, сработанной на манер ракеты «Союз». В нехитрых огородах вросшие в землю железнодорожные контейнеры — подарок жителям . Контейнеры выдали людям давно. А вместе с ними и надежду плюнуть на все и уехать когда-нибудь на , на Большую Землю. Но проходит год, другой, третий, никто чего-то не едет. Дотащить его до железных дорог – стоит немеряных денег и нечеловеческих усилий. Да и как сорваться, где и кто кого ждет? Еще одним памятником экс-губернатору служат здесь нарядные канадские коттеджи. У Акима Элле такой вот коттедж, но он в нем не живет. Там обитают ездовые собаки. Сам Аким ютится в обустроенном строительном вагончике.
Когда мы являемся, старик в падающем из крохотного оконца свете мастерит из моржовой кости какого-то бога. Маленьким перочинным ножом он придает ему человеческие черты.
— Угадай, кто к тебе? – лыбится Слава, распахнув дверь.
— Со скольки раз? — лукаво щурится от обилия света старик.
И тут же, узнав Славу, колготится, ставит на буржуйку сплющенное туловище чайника.
— Чай- чай, выручай, — говорит Слава.
Подвинув бога на край стола, в шеренгу таких же уже готовых фигурок, мы выкладываем на стол из рюкзаков гостинцы: макароны, спички, водку.
Гоняем чаи, режиссер интересуется:
— Куда ты этих богов-то строгаешь?
— Так это… в Штаты, — говорит дед.- Тут одна художница из приезжала, всех до одного забрала, слышь. Кучу долларов заплатила. Вот столько, — старик сделал небольшой зазор между пальцами. — Закопал в банке.
Некогда изделия уэленских граверов и косторезов гремели по всему миру. До недавнего времени была целая мастерска именитых художников. Косторезы Вуквол, Хухутан, Тукукай, граверы Елена Янка, Мая. Теперь все больше работают на дому. Но изделия сбываются плохо.
Старик же Элле ни дня не работал по трудовой книжке. Сначала пас оленей, добывал нерпу. Затем съездил к шаману, и тот благословил его на то, чтоб богов вырезать. Творения Элле из кости с криками «браво» и даже «ура» приобретались музеями Москвы, Петербурга, Таллина, Дрездена и Рима. Хотя ни в одном из этих городов Аким не был. Его боги были, говорят, в коллекции , Ельцина, Ростроповича. Впрочем, и этих людей он никогда в глаза не видел. Когда-то на приезжали целые делегации туристов, ученых, музейщиков. Они приобретали продукцию туземцев, какой не было нигде в мире. Аким вырезал животных, сценки охоты, а главное, богов — из клыков, черепа и детородного органа моржа.
Затем туристы и ученые с Запада ездить перестали. Боги любви, достатка, семейного благополучия стали кочевать через пролив на и дальше в Америку. Говорят, американцы выручают за эти резные кости целые состояния. Но Акиму это до лампочки. Ему-то всего и нужно денег — на покупку новых собак.
Боги Элле иногда охотятся, иногда хулиганят, иногда просто сидят задумчиво.
— Откуда сюжеты? — спрашиваю.
— Так это, слышь. Хожу с ружьецом на птичьи базары, в океан хожу на нерпу, а потом вот еще, — он шарит в углу под прелыми сетями и выуживает оттуда бутыль.
— Кыхтым, — гладит ей бок .
— Кыхтым – это..?
— Настойка из трав и сухих мухоморов. Ее больше глотка нельзя. Умрешь, может.
— Вштыривает? — хохочет Слава.
— Боги приходят, — коротко отвечает Аким. -Налить?
— Не, — машу руками.
— Тогда уж и я не буду,- вздыхает Слава.
Вечером идем к участковому отмечаться. Рядом граница, до восемьдесят шесть километров. По дороге встречаем мужиков с ружьями наперевес.
— Куда это они, на ночь глядя? – интересуюсь у Акима
— Зарплата, однако, — буднично отвечает старик.
— А ружья зачем?
— Без ружья не дадут.
— ?
— Карабин сдать надо. Тогда деньги тебе, — говорит абориген.
Столь экзотический ритуал ввел несколько лет назад местный участковый. Зовут его Арон Аветисян.
— Устал я, — говорит он, заперев в подвале сельской администрации двустволки. — Возьму кинжал, уйду в горы.
В окрестностях гор нет, древние кладбища кругом, сопки. Но Арон так всегда говорит — в день зарплаты зверобойной артели, которая добывает моржей, нерпу. Когда-то здесь таких артелей было около десяти, сейчас одна, и та на ладан дышит. Кроме этого имелся крупнейший оленеводческий совхоз «Герой труда». Сегодня его пытаются раскрутить снова, но оленей осталось мало, а еще меньше тех, кто хотел бы их пасти.
Арон заводит вездеход, принадлежащий некогда полярникам, и мы мчимся к его вагончику на броне. Водительские права в этом поселке есть только у него, хотя различного рода сельхозтехника: тракторы, грузовики или мотоциклы имеются у многих
— Для чего ружья отнимаете?- интервьюирую его я в люк.
— Завтра отдам, отвечает Арон. — Если придут.
По мнению участкового, эскимосам и чукчам деньги вредны. Получив зарплату, они покупают самогон и съезжают с катушек.
— Дурные становятся, прямо в голову себе стреляют, понимаешь? Суицид называется. На ба-альшой суицид. Поэтому я у них карабин забираю. Утром придешь — получи, дарагой.
— И что, кто-то не приходит?
— Много, брат… Сам их ищу: на свой карабин, распишись! А он третий день лык не вяжет… Улыбается сам себе, бормочет под нос, не разберешь. Устал я как мама быть. В магазине запретил им водку торговать. Так они самогон покупают. Тут королей самогонных, знаешь, сколько? Вай! Семь, наверно.
— Чукчи и эскимосы стали самогон варить?
— Нет, русские. Полярник, артельщик. Когда станции закрылись, он стал самогон варить. А что делать, брат? На Большую землю? Кто его ждет? А тут семья, гарнитур, шифоньер. Только работа нет. Поэтому самогон гнать. И продавать. Понимаешь?
Арон тормозит у своего вагончика — точно такого же, как у Акима.
— А почему люди в канадских коттеджах упорно жить не хотят?- пытаю участкового.
— Когда шторм, даже маленький, он так дребезжит, что жизнь, вай, медным укрылась как будто! Стра-ашно, как в гробе. Собрали не так, знаешь. Половину деталей украли, брат.
Всю утварь в вагончике Арон Аветисян обклеил маленькими бумажками. На бумажках чужеземные, выведенные ручкой, слова. Так он учит английский.
— Контракт заканчивается, — поясняет он. — Уеду, надо чужой язык знать.
— Далеко?
— В Югославия поеду, дарагой. Миротворцем.
Слава объясняет участковому, что страны Югославии давно нет и миротворцев в ней, в общем-то, тоже.
— Тогда Африка, — ничуть не смутившись, говорит Арон Аветисян. — Армения не могу, брат, я этот, как его, отщепенец.
Один участковый на три поселка — Уэлен, Инчоун, Энурим — Арон Аветисян родом из добропорядочной армянской семьи. Отец — начальник большого ереванского гастронома, мать — заведующая стратегическим холодильником для нужд государства. Три брата занимают ведущие посты на железной дороге. Арон с детства любил читать, «отравился», говорит, «проклятым романтиком». Окончил техникум и махнул связистом на полярную станцию. Отец крепко осерчал. Слал сыну письма, которые начинались так: «Арон, дарагой, рад видеть тебя». Оканчивались письма тоже всегда одинаково: «Ты уехал, и мы плачем по тебе. Мама- три раза в день. Я — четыре. Братья — не переставая. Приезжай, дурная башка». Потом письма приходить перестали.
Когда закрылась полярная станция, он подался в участковые.
-Уеду, — повторяет Арон. Холодно тут. Ученые говорят: глобальное потепление. Пусть сюда едет, на Чукотка. А я — в Африка.
Полярный день никак не заканчивался, айсберги ушли куда-то всей большой стаей. Размытое двумя океанами солнце прокладывает тусклую дорожку по воде в Америку. Кажется, иди по ней и допехаешь до благополучной стороны планеты…
Следующим днем на косе, уходящей в пролив, почти цыганский переполох. Женщины, дети, старики, собаки и бакланы провожают артель из семи вельботов на китовую охоту. Мы тоже стоим поодаль. Лодки хоть и с мощными японскими моторами, но долго не исчезают из виду. Они качаются над нашими головами черными точками. Океан как будто касается неба. Но почему-то не проливается. Люди постепенно расходятся. На берегу остается лишь эскимос Витя Хагдаев. Он дежурный по трактору. Если охота будет удачной, Витя подцепит кита за хвост и вытащит своим «Кировцем» на берег.
Часы тянутся в ожидании, и мы уговариваем Витю, пока не вернулись охотники, прокатить нас по студеному морю. Вельбот взбирается на бугры волн, цвета фашистской шинели, натужно, с ревом, потом падаем вниз, обмирая. У недействующего маяка-памятника на мысе Дежнева Витя делает разворот. Мы сидим плечом к плечу с биологом Олей. Она из Анадыря, изучает жизнь тутошних насекомых.
-Дежнев почти на сто лет раньше Беринга открыл этот пролив, — преодолевая шум винта, говорит мне в ухо Оля.
-Чего же он именем Беринга тогда называется? – наклоняюсь я к ней.
— Ну, Дежнев открыл себе и открыл, думал, про это весь мир узнает. А Беринг, что называется, подсуетился, сам лично доклад в географическое общество отнес.
Ее висок пахнет сенокосами. Брызги застилают глаза. Губы соленые.
На обратном пути Витя завозит нас «во вчера». Машет руками, показывает на часы, мол, здесь другое совсем число. И мы глазами, полными глазами воды, словно обезумевшие от счастья, киваем, дураки дураками.
— Киты! — глушит мотор Витя.
И точно! На фоне ледяных, синих, ужасающих волн далеко-далеко две блестки. Вверх-вниз. И вдруг совсем рядом выныривают, запускают в небо фонтаны, танцуют, что ли?
— Е –мае, — ликует Слава, пытается фотографировать, но болтанка такая, что он едва не сваливается за борт.
Огромные млекопитающие трутся друг об дружку, как вчерашние айсберги, как лошади в гон, хороводят.
Нас относит, Витя запускает мотор с пятой попытки. Очумевшие, все молчат. Медленно причаливаем. По полосе отлива бежит на встречу большой лохматый пес. Приседает, крутится юлой, радуется.
— Иногда кит уносит лодку охотника далеко, — почему-то говорит Витя. – Или под воду.
— То есть, ты хочешь сказать, что это честная дуэль? – соображает Слава.
— Да, — машет тот свалявшейся шевелюрой. – Очень не просто. Если далеко, людей о скалы бьет, там берег крутой.
— Часто?
— Да. Некоторые выживают, идут, идут, приходят, а их гонят… Раньше убивали.
— Отчего же? Люди ведь спаслись, домой вернулись, здравствуй, родная– раскручивает его Слава.
— Не-е, — закуривает Витя. — Их кит забрал, они становятся тереками, отверженными. Настоящий охотник погиб, а это дух, злой дух ходит. Он за людьми охотится и может унести в злой мир.
— Дикий вы все-таки народ…
— Да, да, — машет опять головой Витя и улыбается широко, разухабисто. Витя рассказывает нам случай, который приключился с одним из здешних зверобоев. В 30-е годы на льдине унесло охотника Ульгуна. Люди похоронили его в своих мыслях. Двое малолетних детей остались сиротами, жена вдовой. В 1992 году, когда была открыта граница между Россией и США, прилетела в Уэлен пожилая женщина из Канады. Сносно говорила по-чукотски, расспрашивала об охотнике Ульгуне. Нашли старейшину. Он вспомнил, что охотника унесло на льдине и он погиб, а дети его рано поумирали — жилось им бедно, трудно. Тут-то и выяснилось, что женщина из Канады — дочь погибшего охотника. Оказывается, тогда, в 30-е, льдину с охотником прибило к берегам Канады. Его подобрали местные инуиты (эскимосы), выходили. Поскольку возвращаться на родину зверобой не мог, женился и жил себе, охотился. Только в сторону другого берега глядел часто, задумчиво и часто носом шмыгал.
Слава шастает по горловине косы, потом становится, раздвинув ноги циркулем, протягивает мыльницу.
— Щелкни меня вот оттуда. Одна нога в Ледовитом океане, другая- в Тихом. Чума. Все рядом. В башке моей каша.
В этот день кита не добыли. Охотники приехали уставшие, с черными лицами, погрузили в трактор снасти и поехали спать. Утром при том же скоплении публики, отбыли по синим пригоркам волн снова.
Вечером опять весь поселок в сборе. Добыча серого млекопитающего здесь не какая-нибудь мажористая прихоть. Три тысячи лет для аборигенов этих широт, кит- первое большое парное мясо после долгой, шизофренической зимы. Иное мясо им не по желудку, да и не по карману. Во времена развитого социализма в магазин завозили продукты среднерусской необходимости. А также мыло. От мыла тело жителей покрывалось язвами, от мороженых кур, их мутило, и они по нескольку дней проводили, кто успевал в нужниках. Поэтому ежегодно для эскимосов чукотского полуострова и таких же аборигенов Аляски выделяется квота на добычу 15 серых китов.
Кит опутан веревками с оранжевыми буями, из боков торчат три старинных, с отполированными ручками, гарпуна. На голове зеленоватые проплешины. Хвост напоминает корму подводной лодки. Тракторист Витя цепляет его тросом, вытаскивает кита на берег, и тот становится виден весь, огромный, побежденный.
Взрослые подсаживают детей на его горб. Они сперва таращат испуганно глаза, потом катаются, точно с ледяной горки, хохочут.
Далее за дело берутся мужики. Взгромождаются на него и большими, точно секиры на длинных пиках, ножами, разделывают. Самые смачные куски достаются старикам,женщинам без мужей, в сельпо с маркировкой «кит свежий, морской».
Мы стоим со Славой в сторонке, наблюдаем. Охотники улыбаются, трындят простодушно что-то по-своему, жуют мантак с солью — порезанную на мелкие кусочки кожу кита. Потом все отправляются по домам, радостные и торжественные – вот и пришла весна. На распотрошенную спину зарятся какие-то громадные птицы, пикируют. Оставленный сторож шугает их длинной палкой, но как-то вяло, всем хватит.
Завтра кита разберут до конца. Мясо пойдет на засолку, усушку, маринад. Жир на хозяйственные нужды и то же мыло. Из усов сделают исцеляющие душу и тело настойки, кости пойдут на утварь – из позвонков выходят шикарные кресла и.т.д. Останется только череп. Витя зацепит его тросом к своему «Кировцу» и отволочет за поселок, где из таких громадных черепов уже целое километровое кладбище. Будто динозавры жили тут и упокоились с миром.
— А че –о же они, дурные, в этот пролив каждый год приходят. Ведь каждый же год получают гарпун в бок? – Слава роется в рюкзаке, выуживая бутылку, которую старик вернул ему обратно.
— Так родина тут, блин, — говорит Аким, прорезая пузатому божку глаза. – Они в наших водах любятся, рожают. Потом возвращаются.
— Хорошенькая родина.
— Какая есть, слышь, — улыбается Аким, не отвлекаясь.
Вечернее небо с узорами перистых облаков как будто на выставку из Гжели привезли. Солнце в эту пору далеко не уходит, но день все равно заканчивается. Как будто зверь укладывается в спячку. Ворочаясь, угнездиваясь, думая о своем. Откуда-то из-за горизонта лучи подсвечивают торшерным светом лишь вершинки тех самых черных сопок, по которым держали ориентир когда-то путники. Мы садимся на пригорке поближе, раскладываем на куртке консервы, складной нож, купленные в сельмаге маслины, довершаем натюрморт водкой с жень-шенем. На этикетке выведено: «Разбуди свою страсть».
Поселок распахнут перед нами окном. Зажегся фонарь у деревянной аптеки, заплакал ребенок, промчал на гусеничном вездеходе куда-то Арон. В узеньком проливе встретились два успокоившихся под ночь океана, и равнодушно глядели на нас.
-Не спи, писака, — толкнул в бок Слава. –Разливай давай. Помянем … Китов. Ну, и людей.
ссылка
.
ГНОМЫ ДЕДА МИХАЙЛО
памяти Чудака- Человека
Я пришел к нему по глубокому рыхлому снегу. Правда, сначала в уме держал, точнее, в блокноте, собирался, и думал: не помер бы. А в эту осень как-то сложилось все, и вдруг удалось. Самолет до Иркутска, китайский микроавтобус. Дед Михайло, как он себя называет, а в миру- Виктор Алексеевич Михайлов проживает с собакой Динго, портретом Маяковского, сотнями книг и стареньким компьютером у самого Байкала. Там, где берет начало река Ангара. Деревня так и называется – Большая Речка.
Он суетится у бурлящего чайника, его внезапно кидает, как юнгу по рубке от накатившей волны, и, снося стулья, громоздкие недоделанные фигуры из дерева, валенки с обогревателя, он буквально летает по избе.
— И так всю жизнь, — говорит после, расставляя стулья на место. – Ладно, я тебе сейчас свою лебединую песню спою.
— Простите?
В окошко его стучат.
— Ой, ребятки пришли.
Он идет в сени и уже там, в проем, произносит:
— Толик, Валя, давайте вечером.
Возвращается, объясняет.
— Школьники это. Ага, приходят, поиграть, почитать. Я им сказку написал. «Яйка-зазнайка» называется. Вот теперь с учительницей, чудесной девушкой Ниной, ставят. Этот, как его… Мюзикл. У меня там много персонажей разных. Зайцы, собаки, кошки всякие. Корова.
— Говорящая?
— Корова-то? Поющая, — хитро улыбается он. И без перехода начинает:
— Так всегда же: «аз» да «буки», деды, бабушки и внуки начинали с букваря. Вот однажды тетя Аня, букваря раскрыла ставни. Как из книги в тот же миг, буква «Я» на стол к ней – прыг. Ножку в сторону взметнула, рот капризный изогнула, руки в боки подперла, да как крикнет со стола. «Хватит мне стоять в конце, русской азбуки в торце. Я одна всей роты стою. Кто из вас сравним со мною? – начала она спесиво. – Али я ли некрасива? Я стройна, умна, важна, вы – холопы, я – княжна. Вся Россия меня знает, потому что величает каждый, сам себя любя, лишь одною буквой «Я». Ну, и так далее. В том же духе.
Я много бумаги мараю. Сказы разные пишу, стишки, шутки, прибаутки.
Он опять встает и опять рушит стулья, я машинально через стол пытаюсь его подхватить.
— Как дам больно, — говорит он, уцепившись за шкаф. – Придуривается дед, куролесит. Я к этому с 41 го года привычный. Почему я на людях пытаюсь не появляться? Потому что кидает меня. А они жалеют. Ладно. Щас тебе покажу кой-че.
С этого же самого шифоньера, книжных полок, разных углов, он начинает извлекать пухлые бумажные папки. Складывает их на стол, и становится почти невидим. Только голова торчит с бородкой.
— Российская земля – не только у Кремля, — шпарит он, не давая мне опомниться.- По одной уродине – не суди о Родине. По чужому огороду — слюнки текут, по своему — пот, — сечет он будто пулеметной очередью. — Когда ни¬чего не стало, то и редька с хреном — сало. Ну, как? Годится? – тянет он шею из-за папок и убивает меня контрольным. – Более ста тысяч пословиц и поговорок написал. Не хухры-мухры?
— Как это – написал? Даль вон сколько лет собирал…
— Мне же, знаешь, когда-то так повезло. Шарахнуло по башке. Я маленький был в войну и уже был нехороший, контуженный. Долго не знал, где родился даже. Только спустя годы инспектор приюта рассказала, что нашли меня, брошенным в парке Сокольники. Было это перед войной. Случайные прохожие ночью услышали крик грудного ребенка. Пошли на голос и увидели младенца на муравьиной куче. Так что, выходит, я москвич по рождению. Потом отправили в детдом станции Удельная, Раменского района. Там меня усыновили Дедовы, потеряли, опять нашли. Война. Повезли домой. Помню строгую и добрую бабушку, которая однажды сказала непонятное: «Супостат совсем близко. Надо уходить». Уходить я не хотел, и меня начали уговаривать, что поведут показывать кошку, умеющую рассказывать сказки. Ну, тут уж я согласился. Шли лесом по дороге. Меня нес какой-то солдат. Я его сразу невзлюбил. У него винтовка висела на плече, я от нее все время получал по затылку. Еще у него очень большие усы. Я его Бармалеем окрестил. Вдруг налетели самолеты, кто-то крикнул «Жабы, жабы», так их звали из-за крестов. И этот дядька-солдат бросился со мной на землю. Знаешь, навалился всей своей тя¬жестью. Я подумал, что он меня хо¬чет задушить. Стал его бить, кричать. А вокруг стали вырастать какие-то жуткие «цветы». Почему-то они мне запомнились красными. Так я впервые увидел, как взрываются авиабомбы. А в следующее мгновенье осколок ему срезал голову, я видел, как она покатилась. Дальше — сплошная чернота. Немцы. Бабушка вцепилась в меня и не хотела отпускать. Немец оттолкнул ее. Она упала, схватила камень и швырнула его в конвоиров. Ответили ей автоматной очередью. Я помню, как немец давал мне конфету за конфетой и смеялся. Я тоже смеялся, с полным ртом конфет, и, довольный, тормошил бабушку, думал, что она притворяется.
И вот после той контузии не говорил совсем. Опять попал в детдом, нас повезли на Урал. Вышел из поезда под Свердловском и потерялся. Там дед меня подобрал. Анисием звали. Он был совсем слепой. Калика перехожий. Могутный такой мужик, огромный, с бородищей, былины пел, сказы сказывал. И вот он странствовал, меня всюду за собой на плечах таскал. Якобы побирался. Нихрена он не побирался. За ним приезжали на телегах, чтоб только привезти. И деревни между собой оспаривали его почти как святого. В деревнях тогда остались одни бабоньки, выжатые горем. Они сами в плуг впрягались… Скотину жалели больше людей. Дед Анисий заходил в избу и начинал петь (Виктор Алексеевич, кашлянув, начинает тоже): «Что ж ты, Пе¬лаге¬юш¬ка, раз¬во¬дишь горь¬кую сле¬зу… Глянь, ту¬чи тем¬ные… Гля¬ди-кась, Пе¬лаге¬юш¬ка, со¬кол твой яс¬ный под¬нялся… Ой да за¬щитил он тво¬их де¬тушек, гал¬чат ма¬хонь¬ких…» И вот она, скрюченная, убогонькая, рассапливленная, будто распрямлялась. Свет в глазах появлялся. Плечи, как крылья, разворачивались. А дед все пел и пел. Мне он сказал однажды: «Когда сердце ревет, кричит, нельзя с людьми обычным языком разговаривать». У Анисия в роду все мальчики рождались слепыми, и все потом становились каликами перехожими. Он говорил так: «Мы що самому Ивану (Грозному) показывали. За що он нас медведем жаловал». То есть, на предков его вроде за попрошайничество Иван Грозный медведя натравливал. А они ходили. Анисий никогда готовые былины не певал, сам по ходу все придумывал. Творил. Я хоть и не говорил, но воспринимал, запоминал все. А он, как знал, что ко мне разум вернется. Не со мной, а с моим будущим разговаривал.
— И что же дальше?
— Однажды подошли к речке. Дед Анисий присел и говорит: «Воробыш¬ка, вернись к тетке Матрене, попроси чистое белое полотенце. Я побежал в деревню, а там сразу всполошились. Да ведь к смерти это. На берег пришли, а дед Анисий уже неживой. Так и умер, прислонившись к березе. Ледоход как раз на реке начался. Но ты про это не пиши. Кому интересна эта моя биография? Чай вон лучше пей. Че ты, как красная девка. Побольше меду-то подцепляй.
Мы молчим. Слышно как хрустят по мерзлой улице чьи-то шаги.
— В общем, потом опять детдом, скитания. Мало-помалу речь ко мне стала возвращаться. Правда, говорил я нараспев, будто былины исполнял. Все это в меня вошло до такой степени.
Школу Виктор Алексеевич окончил в 30 лет. Потому что, говорит, в одном классе сидел года по два, три. Учился в одном месте, в другом. Частенько отправляли в психушку. Контузия его на время утихала, потом опять шибала. Но при этом он умудрился отучится в иркутском университете. На минуточку, филологический факультет. Преподавал в различных школах губернии русский и литературу, работал в малотиражках.
— Однажды девочки из класса, который я вел, попросили написать на выпускной стих. Я уже тогда вовсю баловался. Настрочил ночью. Они говорят, Виктор Алексеевич, это же песня. Напишите музыку. А откуда я ноты знаю? Ладно. Иду вдоль речки, под мышкой глобус, папка. Вдруг слышу — широко так песня звучит, будто по реке стелется. Исполняет моя любимая певица Зара Дулумханова. Про-о-ощай моя школа (голос у Михайлова тенорный, так сказать, с песочком). И так она ее пропела, что аж мурашки у меня. Я думаю: как это? Ведь я же сегодня только стихи эти написал. Как Зара могла в Москве это спеть? Прибежал домой, наиграл на балалайке – песня готова. И начались казусы. Читаю, допустим, Алексея Толстого, тут же мелодия выходит. Думаю, вот опять глюки начались. Дальше – больше. Уже, в общем-то, дед был. Зашел как-то в книжный магазин, муторно на душе. Взял с полки первую попавшуюся книжку, оказались пословицы. И так что-то меня переклинило, что вслух стал произносить свои. Им прикрыть бы срамоту не ту, носить бы им трусы во рту, потому что срамота у них исходит изо рта. Шпарю, шпарю. И тут один мужик говорит: «Дедуля, ты записывай. Прям в копеечку.» Только он это сказал – все, капец. Меня отключили. С этого и пошло, вон уже сколько наштрябал, — стучит он ладонью по толстым папкам. Ворсинки пыли подчеркивают каждый луч солнца.
— Выходит, вы прям кладезь какой-то.
— Какой кладезь, елки-моталки. От болюшки все.
— То есть поэзия, как формулировал Довлатов, это форма человеческого страдания? Не будет лыжой по морде – не будет и поэзии?
-Я не знаю. Ощущение жизни у людей пропадает куда-то. Никто не делает ничего своими руками. Не страдает, если не получилось. Не мучается. Не любит ничего и никого по-настоящему. Чтоб, если не выйдет – пулю себе в лоб пустить. Хотя бы теоретически. Я тоже тут не безгрешен. Вот женился на Сашке. Она – чудеснейший человек. Так? Мягкая, добрая, ласковая. Аринушка Родионовна – вот кто она. А потом пошли мы как-то в баню, она маленькая, полубурятка такая. Смотрю – ноги у нее гнутенькие, будто с лошади только слезла. Думаю, щас выйду из бани и тебя брошу. Увидел – и все, нет жалости, нет любви. Когда со мной эти приступы вот опять начались, я тогда на Алтае работал. Она в Иркутске была. И подумал, вот буду так летать, а ей куда деваться. Станет возиться со мной, жалеть. Я буду маяться. А ведь нет несчастнее несчастья, чем считать себя несчастным, — цитирует он опять себя. — Взял и подал заявление на развод. Дурак, конечно, но мне простительно, — только в уголки губ, пустив на время сожаленье, улыбается он, и тут же спохватывается.
— Ладно. Щас я те книжку подпишу.
Он опять улетает — сшибая дядьку Черномора, деревянного всадника на лошади, на этот раз его задерживает печь.
— Вот-от, — хорохорится дед. – От нее и потанцуем.
Затем выискивает на полке нужную книгу.
— В прошлом году крупица из моих строчечек вышла в местном издательстве, — говорит. – И несколько сказов. «Сказ о Байкале», например.
— И как отреагировала общественность?
— Молча. Поэты местные меня не любят. Считают выскочкой. Где ж моя ручка? Володька приходит, ручка пропадает, — улыбается он одними глазами, не глядя на меня совсем. – А, вот.
Подписывает долго, старательно.
— Но что мне до тех писателей. В себе бы разобраться. Иногда с самим собою, знаешь, как трудно жить, никак не получается. Преодолеешь вроде что-то, а дерьмо все равно вот сюда, к глотке лезет, я его туда, оно обратно.
— Как же быть?
— Как, как. Пою. В былинном стиле.
Он запевает сперва потихоньку, затем, крепче, разгораясь. Словно нитки, жилы из себя вытягивает.
— Что ж ты, старый дурень, здесь развесился, глянь-ка в зеркало, ай да посмотри. Да нешто ты во слезах-то будешь свою бороду мо-очить? Ну, и так далее. Легче малость становится. Чего я дожил до 80 лет? Потому что стараюсь зла никому не желать. Я много видел, много обошел. Били меня страшным боем. И когда кого-то ударят по лицу хоть в кино, я прямо знаю это ощущение, крови, соплей.
— Ну, так еще Даль говорил, что сытые и богатые пословиц не пишут.
— Ну. Причем, все спонтанно рождается. От снега за окошком, от фразы чьей-то оброненной по телевизору. Все, что вышло у меня хорошо, вышло случайно. Нет здесь моей большой заслуги. Я только взял, не поленился, записал. Как получилось не мне судить. Главное, чтобы что-то хорошее осталось, порыв душевный, мысль добрая.
Кукушка в часах, пружинно оповестила о времени. Пузатый щенок выкатился из-за печки и стал играть с собственным хвостом, намереваясь ухватить его, поймать. Хвост оказывался гораздо шустрее.
— Ого, всполошился дед. – У меня процедуры.
— В каком смысле?
— Я, старый пень, три раза в день на снег босиком выхожу, в огород, и там обтираюсь.
Тень от дома занимала половину сада. Сосны у Ангары стояли все в снегу, будто паруса фрегатов, ожидающих ветер. Виктор Алексеевич выскочил в одних трусах. Так, вероятно, должен был выглядеть Иван-Царевич из сказки, если б состарился, но не растерял свой пыл. Он что-то мурлыкал себе под нос. Потом оттянул резинку, шлепнул себя выстрелом в живот, и принялся обтираться снегом. Я поежился. А он пел, и снег опускался по его плечам, иссякал, путался в бороде.
— Хорош, — скомандовал дед сам себе и сиганул к дому, сверкая по пути пятками. Я покурил. Когда зашел, он уже пялился в компьютер.
— Елки-палки, я ж не знал, что ты приедешь. Хоть бы позвонил. Сидишь теперь на чаю, кишки моешь. Хлеба хочешь?
Я не хотел.
— Тогда я сейчас тебе из свеженьких прочту. Ах, ты. Где? Куда убежала, — говорит он строчке, будто она чудесным образом ожила.
— Амуром аукнется, дитем откликнется. Пойдет? — глянул он поверх очков. – В любви и ворона журавль. Или вот. Кто в Иркутске — свинья, тот и в Париже — не голубь. Аршинами нас не измерить, мы — в тоннах дураки. Язык всегда беднее мысли, но всяко богаче глупости.
Солнце перевалило сопку, и щенок обогретый печкой и лучами уходящего дня, сидел в рыжем пятне, осоловелый, глядел в одну точку, подремывал.
— Больше всего, конечно, у меня о любви, о нас в этом мире, и о матери. Ты говоришь, откуда. Знаешь, какое у меня было однажды потрясение. После я надолго в комнату с белым потолком загремел. Мать я свою нашел, — снимает он очки и щурится от мандаринового света из окна. — И лучше бы и не находил. Все во мне перевернулось. Оказалось, что она только на двадцать пять лет меня старше Пила страшно. Видишь, как получается.
Он потер глаз.
— Любить трудно. Самое сложное, взять да и простить. За все. Нет предела высоты мудрости, но куда беспредельней бездна глупости. Короче, много у меня этих пословиц-гномов. Сам видишь. Вот такой перед тобой поэтик. Не стану кокетничать, мне немного осталось. Врачи говорят: у вас Виктор Алексеевич, такая ситуация, что должны радоваться каждому прожитому дню. Я и радуюсь. Но только не хотелось бы, чтобы более 100 тысяч афоризмов, пословиц, гномов моих оказались на помойке. Хочется моих ребятушек (пословицы) в народ вывесть. Может, они и не нужны никому. Может, из них костер хороший получится. Ну что ж, мы старались, — улыбается он.
Я засобирался. Вечером у меня поезд дальше, по Транссибу, на восток.
Виктор Алексеевич поднялся, оперевшись на увесистые свои папки.
— Приезжай, — сказал он, малость даже опечаленно. — Только уговор – в следующий раз дня на три. На Ангару сходим, омуля половим. Закоптим. Во дело будет.
Мы долго прощались у калитки. Мама щенка овчарка Динго терлась о колени, падала на живот и от радости скулила. Я уж поднялся на пригорок. А он все махал и махал. Потом крикнул:
— Я там банку таежного меда в твой рюкзак сунул. Выкинешь – отлуплю.
СЛЫШИШЬ?
Батюшка усталый, с утра припаривший чуть-чуть. Телефон в деревне, куда мы выбрались на три дня (топить печку и бродить по лесам) берет только на крышеего амбара. Но туда по лестнице карабкаться надо.
У батюшки ломит шея и деревнянные от длительной ходьбы ноги. Алкоголь пробуждает удивление к жизни. В обычные дни, говорит он, тебя нету. Ты растворен в молитвах, в людях. Немного воспрянешь только, когда служба идет. А тут думаешь: йех ты, жизнь-то, вот она еще какая бывает. И звезды ночью, как камни волшебные.
Бродим с ним вдоль деревенских могил, смотрим на крестьянские лица, кое-где попадаются внушительные надгробные плиты купцов разных гильдий. А деревни уже почти нет.
— Я три года назад сорвался, уехал сюда. Бухал неделю, плакал, — говорит он. — А когда трезвел, дико хотелось сладкого. Шел на кладбище. Моими главными соперниками были вороны. Они тоже тырили с могил конфеты. Иногда прям перед носом. И смеялись с берез надо мною.
В день мы прочесываем по предзимнему лесу по двадцать-тридцать километров.Все, как полагается, чугунок в рюкзаке, тушенка, лапша, хлеб, сало и чайник.
Потом батюшка валится, не раздеваясь, в кровать. И спит.
А ночью мы томим печь и болтаем.
— Я однажды на зону часто ездил. Ну, поговорить с людьми.
— Они это любят. Они там во всех богов сразу верят, — говорю. — И в разные организации типа МАГАТЭ, которые посылки шлют.
— И вот, — шмыгает носом батюшка. – С одним смертником беседовал несколько раз. Он все пытался, либо вены себе вскрыть, другие увечья какие-то нанести. Я с ним говорил — он кивал. И однажды мне показалось, что он все понял. Такие глаза у него были. А через три дня я узнал, что он все-таки повесился.
Батюшка копается в сундуках, вместе с которыми этот дом и купил, выуживает оттуда пожратые молью тельняшки, кроличьи шапки без сожаления дарит мне.
— И что?
— Оказывается, он глухой был.
-Нифига се. А ты че, не заметил?
— В том-то и дело, что нет. Я же СВОЕ ему хотел донести, а ЕГОне увидел. Он не с детства глухой. Там в тюрьме слух потерял.
Батюшка достает из-за печки весь в пылище и в почти уже истлевших листьях баян. Тот сипит и хрипит, как ангинный. Печная труба подвывает ему.

ОСЕНЬ В МЕЩЕРЕ
В тридцать девятом году писатель Паустовский явил на свет дивную повесть «Мещерская сторона». Хрустальным своим языком поведал он о тихих закатах, бакенщиках и паромщиках. Другой писатель, Пришвин, за эту повесть на него крепко обиделся. Ежу понятно, совсем не ревность взыграла в великом старце, просто — болел он душой за тот уголок. И в каком-то из журналов Пришвин ругательски ругал Паустовского за то, что туристы в панамках 30-х годов теперь ринутся туда, и истопчут все ромашки и донники.
И вот сегодня в Мещере век XXI. У каждой старухи мобильник, в сельмаге — колбаса семи-восьми видов, трактора по лизингу — немецкие. Но отчего-то больше недели не работают, противятся всем бюргерским нутром.
— Говно, — отрекомендовывают их механизаторы. – К нашей земле непривышные.
Впрочем, у руководства на сей счет другая, отличная точка зрения. Как только трактора да комбайны приходят, механизаторы тотчас откручивают магнитолы. А поскольку немцы народ до оскомины последовательный, то собирают они эту технику так, что одно без другого не работает.
Вот и выходит, что с тех незабвенных, пришвинских пор здесь мало что изменилось. И хотя до белокаменной отсюда всего — ничего, тамошние события воспринимаются в Мещере не иначе, как события, творящиеся на Луне.
Здесь не любят трындеть о политике. Зато спроси этот люд о бедах, он без утайки выложит тебе все. Но как-то без нытья. Иронизируя и подтрунивая над собой.
Три дня с режиссером одного из рязанских театров мы колесили по тем местам на велосипедах.
…Быть на Рязанщине и не заехать в Константиново — дурной тон. В какое-то тургеневское теплое, как молоко, туманное утро едва разглядели мы зеленеющую крышу усадьбы помещицы Кашиной, прототипа Анны Снегиной. Бродили по тропинкам. Пили чай на веранде. Здесь создан музей одной поэмы. Фотографии, письма. Уже на выходе из усадьбы экскурсовод показал английскую книгу переводов.
— Самые точные, — сказал он. — И ритм, и рифмы сохранены.
Но поэзия, как говаривал соперник Есенина Клюев, штуковина пресволочнейшая. Растет, как известно, из сора. Начинается, как всякое искусство, «с чуть-чуть». И исчезает, наверное, от едва уловимого, необъяснимого. Мы листали эту книгу. И в самом деле, сохранены были и ритм, и рифмы. Поэзии не было.
— Вот еще, — сказал экскурсовод, протягивая амбарную тетрадь. — Показываем всем, как курьез. Вести дальше не стали.
Это был отзыв Жириновского, написанный мелким почерком. Целая страница излияний. И начинается так сильно: «Здравствуй, Сережа…»
Затем мы еще долго бродили по скрипучим половицам музея и к вечеру тронулись дальше.
Пекли картошку возле озера. На огонек приехал в телеге пастух. Долго сидел, курил. Указал, где спрятана лодка. Дернул за вожжи уснувшую лошадь, и узвенел телегой в соседнюю деревню за самогоном.
К утру, пастух вернулся без самогона, но с доярками. Они то и дело хохотали и запрокидывали назад головы, как кокетливые курсистки.
Я уложил в лодку удочки, одежду и, огребаясь единственным веслом, уплыл в самый конец водоема. Привязал лодку к сухой ветле, расчистил в водорослях «окно» и таскал оттуда добротных таких карасей. Где-то далеко у пропахших коровьими лепешками калд «били» перепела и дивным матом орали доярки.
Обсцентная лексика в сочетании с удивительными диалектными выражениями здесь вообще своего рода искусство. Если уж пошлют, то так красиво, что и не обидно. Посещавший эти места несколько лет назад немецкий журналист Томас Авенариус был просто в каком-то языческом восторге от крепкого русского словца. Приехав писать об охоте на волков, он два вечера подряд пил с одним трактористом самогон и записывал в блокнот его выражения. Затем у служителя пера из мюнхенской «Zeitung» осоловели глаза, остановилась рука, и он упал на стол. Тракторист влил в себя еще энное количество алкогольной влаги, махнул на немца рукой и ушел.
Но, пожалуй, самый искусный по части мата в Мещере дед по прозвищу Бандит. Немного жаль, что в печати невозможно выдать всех изысков его весьма аутентичной речи. Если бы дед захотел, то мог бы запросто заткнуть за пояс изрядное число академиков из Института русского языка им. Виноградова.
Впрочем, известен Бандит не только этим. Ходить к нему нам не советовали. «Человек он пропащий, — говорили о нем. — Даже кота своего споил».
Бандита дома не было. По старинке подпертая палкою дверь. Ни замка, ни запирки. Меж двойных рам пыльного окна, в паутине, дрожала бабочка. Тощий кот сидел на крыльце и усердно тер лапой правый глаз. Выражение морды у кота было таким, будто он не выходил из запоя неделю или съел что-нибудь непотребное.
Мы уж было, хотели уехать, так и не дождавшись старика. Но тут в вечерней тишине и запахе парного молока раздался скрип его телеги. Я разглядел его. Большие, удивительно свежие голубые глаза. Седая борода. Наполеоновская треуголка и китель времен 1812 года. Распрягая лошадь, он выдал несколько матерных тирад, потом спросил:
— Чьи будете?
— Издалека мы. Журналисты, — молвил я.
— А-а… п…болы, — усмехнувшись глазами, сказал он.
— Выпить есть? — отогнув большой палец и мизинец, показал он.
Я кивнул на рюкзак.
— Заходи, — сказал Бандит. Кот брел за нами.
— Иди-и-и, пропойца, — открывая дверь, сказал он. — Веришь — нет, больше меня, сука, пьет. Сперва морщился, чхал, а потом как расчухал. Щас стакан одним махом, — бравадно гиперболизировал дед.
Достал с занавешенной полки стаканы, дунул в них и поставил на стол.
— Вот, гляди,- сказал он. Плеснул коту в порожнюю консервную банку. Кот жадно стал лакать.
— Ети его мать, — ухмылялся старик. — Понимаешь, — обратился он опять почему-то к моему напарнику, — одному пить херово. Этот еще тут ходит, орет. Дай, думаю, налью. И, знаешь, жизнь у нас щас пошла йо-о-о.
— Как звать-то его? — спросил я, надеясь услышать что-то вроде Кузьмы. Имя у кота оказалось весьма благородное, подобающее — Дрыщ.
— Больно утром ему паскудно бывает, — сказал дед. — Горлышки у бутылок прямо грызет, орет… Но я с вечера ему немного оставляю, — нежно добавил он.
Я ерзал на стуле. Не давала покоя его одежка. Треуголка и китель с эполетами.
— Откуда это? поинтересовался я.
— А-а. Был тут у нас театр один из Мурома,- степенно пояснил он. — Сошелся я с костюмершей. Все гастроли употребляли с ней по чуть-чуть. Ну … по литру после спектакля. Душевная баба. Уезжая, отписала мне эту одежу.
— Рассказывают, что когда-то ты искурил письма Пушкина? – говорю я.
— Кто сказал? — недовольно бубнит Бандит.
— Говорят…
— Говорят. До хрена че говорят, — он старался держать себя в рамках… — А ты в залупу-то не лезь, — сказал он сердито. Затушил папироску о подошву калоши, задумался, кинул бычок к порогу.
— Я ж не знал, что это его письма. Он скрутил новую цигарку и, отплевывая крупинки махорки, сказал.
— Читал. Писано, как курица лапой. Бабе какой-то писал. Мол, ангел мой, люблю тебя. Тьфу.
— Откуда они у тебя?
— Батя мой раскулачивал усадьбы. Раскулачивали, сам знаешь, как. Расстреляют кого можно. Потом разбираются, че к чему. Батька впопыхах схватил старый ридикюль с бумагами и ассигнациями. Думал, ценное че. А там денег-то — кот наплакал. Записки какие-то и эти письма. Он закинул его на чердак. Всю войну там пролежал. А году где-то в 50-м собрался я крышу железом крыть. Стащил бумаги. Порылся. Которые в печку, которые искурил. А письма эти долго валялись на окошке. Так и не смог прочесть толком. Почерк был никудышный. Как-то бумаги не было, я их и искурил. Приезжала потом с Питера какая-то фифа и очкарик с ней, спрашивали. «Хватились, говорю им. Уж я из них давно дым пустил. Все –дым, — философично заключил он… «Откуда-то узнали, что это письма Пушкина. Кто ж знал. Но с другой стороны — и правильно. Ежели б письма были какому-нибудь князю Вяземскому — дело другое, — щегольнул он знанием истории. — А тут… бабе. Эти бабы его в гроб вогнали. Скажу тебе: все беды из-за баб. Вот Есенин был. Тоже из-за баб сгинул. Говорят, алкаш был. А из-за кого он пил-то, спрашивается? Ты мне скажи? — дед яро смотрел на меня.
— Не… все беды из-за баб, согласился сам собою.
Помолчав, он поправил эполет и сказал: — Но ведь, б.., и без них никуда. Не будь их — стихов таких, поди, не было бы. Вот так, щелкоперы, — обратился он к нам. — Жизнь — мудреная штука. Это вам не писульки в газете чиркать или начальство обкакивать. Бандит еще выпил и сказал:
— Завтра утром еду за жердями в Америку.
— Куда?
— В Америку, — степенно ответил он. — Тут недалеко. Верст семь будет.
Я, не отрываясь, смотрел на старика.
— Че глядишь. Деревня есть такая. Советская Америка. Крестьян, которые не поддавались раскулачиванию, сюда выселили. То ли сами они назвали, то ли в райсовете прикололись. Но название прижилось. Кореш у меня оттуда был, у него прямо в паспорте стояло место рождения Сов.Америка. Хотя сейчас нету там ничего.
Часов с четырех утра спать было невозможно. Где-то на дальних озерах, как барышни, не устоявшие перед курортным романом, кричали журавли. Пахло дымом из печей и горячим хлебом. Сонный кот сидел у порога и щурился от пыльного луча солнца.
Бандит запряг лошадь и, чмокнув, потянул вожжи. Темные следы от тележных колес остались на росе. По тихим еще лугам тянулись копны сена. Пролетела цапля, крикнула.
Мы долго ехали по лесу. Потом блеснуло, как стекляшка в чеховском рассказе, озеро. Сгнивший дубовый крест да одинокая изба. Это все, что осталось от деревни в 33 двора.
— П…ц Америке,- сказал дед.
Я зашел в избу. Выцветшие фотокарточки каких-то людей валялись в старом комоде среди тополиных семян, шпулек без ниток. Керосиновая лампа висела на гвозде. Когда-то кому-то светила она.
Принялись рубить жерди. Бандит сказал, что хочет изготовить длинные оглобли и достать со дна озера свой старый мотоцикл «Panoni». Года два назад он по-пьяни упал на нем с откоса. Сперва, говорит, махнул рукой: хрен с ним. Теперь вот ветра захотелось.
Мы ныряли с товарищем до вечера. Резало глаза, сморщились, как в детстве после ловли головастиков, ладони. Мотоцикла не было.
Дед сидел, засучив штаны на берегу, и командовал:
— Правее, к осоке. Да куда ты, йо-мое. Во-от.
Наконец, мы плюнули и пошли на берег. Развели костер. Бандит достал хлеб и сало.
Еще раз глянул на плотину.
— Вроде отсюда я навернулся. А может, и нет, — рассуждал он сам с собою. – Потом еще кого-нибудь попрошу. Хороший был мотоцикл, трофейный.
— А когда утопил? – поинтересовался мой товарищ.
Дед сощурился, вскинул глаза к небу:
— В семьдесят девятом, кажись. Точно. Я тогда еще здесь начальником был. Тюремной фермой заведовал. Ну, свиней, овец выращивали. План перевыполнял. Пятилетку давал за два года. У, что ты. Денег как у короля было.
Мы переглянулись.
Уже темнело. Я снял с телеги велосипеды.
— Чешите щас во-о-он на тот огонек. Потом возьмете влево и езжайте вдоль Оки до самой станции, — объяснял Бандит дорогу.
— Ну, бывайте.
Сухими, с черными ободками под ногтями, пальцами, Бандит сжал нам ладони и ухмыльнулся. – Хорошие вы ребята, хоть и п… болы…
КРАЙ ЗЕМЛИ
Александру Шереметьеву
Той осенью много было тепла в груди. То ли от коньяка, который пили мы в тупике. То ли от того, что проносились мимо этого тупика поезда, а в них – люди. И так хотелось любить их, думать обо всех нежно. Потому что вот осень такая нарядная, поют в рябинах дрозды, и потому что все мы когда-нибудь умрем.
Той осенью я дурачился. Брал с собою утром будильник, заводил его минут на пятнадцать вперед. Затем входил в трамвай и присаживался рядом с какой-нибудь девушкой.
Будильник мой был массивный, еще тот, советский, с колокольчиком наверху. И звонил он – мертвого можно было поднять. Я вытаскивал его из кармана, хмыкал и спрашивал у девушки:
— Черт, а сколько на ваших?
Она отвечала. Я подводил стрелки и говорил:
— Ну и как мне теперь жить без вас!?
Когда я сказал это тебе, ты пожала плечами и ответила:
-Мы можем никогда не расставаться.
Луч солнца, разведенный красками осенней листвы, золотил две озорные твои косы.
И что это был за день! Какое сумасшедше-синее небо висело над городом, и как на фоне этого неба били по глазам костры кленов!
Мы сидели в кафе на набережной, и я все время выспрашивал у тебя что-то. А ты, глядя на Волгу и подставляя лицо ветру, не интересовалась у меня ничем. Казалось, разговор со мной вовсе был не нужен тебе. Но отчего тогда не уходила ты, сославшись на какие-нибудь дела? Отчего беспрерывно пила кофе и будто на дежурном интервью отвечала на мои вопросы? Я знал, что у такой, как ты, должно быть много воздыхателей. Денежных, справных, как породистые жеребцы. Этаких хозяев жизни. Но зачем целый день сидела ты со мной? Может, убивала какую-то обиду?
В огромное красное солнце летела чайка. Я думал, что вот вечер, сейчас ты встанешь, скажешь чего-нибудь и уйдешь. Но так хотелось удержать тебя. Какой-нибудь нелепостью, глупостью. И уже злясь, что ничего из этого не выйдет, сказал:
-А поехали в одну деревню. Там есть дом с печкой, а из окна видно, как солнце заходит в поля.
Я знал наверняка, что ты откажешься. Но ты как будто играла в неведомую мне игру и грустно улыбнулась:
— О кей.
Мы заехали ко мне, захватили рюкзак, позакрывали форточки. А потом, купив еды, отправились на вокзал.
Фонари были как будто в дыму. Запах листьев и вокзальных пирожков витал всюду. Мы глядели на уходившие поезда с моста и курили.
— Когда-то я думала, что у каждого человека на этой земле есть его собственная любовь. Которая ищет его с рождения, — сказала ты, разглядывая в полутьме свои красивые ногти. — Но мир все-таки очень велик, и искать друг друга эти сердца могут всю жизнь. Очень похожа на это и какая-то своя, никому не понятная жизнь поездов. Они часто ходят навстречу друг другу. И кричат, кричат, как журавли. Но как только встречаются, проносятся мимо – тотчас же понимают – не то, опять не то. И снова идут куда-то, ищут чего-то.
Уже и гасли огни в домах, мимо которых мы ехали, и синим светились окна, где смотрели телевизор. А в поезде пахло уютом и жаром несло от чайника, который возле купе проводниц визжал тоненько, как монашенка.
Я сидел на нижней полке и смотрел на тебя. Ты сняла темные очки, щелкнула дужками и протерла, как ребенок, кулачками глаза. И так мне захотелось поцеловать их, сгрести тебя в охапку.
— Давай спать, — сказала ты.
Я допил свой чай. Стал разглядывать гравюру города Смоленска на подстаканнике. Внизу мягко погрохатывали колеса.
— Давай спать, — сказала ты, и сняла через голову свитер.
Я обомлел. Под вязаным белым одеянием у тебя ничего не было. И поэтому колыхнулись наполненные, готовые вот-вот расплескаться, груди. Затем ты освободила ноги от джинсов и залезла под одеяло.
Я бродил всю ночь. Выходил за чаем, а потом сидел и смотрел на проносившиеся фонарями и одиноко горевшими окошками деревни. И так хотелось запомнить все это, куда-то записать. И было страшно от мысли, что можешь заснуть, а утром встанешь – и не будет уже тех ощущений, тех нот в груди. Никогда. Не о таком ли состоянии сказал когда-то Пушкин: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи?»
Утром (было еще запотевшим окно) я тихо разбудил тебя. Ты что-то спросила ленивым, еще не набравшим холодной отстраненности, голосом. Быстро, как солдат, надела свитер, и пошла умываться.
Затем была станция. Наш поезд толкнулся и застыл у бабулек с яблоками. Мы миновали длинные, точно склады, деревянные ангары, прошли висячим мостом через речку и вышли к осеннему пустому полю. Было еще темно и гулко. Со станции долго доносился до нас голос женщины, объявляющей поезда.
Ты куталась в воротник своей розовой куртки и прятала руки в рукава. У высветленного стынью горизонта игрались-миловались черные вороны.
А потом мы порвали в углах паутину, затопили печь, и я принес из колодца воды.
Сколько было счастья в тот день! Шипели дрова в печке, постепенно теплом наполнялась изба и кипела, бурлила за шестком, варившаяся шурпа.
Мы пили чай в облетевшем саду. И казалось: я чувствую, как крутится, летит куда-то Земля. С этой осенью, безлюдной этой деревней и нами, прихлебывающими из блюдцев с твердым, еще оставшимся от бабки сахаром, чай.
Весь день ты вытаскивала из шифоньера старые вещи. Крутилась возле тронутого трещинами трюмо. Примеряла цветастые девичьи, бог весть как угодившие в тот гардероб, сарафаны, пальто с капюшоном.
Особенно хороша была ты в этом пальто, когда надевала его ночью на голое тело и выходила на крыльцо покурить. Курить можно было и дома, но ты все равно выходила. А потом как будто что-то передумав, свалив какой-то неведомый груз с плеч, приносила в дом запах стыни и близкого снега. Скидывала с себя одеяние и жалась ко мне, льнула губами.
Ты почти не говорила со мной, а только кричала, как птица подстреленная, билась в ладонях. Я представлял почему-то сверху наш дом, эти крики, а дальше — тишина на много безмолвных верст.
Мы ставили в патефон пластинки Леонардо Коэна. Я одевался и выходил на воздух. Последние листья осин угрюмо трепетали в саду. И стояли в небе звезды, крупные, увесистые, сырые. И так мне хотелось нарвать их, как яблок, принести за пазухой тебе еще сонной, сидящей на кровати голышом, и высыпать к теплым коленям.
На другой день запуржило, завьюжило. И вместе с тревожной радостью от первого снега, нанесло в сердце какой-то неизбывной тоски. Откуда она приходит? От чего?
Я отомкнул огромным, как в сказке про Буратино, ключом дверь в амбар.
Нашел там:
— старую керосиновую лампу;
— радиоприемник «Вега»;
— банку вишневого варенья;
— валенки;
— прялку;
— обитые оленьей шкурой охотничьи лыжи;
— самодельные деревянные санки.
Мы могли бы кататься с тобой на этих санках с горы возле леса, ты могла бы смеяться и захлебываться ветром от бешеной скорости. Но ты сидела дома и смотрела в окно.
А вечером, будто вспомнив что-то, вдруг засобиралась. Я уговаривал тебя остаться. Хотя бы до утра. Но ты была упряма. Сказала, что хочешь уехать одна, без меня. Так будет лучше.
-Для кого — лучше?
— Для всех, — сказала ты, надевая откуда-то взявшийся бюстгальтер. Оказывается, он лежал в твоей сумочке.
— А как же это «мы можем никогда не расставаться»?
— Я тебе все объясню. Но – потом, — сказала ты. – Позвони, — в моем кулаке оказался зажатый листок блокнота.
И снова шли мы заснеженными уже полями, стонал в телеграфных проводах ветер. А в тревожном, с лохмотьями облаков, небе, подхваченные этим ветром, все также игрались-миловались вороны.
Ты уехала электричкой, вложив в тот последний поцелуй, что-то такое, от чего как от неожиданного левого хука потемнело в глазах. Затем, прислонив ладонь к стеклу, долго глядела на меня и уезжала, уезжала, уезжала.
Домой я попал кромешной ночью. Выпил оставшиеся полбутылки водки. Не раздеваясь, рухнул на кровать и уснул.
Утром, затапливая печь, нащупал в кармане твою бумажку. Развернул ее и бросил в огонь. Твоего телефона там не было. Были цифры: 1,2,3,4,5.
— Раз — два — три — четыре- пять, вышел зайчик погулять…- произнес я вслух.
А потом держал в ладони порвавшуюся твою цепочку с крестиком и плакал. Зачем? Почему?
Что было такого между нами, от чего теперь так скручивало в узел горло?
Что было такого в твоих поцелуях, от которых до сих пор у меня, как от волчьих ягод, кружится голова?
Три дня еще я был в этой деревне. Валялся в кровати. Топил печь. Как чумной слушал Леонардо Коэна.
Но каждый вечер, когда солнце заходило в снега, я брал лыжи, сработанные каким-то волчатником и ехал. Ехал в этот закат красный, а навстречу – огненными хвостами несло поземь. Казалось, все вокруг дымится уймой вулканов. И что там, куда зашло недавно солнце, а тремя днями раньше исчезла ты – там край Земли. А я туда еду. За каким чертом? Не знаю.
ДАВАЙ, ДЖОН!
— Дохляки, — сказал дядя Саша, по-нижегородски упирая на букву «о». В ринге, очерченном расступившейся толпой, висели друг на друге два гренадерских гуся. И сопели. Они напоминали боксеров-тяжеловесов, тайком договорившихся поделить куш.
— Мой бы здесь наверняка апперкотом вдарил, — дядя Саша показал, как; стоявшие рядом образовали некоторую прореху. Гусыни тем временем бродили от дерущихся поодаль, теребили прошлогоднюю мертвую травку. — Петрович, ты, небось, гусака-то в одной корзине с «любкой» вез? — крикнул дядя Саша кому-то в толпу. — Он ее, поди, всю ночь и жарил. А теперь больно надо ему драться.
В толпе загыгыкали.
Петрович сам, как гусь, двигавшийся на корточках, отмахнулся. Сдвинул со вспотевшего лба на затылок изношенную кроличью шапку.
Гуси топтались так еще долго, ни «бе», ни «ме», пока судья не развел в сторону руки, объявив ничью.
А из машин, выстроившихся в ряд у магазина «Магнит», уже несли следующих. Гуси негодовали, скандалили, упирались.
— Ты смотри, — изумленно говорил сам себе мужик, волоча птицу чуть ли не за шею, — нихера не хочет драться. Не хочет и все.
Магазин притягивал не только автомобили. Вскоре оттуда явились два дяди Сашиных товарища — Коля и Володя. Судя по блаженному выражению их прослезившихся лиц, приобрели они в этом заведении не только батончик «Марс».
Гусиные бои в Павлове-на-Оке Нижегородской области — это более чем вековая традиция. Еще император Николай Второй, наезжая в эти места, восхищался их умением биться за гусыню едва ли не насмерть. После прихода к власти большевиков забаву, как некий элемент буржуазности, прекратили. Но местные любители, или, как они сами себя называют, охотники, породу умудрились сохранить. Птицу натаскивали втихаря. Во дворах, в хлевах и даже в избах. Скрещивали, менялись, воровали.
Только в 90-х бои вновь разрешили. И вот каждую весну, как только начинает припекать солнце, удлиняя на крышах сосульки, в Павлово съезжаются заводчики бойцовых гусей со всех окрестных мест. И не только. Теперь этих огромных красивейших птиц разводят везде — от Курска до Улан-Удэ. Возят на бои в специально плетеных корзинах через сотни верст.
Но вот абсурд: с тех пор как бои опять разрешили, сами гусятники, по мнению дяди Саши, как-то обмельчали, что-то нарушилось, умерло в них самих, человеческое, важное что-то. И теперь, говорит он, все происходящее напоминает дешевый театр с декорациями из картонных коробок. По этой причине он и не участвует в нынешнем действе. Точнее, не участвует, потому что не взяли, его гуся нет здесь. А кому же, усмехается он, интересно, когда один выходит и всех побивает. Тут нужно шоу. И оно с некоторыми оговорками происходит.
Нам нравится дядя Саша. Он какой-то крепкий, не надломленный, что ли, каждодневной рутиной, и печальным несоответствием реальности после вчера употребленного… Он обещает показать нам настоящий гусиный бой, а мы и не против. Усаживаемся в его большелобый автомобиль «Волга», покидаем город.
Дальние кущи за стеклом окутаны синим. И в крохотную форточку, которую я открываю, чтобы покурить врывается ветер. В нем уже так много от талого снега, от шалых ручьев, что в который раз одолевает обманчивое: все можно начать снова. Влюбляться, сходить с ума, жить.
— Так как же их тренируют? — повторил я дяде Саше свой вопрос.
— Ну, как? – глаза его степенно поглощали шоссе. — Вот они еще только из яйца вылупились, а уже видно: этот будет драться, а этот, — переключил он скорость, — пусть так ходит.
— О! — всполошился сидевший со мной плечом к плечу Николай. — Как в футболе!
— Но и тот, которого ты определяешь в бойцы, еще через многое должен пройти. Он либо шебутной чересчур, горячий. Такого надо на землю спускать, чтоб не зарывался. Или, бывает, прыжок никакой — надо ставить, кому-то силы удара не хватает.
— Я ж говорил, как в футболе! — укрепил свою мысль Николай.
— Или вот, допустим, «любки», — кашлянул дядя Саша в кулак. — Некоторые сгонят всех в одну кучу, гусак ходит-ходит, то на эту вскочит, то на другую. Анархия, бляха-муха. Но так можно разве? Тут надо наблюдать: ага, на эту глаз положил. Раз ее — и отсадил к весне. Тогда у них и тяга друг к другу будет. Он порвет всех за нее. У моего вон три их, бабы-то, — неожиданно сказал он, — и со всеми, тьфу-тьфу-тьфу, справляется.
Он подождал, пока мы обгоним фуру, сказал потом:
— Но любимая, конечно, одна. Я ее у соседа купил. Один раз слышу, мой с ней через три двора перекликается. И как они это делают… сердце заходится. Ну, я пошел, еле уломал. Бешеные деньги, между прочим, отдал. И вот он за ней ухлестывает, что ты! Прошлый раз с Петькиным Красина гусем схлестнулся, дыхалку ему сбил, и, пока тот очухивался, он уж на нее вскочил, оттоптал благополучно, и обратно драться. Пять лет никому не проигрывает уже с ней.
Здесь Николай ничего не добавил, он молча смотрел в окно на перелистывающиеся пейзажи, думал.
— А от меня жена ушла, — сказал совсем без тоски даже. – Уехала в Волгоград и не вернулась.
— Ну, ты бы узнал, жива ли? — сказал я.
— Конечно, узнал. С дирижером филармонии живет. Ты не подумай, она хорошая. Я говно.
Он достал из-за пазухи бутылек, приложился, утер ладонью выступившее на глазах благодушие. Потом вдруг опять всполошился, стал пытать меня футбольной статистикой.
— Кто был единственным в Советском Союзе капитаном футбольной и хоккейной сборной?
— Бобров, — пожал плечом я.
Далее он спрашивал о первом обладателе «Золотого мяча», о человеке, который первым забил 400 мячей в чемпионате СССР.
Где-то я угадывал, и он досадно бил ладонью об ладонь, будто проиграл мне лошадь. Где-то я давал маху, и он радовался, как пацан, подскакивал на сиденье, бился башкой об крышу и колотил себя в грудь, туда, где сердце размягчал алкоголь, и оно становилось податливым, точно свинец.
— Коля у нас знаменитостью, между прочим, был, — сделал заявление дядя Саша. — Токарь, слесарь, жестянщик. В «Сельхозтехнике» на нем весь парк комбайнов, зилов и газонов держался. Уазики там. Но это ладно. Он еще у нас местным Гаринчей был. В команде «Волга» во втором дивизионе лучший бомбардир три года. Ты, поди, про такую команду-то и не слышал?
Я честно сознался, что нет.
— Ну, вот, а он каждый год по 28 мячей заколачивал.
— Один раз двадцать пять, — уточнил Николай и шмыгнул носом.
— А потом что же?
— Известно, что, — дядя Саша посмотрел на Николая в зеркало. — Начальство сказало: ша, бля. Хорош тряхомудием заниматься. Техники негодной больно много в тот год скопилось. А он — футбол.
— Пришлось запить, да?
— Почему сразу запить, — немного обиженно произнес он. — Просто ушел из футбола и все. Надо чем-то одним заниматься хорошо.
Он помолчал, потом докончил тару, сказал:
— Ты не думай. Я ж не пропойца какой. Просто бывает так, душа поет, надо, понимаешь.
Я его, кажется, понимал.
Село Сосновское, где проживают Николай и дядя Саша — обыкновенный, можно сказать, населенный пункт советского типа. Серые пятиэтажки, облезлые коты с сонными мордами, подозрительные личности на скамейках. Дядя Саша проживает в одной из таких пятиэтажек на окраине. Зато прямо у его подъезда стоит крепкий сарай, похожий на зимовье сибирских охотников. Внутри, как в галерее. Старые портреты вождей — Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Обнаженные красавицы, выдранные из разворотов журнала «Плейбой». Хлев разграничен для разной живности перегородками. Посередке выводок со свиноматкой, напротив — боров, лежащий на громадном пузе, который сопит так, что разлетаются в сторону с пола опилки. Над каждым животным табличка с именем, прочая информация. Прямо-таки немецкая какая-то дотошность. «Сара», — значится над небольшой свиньей. «Оплодотворял 25 января без возбудителя».
На верхней балке под низким совсем потолком маркером записан чей-то телефон с множеством нулей в конце.
— Это Саня президенту звонил, — пояснил Николай. — Хотел вопрос задать, че-то там про сельское хозяйство.
— Задал?
— Како там. Не пробьешься, — вздохнул Николай, как будто и сам по какой-то причине тревожил президента. — Сашка он, молодец. Хозяйство, гляди, какое держит. Дочерям обеим помогат.
— Ромка, сука, ты на хера трех депутатов съел? — донесся до нас откуда-то голос. — И бабе еще голой низ отхватил.
Мы заглянули в дверь, там, в надышанном маленьком пространстве и косых лучах света из оконца стоял дядя Саша и белый с пятнами теленок. Он вдруг взметнул хвост, подкинул зад и стал носиться, взбрыкивая.
— Василич, — сказал Николай серьезно, — вон гляди, он твоих депутатов уже того, высрал.
Дядя Саша пнул лепешку в угол, обтер о солому башмак.
Затем он долго ловил гусака и гусыню, нежно, как породистых щенков, уложил их в картофельные мешки.
В проеме двери появилась жена.
Николай сразу вышел на воздух.
— Вот хочу к деду на драку отвезти.
— Тебе делать, что ли, больше нечего, — шикнула она, но все равно было отчетливо слышно.
Дядя Саша не стал ничего возражать, он просто отнес гусей в багажник, завел двигатель, мы тронулись дальше.
Деревня Шишково вязла в сугробах. У заброшенного дома, где остов ржавого трактора занесло по самую крышу, мы свернули налево. Вышли, оставив в багажнике умолкших гусей. Ни души не было вокруг. Только у озера в тополях усердно пели синицы, как будто скоро что-то наступит, сбудется, произойдет.
В пахнущих баней сенях, мы обстучали подошвы ботинок от снега, вошли в дом. Прямо у порога стояла классическая русская печка с вылинявшими занавесками. Рядом с ней сидела беременная кошка и, покачиваясь, дремала. Дядя Саша обнялся с отцом, вставшим навстречу из-за стола. В руках у него были очки без дужек, на резинке, районная газета. Мы объяснил цель своего приезда.
— Это ж надо за каку вы даль ехали, — усмехнулся одними глазами дед. — Да, Москва. Я был там один раз. Где-то году, кажется, в 63-м. Точно, в 63-м.
Деду Василию Васильевичу 81 год. И все эти годы он прожил в деревне, почти никуда не выезжая. Косил, пахал, тайком от государства гнал самогон и валял вручную валенки.
— Прежде гусей этих еще мой батя держал. Потом мы, дураки, с братом стали. Дрались и гусями, и так, ой, щас вспомнить. Теперь вот Сашка держит. Но спроси меня и его: зачем? Никто толком не скажет.
С помощью соцработника Натальи дед напялил камуфляжный бушлат, все пошли выбирать место.
— Надо в баню дров подкинуть, — велел дед Наталье.
— Я только что ходила.
Место нашлось между соседским ГАЗ-53 и широкой уличной тропой. Соцработник Наталья — девушка без возраста с одутловатым, словно у детского пупсика, лицом — выгнала дедовых гусей из сарая. Они были этим фактом весьма недовольны. Выгнув шею, шипели на нее. Дядя Саша выпустил из мешка своих. Но драка не состоялась. Гуси с минуту посмотрели друг на друга, и пошли в разные стороны. Как только ни гоняли их — те ни в какую. Забивались под машину, и соцработник Наталья гнала их оттуда ивовым прутом, убегали в проулок, и она, засыпая в валенки снег, лезла и лезла.
— Не будут драться, — с зажатой беломориной в уголке рта, сказал дед. — Они же братья.
— К Генке надо идти, — серьезно подытожил дядя Саша. — К шурину.
Дядя Саша нес гусака. Николай подхватил под мышку гусыню, но она все время вырывалась. Он неумело поддерживал ее коленом, перехватывал, гладил по уворачивающейся голове:
— Ну, че ты, че ты. Успокойся.
Генка — усатый, азиатскими заспанными чертами лица похожий на постаревшего писателя Куприна — выслушал дяди Сашины доводы степенно.
— Ну что ж, — сказал невозмутимо. — Давай биться.
Пока он выводил своих из сарая на запорошенный соломой двор, я спросил дядю Сашу.
— А ставки на бои делают?
— Бывает, — сказал он, вынимая запутавшуюся ногу из своего кармана. — Ну, несколько человек договариваются. Обычно дерутся так просто: мой тваво сильней. Да иди ты.
Гусаков развели в стороны. Дед дал команду. И они сцепились. Сначала, как говорит дядя Саша, щупали друг друга. Затем стали молотить.
— Джон, давай, — крикнул Николай. Он ходил вокруг них, поднимая руку, будто ждал паса.
— Так его, так, — сначала со смехом произносила жена Гены Татьяна.
Через пятнадцать минут уже все потрясали в воздухе кулаками, будто выкрикивали лозунги на митинге.
На крик и возгласы прибежали мальчишки, уселись на дощатые ворота. И только пес Цыган не был допущен к зрелищу. Он царапал калитку, вставал на задние лапы и оказывался едва ли не выше мальчишек.
— Иди отсюда! — кинул поленом Геннадий в дверь. – Убью! На Покров только кабана заколол, только порубил на куски. Пошел за тазом. Он тут как тут. Три килограмма грудинки сглотнул, не жуя. Я в него тазом запустил, жалко промазал.
— Джон давай, — кричал Николай, растопыривал руки, как вратарь.
Пух летел по двору, словно с неба пошел теплый весенний снег. Гусаки взлетали, били сверху клювами, стараясь угодить в самое темя. Крылья их были уже окровавлены.
А гусыни метались от них к людям, кричали, кричали. Заглядывали в глаза снизу, нам, затеявшим все это, просили, умоляли, клянчили.
Первым не выдержал дед, он хлопнул шапкой об землю, сказал:
— Брейк, вашу мать.
Геннадий и дядя Саша подчинились. Подхватили своих гусей, но и на весу, болтая в воздухе красными лапами, они норовили клюнуть друг друга, нанести последний, решающий удар.
— Николай, — сказала Татьяна. – Я вот тут тебе записку написала. Сбегай к бабе Маше. Она недавно согнала, я видала — дым шел.
Захватив сало, банку огурцов и широкую миску соленых груздей, Татьяна и Геннадий отправились с нами к деду в дом.
Накрыли на стол, через время явился и Николай, держа под мышкой, как гусыню, трехлитровую банку мутного самогона. Но с самогоном ему было сподручней. Он не вырывался.
Изба тут же наполнилась голосами, перебивающими друг друга, звоном стаканов, праздником из ничего.
Соцработник Наталья мертвой хваткой обнимала за шею, будто душила, скотника Серегу, который без слов пытался освободиться от ее напористой нежности, краснел, ему было неловко так.
— Это брат отца моего, — показал дед на одну из настенных фотографий. Там в парадной форме сидел гвардеец с закрученными кверху усами. — Хваткий был, конезавод здесь держал. Тяжеловозов разводил. В гражданскую попал к немцам в плен. Только на седьмой раз получилось бежать. Прибежал домой, тут его и раскулачили, — улыбаясь, сказал дед.
Самогон мутно покачивался от колыханий. Пили за любовь, за деревню, за родителей. И тут вдруг на одном из тостов Николай накрыл свою стопку ладонью.
— Все.
Мы вышли с ним покурить. Синяя одинокая звезда взошла над полями.
— Ты не думай, — сказал вдруг Николай и так глубоко затянулся сигаретой, что дым не вернулся при выдохе. — Я не алкаш какой.
— Я и не думаю.
— Проходит жизнь, а человека нет. Нет ему места, мается, как мудак неприкаянный. Все тащится, тащится куда-то, а следов никаких. Как тут быть?
— Не знаю, — признался я честно.
— Вот и я. А знаешь, почему меня Гаринчей местным зовут? Гаринча — это птица такая. Она летает. И я с мячом, знаешь, как летал.
Баня давно затухла, мы прощались у порога уже почти час, врали, обещали непременно вернуться. На повороте фары выхватили опять остов трактора, от которого виднелась только крыша. Озеро, усыпленное зимой, поля, поля.
Николай вышел на окраине Сосновского, крепко пожал ладонь, затем крикнул в пустоту ночи:
— Гаринча, давай.
— Что же вы, вообще водку не употребляете? — спросил я дядю Сашу.
— Да уж восемнадцать лет как. Понимаешь, — сказал он, — я боксер был. Чемпион района. И вот как напьюсь, немедленно давай всем морды крушить. Если б начальник милиции не был знакомым, до сих пор, поди, где-нибудь в Мордовии рукавицы шил. И тогда решил: не можешь — не пей.
Я вдруг вспомнил всю его ораву: поросят, быка, гусей, кур, голых женщин по стенам, недовольный тон в чем-то его подозревающей жены. И еще это вспомнил: «Но «любка» всегда одна».
Он высадил нас на остановке автобуса. И долго еще в темноте не исчезали огоньки его задних фар. На колдобинах картофельные мешки подбрасывало. И гусыня о чем-то причитала. То ли звала кого, то ль проклинала…
ВОЛЧАТНИК
Он ерничал, бурачал, гундосил, что охота на волка – это тебе не прогулка там с термосом в рюкзачке как, может быть, думаю я, как, вероятно, думают многие, и не дешевый шансон, типа: я — загнанный волчара, меня никто не любит, но я ни в чем не виноват. Не мы такие – жизнь такая. Бла-бла-бла. Но мне было это и так понятно. Мне просто был нужен этот март – кусок сахара, размоченный в фаянсовом блюдце, лесов голубая каемка, и воздух, который как водка или даже коньяк, — настаивается на дубовой коре, на ставших бордовыми вдалеке ветках берез. Мне нужна была эта дикая усталость до нытья в ногах и ночевка на печке с прилагающимися запахами.
— Ладно, — сказал лучший волчатник планеты. – Поехали. Только не ссы и не лезь никуда, пока не скажу.
Впрочем, это отнюдь не значило, что я буду идти за ним след в след, и ужинать из одного котелка.
«Ладно» — это подай – принеси, но мне и это с ним, что называется, за счастье. Мне интересен его опыт в лесах. Его молчание.
Это такое роскошество — не пользоваться словом, когда ты умеешь им пользоваться. Оно как будто концентрируется в нем и произнесенное, теплое, как парок изо рта, означает гораздо больше, чем у иных целая тирада. Посмотрит он, допустим на снежную пойму, где на сухих цветках татарника качаются вниз головой надутые снегири, и скажет: «Весна дружная будет». С чего? Почему? И ведь не наврет. Она и правда придет потом лихо и в подполах близких деревень после спада, будут находить внушительных лещей.
Фокин о себе никогда и ничего не рассказывал. Его образ, характер тоненьким перышком «вырисовывался» из обрывков бесед с людьми с ним изредка дело имеющими. Он – человек, что называется без соплей. Например, говорили, что когда-то его дед слыл самым удачливым охотником Пензенской губернии. За это (вернее за сохранность народного добра) Ленин наградил его ружьем и долго поил морковным чаем.
Многим позже, говорят, дед частенько брал с собой на охоту и Валерия. Своего первого волка тот убил, когда ему было 11 лет. Однажды ему пришлось лезть в нору, где скулили волчата, и еще неизвестно было, сдохла ли раненая волчица, забившаяся в логово.
После смерти деда волков на поволжских землях прибавилось. Несмотря на то, что их били с кукурузников, со снегоходов, устраивали облавы, год от года повышали премии, волки резали скотину, кидались на людей. В один год стая враз уложила более двухсот овец на одной из ферм Нижегородской области. Люди требовали отмщения. Из близлежащих районов были вызваны лучшие волчатники. Больше двух недель длилась облава, но стая, как провалилась, будто в другое измерение ушла.
И тут решили вызвать «опытного волчатника» по фамилии Фокин, о котором все слышали, но мало кто видел в глаза. Ждали седого старца, а приехал лихой парень двадцати лет. И уже вечером первый волк, оскалив клыки в последний раз, лежал на снегу.
Удачливость Фокина порождала легенды. Рассказывали, что он помнит без карт все логова, которые якобы завещал ему Яков. И еще городили, что Фокин даже знает «слово», которым привораживает зверей. Смешно.
— Укажи ему волчий след, — затаенно вещали старые егеря, — он будет идти по нему два, три, пять дней, пока волк не упадет от изнеможения, и тогда он возьмет его голыми руками.
На то, впрочем, есть подтверждения из уст человека безмерно чтимого и уважаемого.
Шел как-то Фокин по следам волка несколько дней. Всю ночь они подвывали друг другу. И только под утро охотника одолел сон.
Очнулся он оттого, что кто-то трепал его кирзовый сапог. Фокин открыл глаза и увидел перед собой любознательную морду зверя. Мгновение они смотрели друг на друга. Волк отскочил в сторону и скрылся в осиннике. Охотник тогда даже не успел вскинуть свою покоцанную СВТ, которая служит ему уже около полувека.
Сколько волков уложил за свою жизнь, он и сам толком не знает. Сколько дорог за спиной, сколько сапог истоптано? Кажется, он изучил волчью натуру от и до, и сам умеет подвывать («вабить») так, что живому человеку лучше и не слышать. Но каждый раз что-нибудь новое.
Как только мелкие осенние дождики начинают зачеркивать пейзаж в окне, он укладывает в рюкзак харчей на неделю, и уходит в леса. И никто не знает, вернется ли. Сотни раз охотник и волк менялись ролями. Но ни разу у него не было мысли бросить все к чертовой матери. Охота на волков — уже сорок с лишним лет этакая его злокачественная опухоль. Глупо было бы полагать, что дело в дебильной жажде убийства, в привычке. У них какие-то свои безбожно запутанные отношения.
Из глушителя автобуса пару раз выстрелило, он зажужжал как губы мальчика, представившего явственно, что катит он в настоящем автомобиле — «бзиии» — натужно забрался в горку. Мы пересекли шоссе и двинули по едва проглядываемой, отмеченной воткнутыми стоймя ветками дороге. Теплый, прям парной, снег валил за воротник. Часа через полтора показалась деревня. Мы стукнули в мерзлое окно. Нам открыли. На крыльце, кутаясь в шаль, стояла сутулая бабка.
— Ой, Полька, спрыгивай скорей, гости к нам, — сказала она свесившей ноги с печи старухе. – Тока не рассыпься.
Баба Аня, отворившая нам дверь, оказалась женщиной, о которой в 80-х узнал весь мир. Наверное, даже не в сотый, а в тысячный раз уточняет она мне детали той далекой зимы, когда на нее напал волк. И немножко смущается, отмалчивается и грустит, потому что устала. От этой истории. Как будто ничего более достойного в ее жизни не было, что ли? В этом ее предназначение, выходит, на земле? И все приезжают, и все спрашивают. А ей отказать неудобно, люди же.
Всю жизнь Антонина Грошева работала в колхозе трактористкой. А зимой — скотницей.
В один из декабрьских вечеров, когда она возвращалась домой с фермы, кто-то сзади толкнул ее в ногу. Собаки по той тропе бегали часто, поэтому она не обратила на это никакого внимания. Толчок повторился и, оглянувшись, женщина увидела зверя. Прежде, чем она сообразила, что перед ней волк, матерый повалил ее на снег и вонзил зубы в подбородок, пытаясь стащить шаль, чтоб добраться до горла. Разжимая голыми руками его челюсть, баба Аня правой рукой вдруг попала глубоко в пасть, и случайно захватила язык. Волк присел и ослаб. И хотя руку пронзили зубы, она ее не разжимала. Волк даже не пытался сопротивляться. Так она тихими шажками и вела его с криками о помощи. Но никто не откликнулся.
Она довела зверя до крыльца, нащупала впотьмах «запирку» и что было мочи стала лупить его по спине и голове. Ноги у волка подкосились. Через некоторое время прибежали люди. Волк до утра так и лежал во дворе. Когда местный ветеринар его взвесил, зверь потянул на пятьдесят с лишним кило.
Вскоре об этой истории услышал корреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков. Списался с Антониной Семеновной и рассказал об этом случае на страницах газеты. После этого почтальон каждый день приносил женщине вороха писем. Откуда только не писали: из Австрии, Норвегии, Германии. Несколько лет назад привозил сюда Фокин и Пескова, с которым Антонина Семеновна до этого была знакома заочно.
Они подарили ей телевизор.
-Кажет хорошо, чисто, — словно отчитывалась она. – Сериалы с Полькой глядим про красиву жизнь. Ага. Так что помирать пока погодим.
Сжевав по куску капустного пирога с чаем, мы уходим прояснить обстановку у местного егеря. На прощание я жму Антонине Семеновне руку. Ту самую.
У егеря Николая Медянкина лицо с утра, словно сделанное из папье-маше. Луженый гвардейский голос.
– Знал бы что приедете, петуха б зарубил. Достала эта гречка с тушенкой. А эт не ты в кино про ментов бандита одного играл? – зыркнул он на меня.
— Не, не я.
— Морда больно похожа.
И без перехода Фокину:
— Иваныч, че те сказать? У меня лосиху беременную на прошлой неделе угандошили. Прям у прикормки загнали в овражек, где снега побольше. У Петра Валуева трех кабанов. У фермера Крылова 41 овечью башку обескровили. А твоего, Сергеич звонил, за Рябкой видели, но, может, и не он, паскуда. Надо у Вована бобыля спросить.
— Что значит твоего? – встрял я.
— Эт вообще кто? – отогнал ладонью дым от глаз егерь. — Аааа. Из Маасквы. Привет, Маасква, я не вижу ваших рук. Ну, и не говори тогда, сглазит еще. А обличия твоя, правда, больно знакома. Короче, я с вами пойду.
Потом уже, когда топили баню, когда носили воду из реки, когда парились в одинаковых оливковых шапках, нареченных кем-то «пидорками», егерь отмяк в разговорах. Хотя тон оставался прежним, будто кол проглотил, а командовать парадом надо. Фокин с нами в баню не идет, вяжет узелки какие-то.
— А что значит, «твой» волк? — опять повторил я.
— А. В прошлом году Валерий Иваныч, по увещеваниям одного фермера, выследил двух матерых. Они у того фермера трех телят двухмесячных и даже собаку прикончили. Волчицу он убил. А матерый в нижегородскую тайгу на лето уходил.К осени опять наведался. Фермеры забашляли Иванычу, но он деньги вернул. Сказал, когда доделаю, тогда поговорим.Однако, принцип. Всю зиму его выслеживает. А тот как будто изгаляется. Я сам видел, как в лыжне Иваныча вот такие следы оставил нарочно. На прошлой неделе из заброшенной деревни одной чувак звонил, он там один зимует. Говорят, трется у околицы. Свиней, что ли, чует. Вова там в дозоре ночами.
Метель не унималась, а значит, следов к утру не сыскать. Да и черт бы с ними. Но Фокин мрачен. Хотя по нему никогда не догадаться – радуется он или кручинится. На лыжах за семнадцать километров мы тащимся проверить слух. С холма на холм. В лесу, как в храме, — торжественно. Только блаженно задумаешься об этом, начнешь подыскивать красивое слово – хрясть еловой веткой по мордасам.
Деревня Пшенино завалена шикарными сугробами. С северной, ветреной стороны можно подниматься на крыши прямо обутым в лыжи и сигать оттуда. На фронтонах многих двускаток удивительные наличники. Под углом к верхушке, к месту, называемому коньком, летят два полых, вырезанных в доске, самолетика. Судя по рыхлости ничем не защищенных досок, лет уже пятьдесят так летят.
— Я тут до армии шоферил, — бубнит егерь Медянкин. – Ухарский был колхозец, небедный, торф добывали для родины, образовывались озера. В них каждую весну лебеди прилетали.
Под вой обезумевших от чужих звуков и запахов собак, единственный житель деревни Вова встречает нас на крыльце с приклеенной к губе «Примой». Поверх тельника — фуфайка. В деревне легко распознавать времена года – если «тужурка» застегнута – значит – зима. Распахнута – лето на дворе. Вова аккуратно подстрижен, и носит удивительной синевы глаза. Он не удивляется нам.
Мы долго вытряхиваем снег из складок одежды и проходим в его жилище. В интерьере как будто даже наблюдается присутствие женщины, полы вымыты, застелены ткаными половиками, на койках шерстяные одеяла с лошадьми. Цветомузыка из тракторных фар по потолку, массивный радиоприемник на волне радио «Звезда», пионерский горн, барабан, баян в чехле.
Фокин, расспросив его о чем-то в горнице, тут же облачается в маскхалат, собирает ружье и быстро уходит. Мы греем ладони об треснутые бокалы без ручек, сидим, разомлевшие. Медянкин на стуле засыпает. По радио вперемешку с его храпом читают рассказ Брэдбери.
— Как же вы тут один живете? – задаю я идиотский вопрос. — Я, конечно и сам не прочь вот так вдалеке покуковать, ну, пять дней, пусть месяц. Потом же волком завоешь.
— Через две недели перестаешь, — кидает он бычок на шесток печки.
— В смысле?
— Ну, выть… говорю, перестаешь, — улыбается он. И глаза такие лучистые, как у сектанта.
Фокин ночевать не вернулся. Я, было, даже как-то забеспокоился. Но Вова говорит, Иваныч в лесу как в пятизвездочном отеле, ниче с ним не будет.
Часов в шесть утра мы с егерем тоже посеменили на делянку, преодолели выгнутую, как тарелка, реку. Кое-где незамерзающие с итальянским женским говорком ручьи были запружены бобриными хатами. Ольха, упавшая на другой берег была заточена как гигантский простой карандаш.
Вспугнули с ночевки двух тетеревов, но стрелять не стали. Тихо так было, темно еще совсем, мягко проступали верхушки снежных елок. Дрожал на снегу желтый кружочек от нашего фонарика. Остановились попить чаю из термоса.
Медянкин говорит:
— Ты, наверно, думаешь, что Вова раздолбай.
— Это трудно.
— Че?
— Думать в такой холод.
— А. Его сюда Иваныч приволок.
— Зачем?
— Ну, вроде как спас. Но это все — слова. Фуфловые, не очень подходящие, что ли. Короче, Вова служил майором где-то под Оренбургом. И все хорошо. А потом накатило, жена с детьми угодила в аварию, и кранты. Через год где-то одна шмара ему так башку заморочила, крышу снесло, а сама организмом с некоторыми еще дружила. Он узнал, сдуру херни какой-то выпил, страдал, короче не по-детски прям. Хотя мужик бывалый. Но все ж откачали. И вот Иваныч приперся к нему в палату с ружьем (они с детства вместе росли), говорит, давай дам тебе два патрона «пятерки», ты пойдешь и прострелишь ей обе коленки. А потом, если она тебе так нужна, будешь всю жизнь на шее носить.
— Прострелил?
— Сюда приехал. Пенсию военную получает и тратит ее всю летом на пацанов, которых один чувак –тренер привозит на лето. Они тут лагерь организуют палаточный, походы всякие, тренировки по мордовской борьбе. Так что, вот.
Мы прошли еще несколько отрогов. Когда на востоке ветерок стал раздувать, уголечки нового дня, вдалеке послышался звук, показалось — воют. Медянкин сложил лодочкой пятерни и заголосил, протяжно, немного лажая, с хрипотцой. И тут из-за елей, по насыпи, вылетел с ревом тепловоз, земля задрожала, все заволокло снежной пылью, и мы захлебнулись, обмерли, слизнули с губ растаявшее.
— Еб.ть, — только и вымолвил он. Восхищался потом всю обратную дорогу.
– А Иваныч говорит, что у меня нихрена «вабить» не получается. Вон, шеститонник и то купился.
Когда мы вернулись, Фокин сидел на кровати и распаковывал рюкзак. Он собирался здесь задержаться еще на некоторое время.
А Медянкин все никак не мог успокоиться, рассказывал и рассказывал, как он «на вабу» вызвал целый поезд. Даже не поезд, а товарняк. Все улыбались, и было хорошо от того, что пока никого не убили, что топится печь, а профессор Беляев по телевизору обещает назавтра еще порцию тихого обильного снега.

У КРАЯ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ
Доктор наук, астрофизик Николай Тихонов производит впечатление двужильного человека. Он как будто не спит никогда. По ночам на пятом этаже лабораторного корпуса специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, затерянной в буковых рощах Зеленчукского района, тлеет желтый огонек, это Тихонов с помощью Большого азимутального телескопа, что на вершине горы Семиродная, наблюдает за жизнью ближних галактик.
Галактики ведут себя смирно. Ну раз, может, два в год, они сдуру закружатся в космическом танце, переплетутся эфемерными станами и зачастят вспышки, словно репортеры Господа Бога заглянули на осенний бал Вселенной. Осведомленные люди знают, что никакие это не фотовспышки, это взрываются вызревшие звезды, вернее, взорвались-то они давно, до нас этот свет дошел только-только.
Во времена холодной войны, спутники-шпионы с той и другой стороны были оснащены счетчиками Гейгера. Они фиксировали эти просветления и колебания радиации, как испытания потенциального противника. Точили друг на друга ядерный зуб. Хорошо, что астрономы все вовремя разъяснили.
Когда в 60-е годы советские ученые задумали на одной из вершин Большого Кавказского хребта (2100 метров над уровнем моря), строить самый внушительный во всей Евразии телескоп, их зарубежные коллеги ехидно ерничали. У русских есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который ни по кому не звонит, теперь будет Царь-телескоп, исполняющий сходные функции.
Но кто не знает, как мы умеем браться за дело?! Особенно если с точки зрения логики оно явно выглядит бредом. И началось. Конструкции телескопа были изготовлены на Ленинградском оптико-механическом объединении. Главное зеркало делалось на Лыткаринском заводе оптического стекла. И никакого Цейса. Решено было сделать три заготовки-болванки, каждая из которых весила 70 тонн. При диаметре в 6 с лишним метров. Первую охлаждали девять месяцев, однако при такой «скорости» изменения температур, заготовка лопнула, как яичная скорлупа. Вторую охлаждали гораздо медленней — 0,03 градуса в час. Для ее полного охлаждения ушло 2 года и 19 дней. А для того чтоб еще потом и обработать микронным слоем алюминия, потребовалось еще 16,5 месяца и 15 000 карат алмазного инструмента.
До Волгограда зеркало везли по великой русской реке, затем погрузили на специальный трейлер. Некоторые дороги в Карачаево-Черкесии пришлось специально расширять для этого. Затем, чтобы установить технические условия перевозки (скорость на ровных участках, на подъемах и т. д.), по пути всего следования провезли специальный груз-имитатор. Каждый километр горного серпантина от поселка Нижний Архыз (Буково) (где уже выстроили к тому времени по проектам грузинских архитекторов шестиэтажные чудо-дома) обошелся казне в миллион советских рублей.
После водружения зеркала на телескоп выяснилось вдруг, что оно все же где-то получило дефект. Пришлось вытаскивать из закромов третью заготовку. В 1975 году 850-тонный телескоп впервые открыл забрало и, как в дверной глазок, всмотрелся в небо. Ученые, работающие на нем, действительно совершили сотни открытий, тогда это был, без дураков, прорыв в астрономии. Прошло 36 лет.
В 90-е годы многие светлые головы подались в Канаду, Америку, Африку. Некоторые потом вернулись, не в силах преодолеть, как формулируют они сами, гравитацию здешних мест.
Но даже в самые дикие времена финансирование обсерватории не затухало. Зеркало раз в 3—5 лет удавалось промыть. Сегодня директору САО РАН Юрию Балеге на всевозможные отчисления и гранты удается лишь содержать в удивительном, почти коммунистическом порядке поселок. На большие проекты денег не остается. А телескоп слепнет, он уже потерял почти пятьдесят процентов зрения. Директор писал президенту, потом олигархам, просил денег и обещал назвать их именем звезду. Ответа не получил. Но и нюни не развесил.
— Три с половиной миллиарда лет еще есть у человека, чтоб научиться любить и уважать друг друга, — шутит он, как хирург.
— Почему три с половиной?
— Потом Солнце поглотит Землю, и мы станем очередной сверхновой звездой. Если, конечно, до этого сами себя не укокошим.
Поутру Тихонов гасит свет и надоевшего комара. Он пришибает его папкой с графиками и расчетами. Приплюснутый комар похож на звезду. Потом он неспешно идет домой, там умывается минеральной водой Архыз в ванной из крана (просто другая тут не течет), жарит яичницу и кидает в рюкзак навигатор. У порога прихватывает ледоруб или лыжную палку (в зависимости от сезона). Вот уже несколько десятков лет астроном и альпинист Тихонов ежедневно отправляется в горы на поиски следов древних аланов и скифов, обитавших когда-то в окрестных ущельях.
Если идти от поселка по правому берегу горной реки Зеленчук, то где-то через километр непременно упрешься в старый щитовой домик с неработающим шлагбаумом. Надпись на столбике сообщит, что это памятник-городище аланской культуры. Рядом с домиком мотоцикл ИЖ-5 с коляской, сооруженной из досок, и телега без лошади. К горбылю привязан за ногу живой орел. Орел пучит глаза на прохожих.
— Гоша, оп, — кричит хозяин, сидящий на крыльце в шерстяных носках.
Гоша с ненавистью расправляет крылья, становясь, по утверждению хозяина, похожим на рубль. Туристы фотографируются на фоне и в жестяную баночку с надписью «Птичке на мясо» кидают монетки. Судя по одутловатому лицу хозяина, птичке оплачивают лишь половину ставки.
Следы аланского городища еще можно прочесть в жужжащих шмелями травах по остаткам каменных фундаментов, по двум трехметровым идолам с человеческими лицами, по лабиринту, напоминающему не то причудливые амбары, не то британский Стоунхендж. По мнению Тихонова, это и вправду солнечный календарь. Древняя обсерватория. Но как эта каменная штуковина действовала, ни он, ни другие ученые мужи толком не ведают.
Единственные строения, что уцелели от гордых аланов, — это храмы. Их три. Историю этих мест по их стенам можно изучать на уровне почти хрестоматийном. В самом большом, кафедральном, в 916 году константинопольский патриарх Николай Мистик обращал в массовое крещение люд Западной Алании. Пришедший сюда через триста лет Тамерлан превратил город в руины, но храмы не тронул. В опустевших церквях горцы держали овец. Православные монахи, шедшие за русскими завоевателями Кавказа, выгнали горцев, овец, а спустя время уже другая власть переоборудовала все под колхозные склады. Все, как и везде, разве что тюрьмы не было. В новые времена церкви усердно отреставрировали, стены X века укрыли новомодной дурацкой металлочерепицей.
Первые исследователи города еще до реставрации обнаружили в одном из храмов остатки фрески с греческой надписью: Святой Николай покровитель Аспе. Тихонов логически предположил, что, возможно, так и назывался город. Ревностные историки фундаменталиста отшили, подняли на смех, поведав, что город с таким названием давно уже есть, он находится на просторах Испании.
Астроном не обиделся. Напротив, улыбнулся. Во-первых, это ничего не меняет. А во-вторых, на его век открытий и всевозможных находок хватит. И в соседних галактиках, и в этой.
— Мир каждый божий день подсовывает нам столько возможностей, — говорит Тихонов, — достаточно просто повнимательнее смотреть под ноги.
Вот он и берет лыжную палку, кидает в рюкзак термос с травяным чаем, навигатор — дожди и вешние воды, вымывающие из горных пород артефакты, ему в помощь. Минувшей зимой ему прямо-таки повезло. Астроном обнаружил в горах то, что поразило его в самое сердце. Не одну сотню лет под носом у людей — пастухов, путешественников, бродяг — маячили наскальные рисунки. И это в 60 км от поселка и в 10 от города Усть-Джигута. Но никто, говорит Тихонов, не чухнулся.
— Да я и сам, признаться, про это случайно узнал. Бродил по тем окрестностям, присел чайку попить. По дороге пацаны едут на лошадях, спорят. Что-то вроде: да не, у оленя прямо из башки дерево растет. А этот с копьем, я в книжке таких видел. Ну, я прислушался, спросил, что за рисунки и где. Всю ночь про них думал, а чуть свет с лаборантом Галиной Геннадьевной Коротковой посетили те места и встали как вкопанные. Потом три дня ездили, ждали солнца, Галя забиралась мне на плечи и снимала.
Мы тоже хотим поглядеть на находку, упрашиваем. На следующий день он с Галиной Коротковой поджидает нас у корпуса на своем авто «УАЗ-Патриот». когда едем несколько раз в прорехах между гор открывается взору гигантское белое облако. Это мы думаем, что облако. Оказывается, просто гора. Эльбрус.
Бросив машину перед размытым ручьями проселком, мы шагаем Тихонову в спину. Ботинки наши тут же набирают в подошвы красной глины и напоминают индейские снегоступы. Пейзаж делается похожим на мексиканские прерии. Провожатый наш чешет со сноровкой руководителя охоты из какого-нибудь племени ичола. От рубах поднимается дымок. Галина тоже не лыком шита. Имеет приличную пешую подготовку. Помимо основной работы, так же шастает по горам, занимается танцем живота и кикбоксингом.
По кромке отвесного скального обрыва тянутся усохшие когда-то сучковатые чалы. Внизу далеко шумит река. Потом река берет влево, и перед нами открывается долина, вся в разнотравье.
— Дальше надо наверх, — командует Тихонов. — А то впереди собаки.
— Рисунки охраняют?
— Да не. Ферму.
К кудрявым горам вплотную подступают скалы, мы карабкаемся по зеленке, дышим. За одним из поворотов внизу открывается длинное кирпичное здание фермы, трактор и лохматые сторожевые псы, размером с телка, разгуливающие вольно. Сначала, увидев, они кидаются к нам, но, преодолев гору до половины, залениваются, двигают с ворчанием вниз.
— Вот, — говорит Тихонов. — Правда, надо маленько подождать, когда солнце перейдет. Южный склон, тень от скалы мешает, не разглядеть. Мы всматриваемся — и правда, скала как скала, стесанная, ровная.
— Долго ждать? — спрашивает фотограф.
— Считайте. Скорость солнца сейчас пять сантиметров в минуту.
Присаживаемся на холодненький валун. Шмыгает в расщелину гадюка, Тихонов степенно провожает ее взглядом.
— Ручей, что свернул влево, — говорит он, — выносил и выносит к своему пологому устью желваки халцедона, которые дают острые отщепы, не менее прочные, чем кремень. Да и кремень тут, судя по всему, добывали.
— А почему никто не исследовал эти места? — интересуюсь я.
— Почему не исследовали, — астрофизик тыльной стороной ладони отирает крупные капли со лба. — Эта балка под кодовым названием Учкурка известна археологам и геологам давно. Например, экспедиция Биджиева определила, что некоторые курганы относятся ко времени майкопской культуры, а другие примерно ко II тысячелетию до нашей эры. По-видимому, именно обилие халцедона, из которого делали каменные орудия, и привлекало людей бронзового века в эти места. Биджиев же выяснил, что тут бывали и представители сарматов, в общем, напластовано всего в этих землях так напластовано. А почему никто не описал петроглифы, я и сам, честно говоря, не знаю. Место больно для прогулок тут неудобное.
Тень от скалы постепенно уходит, солнце поворачивается к нам лицом, и на скале медленно, как через метель, проступают олени. Потом еще и еще. Петроглифы располагаются на высоте около трех метров. Чтобы разглядеть их, приходится вставать на цыпочки. Многие изображения мутные, точно припорошенные песком. Тихонов объясняет, это из-за «пустынного загара».
— Как это?
— Ну, под этим термином понимается потемнение от времени и солнца свежих сколов скал, в том числе и прочерченных линий. Здесь вот кроме древних изображений на некоторых петроглифах присутствуют и современные художества. Особенно обидно, когда «улучшают рисунок» по уже существующим линиям. Это все равно, что черные копатели, шли с металлоискателем, зазвенело, и они, плюнув на предшествующие слои, а стало быть, и культуры, просто извлекают цацку. Зато вон там видите, надпись? Женя плюс Оля — навек. 1936 год. Линии ни капельки не потемнели, — радуется ученый. — Это значит, что за 75 лет прочерченные линии загаром не покрываются. А уже это, в свою очередь, значит, что едва проступающие рисунки, они очень и очень древние.
Сквозным сюжетом во всех петроглифах на этой скале являются олени. Чаще всего одиночные самцы. Иногда встречаются и ланки, но с их рисованием обычно не заморачивались. Видно, просто не стреляли, берегли для потомства. Оленьи рога древние художники изображали в трех стилях. В первом случае (Тихонов называет его фантастическим) рога показаны в виде одного ствола с несколькими боковыми отростками.
— Можно подумать, — говорит он, — что автор никогда не видел оленей. Но совершенно такие же рога изображены на петроглифах Дагестана и на золотой рукояти топорика из Келермесского кургана № 1. Во втором стиле рога изображаются двумя вертикальными стволами с боковыми отростками. Подобные изображения можно встретить на бронзовых изделиях кобанской культуры. Олени с рогами первых двух стилей часто изображались рядом и могли быть нарисованы примерно в одно время, ну с разбросом в столетие. В третьем — рога откинуты назад и доходят до хвоста животного. Этот почерк напоминает скифский.
Сцены из охоты на яка — сюжет самый, пожалуй, композиционно выверенный. Семь собак окружили быка. Охотник протягивает руки, может, лассо набрасывает, может, «ату» орет. Стреляющий лучник. Двое, возможно, он и она, взявшиеся за руки. Из-за скола скалы одна фигура фрагментарна. Сады с яблонями, солярные знаки, квадратики с точками. То ли в дурака резались, а потом отмечали, то ли в буру. Мы шествуем по выступу скалы, как по галерее, справа налево.
— Можно вычленить некую закономерность, — говорит Тихонов. — Если видны современные рисунки, то на этом же участке есть и древние петроглифы. Давно замечено странное стремление людей, даже в древности, выбирать для рисунков одну и ту же скалу, игнорируя стоящие рядом, совершенно пустые. Объясняется это простым бессознательным инстинктом обозначить именно свое присутствие, пометить территорию своими знаками. Аналогично поступают многие животные.
— И что же дальше? Как определить возраст нетронутых петроглифов?
— А вот это самая трудная и не поддающаяся проверке процедура. Нам неизвестны толком даже поселения, где жили эти художники. Поэтому мы можем только сличать их с похожими из других регионов. Или упражняться в догадках. Вот смотрите, с одной стороны балка заходит в тупик. Возможно, здесь во времена бронзового века и позднее просто охотились. Загоняли диких животных в этот тупик и добивали. А может, и нет. Только раскопки слой за слоем могут более или менее точно прояснить ситуацию.
— И?
— Ну, во-первых, мы не археологи, и у нас нет «отрытого листа», дозволяющего эти раскопки проводить.
— А во-вторых, — вступает в разговор Галина Геннадьевна, — карачаевцы, мягко говоря, не очень хотят прояснять ситуацию. Кто, как и что.
— Почему?
— Ну, они безоговорочно и безапелляционно назначили себя потомками древних аланов. Мол, вон с каких времен тут живем. А вдруг выяснится, что это не так.
— Тогда зачем вам-то все это надо?
— Наша задача забросить удочку, рассказать (нынешней осенью Тихонов собирается с докладом об этих петроглифах на конференцию. — Прим. авт.). Вот смотришь телевизор, — продолжает он, — и возникает твердое убеждение, что люди сегодня живут так, будто лично с них все и началось. Ты можешь, конечно, купить себе четыре айфона, гнуть пальцы и сколько угодно себя называть звездой намбер уан. Но земля и небо выталкивают из себя осколки, которые напоминают нам о той многолетней войне, когда человек методом проб и ошибок вычленял из какофонии ноты, а из бардака — что такое хорошо и что такое плохо. Без знания этого «вчера» ты не сможешь моделировать свое «завтра». Или будешь снова наступать на тот же сельхозинструмент.
Вернувшись в поселок, мы идем в местный музей в здании бывшего детского сада. Сюда Тихонов, Короткова и многие другие просто приносят обнаруженные артефакты. И тут второй раз за день у нас сносит башку от увиденного. Такого обилия аланских вещей нет нигде в мире. Совершенно целый, даже с тетивой лук, утварь, предметы быта. Золото, серебро, медь, камни, шелк.
— Да, музей хороший, — говорит смотрительница Татьяна. — Мы выходили на Москву, хотим, чтоб кто-то взял нас под крыло.
— Не, — сказали мы тихо и хором. — Лучше не надо, да, — почему-то прорезался в нашей манере общения кавказский тон.
Живую, дышащую экспозицию музея начал лет двадцать назад собирать еще местный путешественник, альпинист и краевед, помешанный на здешних горах, Сергей Варченко. Пять лет назад его не стало. На похороны приехали соратники из других городов и даже из-за морей. Они ходили по музею, цокали языками, а потом вдруг из подвальной мастерской Варченко, где мыши летучие вниз головой, пропала мумия крохотного ребенка, некоторая утварь из самого музея. Но сотрудники и сами астрономы об этом никогда не расскажут. Они лучше еще найдут.
К вечеру на поселок и городище обрушился шумный ливень. И так же стремительно прошел. Горы курились влажным туманом. У домика сторожа, отряхнувшись, задремал Гоша. В кабинете Тихонова загорелось желтым окно. Над кустами стриженой акации тяжело поднялся одинокий жук-светлячок. Он летал по округе, мигая, как спутник, и кого-то будто искал и искал.
У ОЗЕРА
Первую после зимы ночь в деревне мы проводили всегда под небом. Такая традиция.
Дед Куторкин дивился постоянству:
— Ну, надо же. И по хрену мороз?
— Степаныч, тот случай, когда совершенно.
Бабушка, само собой, знала, что — да, история никогда и никого ничему не учит, хорошее забывается, а человек с годами становится, как правило, лишь паскуднее. Потому что, подверженный болезням и лени, гордыни и страстям, он все больше и больше скатывается в компромиссы. Не забываются для душ (тем более, детских) только вот такие весенние ночи на берегу реки или озера.
Иногда они даже определяют жизненный вектор движения.
Днем мы драили полы, устилали их цветными половиками, топили сразу и голландку, и печь.
И вот дом, изба начинали медленно оживать, потрескивать в углах и отдавать запахи. Слой за слоем.
Строению к тому времени было лет двести. Крепкий, с неразборчивым клеймом на бордовых кирпичах, дом все время подсовывал какие-то приветы из прошлого. То коробку, изнутри обитую синим бархатом, с пазами для перьевых ручек, то грамоту «Победителю скачек», выданную в 1912 прадеду в Москве. Мы найдем ее когда отвалится от промерзшей стены пласт обоев, а грамота — нет.
Бабушка велит мне зажечь, висящую в углу на цепочке, лампаду. Там, на полке, дешевые иконы в серебристой фольге. И только две на досках. На левой, ближней к окну, что-то явно не так. Образ представляет изображение Иисуса Христа, который держит лицом к зрителю раскрытую рукописную книгу. Раньше я лазил туда, пытался прочитать, но было «не по-нашему». А теперь страницы в той книге как будто заканчивались, иссякали.
Дед Куторкин пришел к нам с баранками, уселся и давай наливаться чаем.
Бабушка всегда предпочитала цедить из блюдца, сдувая с поверхности легкое дыханье.
Я сказал им о книге и все туда посмотрели, задрав головы, как на страшную птицу.
— А и кончится скоро, — прожевав, подтвердил дед, взял еще крендель, посмотрел на свет в дырочку, как будто там была линза. — Ничо удивительного. Кино к концу. Две тыщи лет Он дает нам дуракам шанс. А мы его с удовольствием профукиваем.
Бабушка закашлялась.
— Ты прям как Фарада.
Перекрестилась:
— Прости мою душу грешную.
— Не Фарада, а Фарадей. Но он тут ни при чем. И потом — я лучше. Во всяком случае, проворней на данный момент..
— Чеканутый ты. И Бога не боишься.
— Боюсь, — как-то по-детски, честно сказал Куторкин. — Хорохорюсь просто. Дуркую. Но я не один. Мир рушится, а мы выпендриваемся. Нервное это все.
К вечеру мы опять с рюкзаками. Хотя до уютной полянки в тополях под кодовым названием «где Федя зоотехник об бОшку агроному гитару разбил» всего –ничего.
Бабушка научила меня укладывать рюкзак так, чтобы можно было протопать с ним полпланеты. И не устать. Чтобы ничего не впивалось в бока и спину, а все нужное помещалось. С тех пор мешок на плечах — это сладкое такое волнение перед дорогой. Колебание: может, не ехать? И еще рюкзак — это как будто кто-то любимый обнял на пороге, когда ты уходил, перекрестил в спину.
К этому времени бабушка уже смоталась в соседнюю деревню за козой, а по дороге разругалась с ней, бестолочью, вдрызг. Коза строила из себя жертву произвола и потенциального клиента гринписа, всюду ходила за нами, оглашала окрестности так противненько, нудненько, что словила по сусалам и была заперта в хлев.
В тополях имелся стол, вкопанные скамейки. Мы разбили лагерь. Установили палатку, разнесли два костра. Дед Куторкин, засунутый в тулуп, принес в ведре уже чищенных окуней. И принялся варить уху.
Посередке стола керосиновая лампа, а у меня в кармане немного ржавый фонарик с квадратной большой батарейкой.
Они говорили о деревне, которой уже давно не было и больше не будет никогда. О бабушкиной свекрови, хитрой мелкопоместной дворянке, якобы закопавшей в подполе с приходом советской власти несколько кувшинов с золотом. Но свекровь ее (а для меня прабабка) была шита отнюдь не лыком, и, скорее всего, про подпол наврала, запутала. Несколько ушлых родственников тыкали мертвую землю вилами, а кто и оружейным штыком. Находили разбитые черепки и спрессованное прошедшее время. Затем перешли к бабушкиным мытарствам по Ленинградской области, где она была в войну санитаркой. Упомянули местного председателя Дарькина, который внешне ну вылитый был Маяковский, а в жизни оказался скотом. Во время той же войны он нарочно прострелил из дробовика себе ногу, и остался тут председателем над бабами. Изгалялся и куражился над ними
А потом все ели уху, отдуваясь от пара.
А потом земля пахла подшивками журналов «Сделай сам», отсыревших на чердаке.
И такая стояла тишина, которую в следующий раз дед Куторкин предполагал услышать разве только в гробу.
Еще немного пообщавшись, мы спустимся к самому озеру, стынью понесет от воды. Наша с дедом льдина будет чинно припаркована в кустах на другом берегу. Бабушка посветит, а я за веревку буду по очереди вытаскивать экраны или как они их звали телевизоры, такие сетки — метр на метр, палка снизу с железными болтами (вместо груза), палка сверху без всего (то поплавок). Удивленные караси бьются и трепыхаются в ячейках, некоторые даже чавкают. Руки мои дрожат, сердце колотится и пара штук (как водится, самых больших) выскакивают и, танцуя по мерзлым прошлогодним листьям, плюхаются обратно в талое озеро. Но досады нет. Есть ощущение зыбкого сна.
Где-то вдалеке небо прошьет метеор.
А к утру в варежки и шарфы туман укутает деревню. У заброшенной избы затрещат кусты бузины, и дед Куторкин подскочит, всполошится.
— Эй, не видал моих лошадей! — скажет громко, но, впрочем, осторожно.
Ему не ответят. Треск приблизится. Дед сунет руку во внутренний карман тулупа, будто ухватится за сердце, на самом же деле даст кому-то понять, что там у него не иначе как маузер или наган.
Но кому? Туман войлочный.
Движенье в кустах прекратится, а дед ломанется туда в обход.
— Майор, — закричит он, — слышь, майор, без моей команды не стрелять.
Я подпрыгну на скамейке, бабушка затушит лампу и улыбнется.
Будет слышно, как дед словно порвет грубую бумагу, это он рухнет в лужу, из которой морозец выкачал почти всю воду и превратил в лед. Минут через пять он вернется возбужденный, с ярым блеском в глазах:
— Лось, товарищи. Гад буду, лось.
И отхлебнет из алюминиевой кружки остывший чай.
— Я где-то читал, что любят они вот так на дым выходить. Папиросным не гнушаются также. Таким образом, ноздри от всяких паразитов прочищают. Пальцев-то нет, одни копыта, козявку не подцепишь.
В тот самый момент из тумана на нас вывалилось нечто. Нечто дышало тяжело. Сомнений не было: перед нами некое животное. Приглядевшись, мы узрели козу.
Бабушка смеялась, закатываясь тоненько. На голове у скотины был обыкновенный ящик, между реек которого сопел ее козий рот. Рейки сковали его движенье. Коза напоминала рыцаря в кованом шлемаке с опущенным забралом.
Видимо, когда мы ушли к озеру, она вырвалась из хлева через двор. По пути встретила стопку пустых ящиков, что пахли яблоком. Будучи существом нервным и любопытным, коза встала на задние ноги, как человек, решила поглядеть: не завалилось ли хоть одно в щель? Не завалилось. Когда возвращалась в естественную позу на четвереньки, верхний ящик предательски оделся ей на рога. Она психанула, разбежалась и впечатала мнимого врага в стену, попала между реек, которые и связали ей речевой аппарат. Затем пошла на голос, но сырость, туман. Так и угодила в кусты. Когда старик стал кричать не бабушкиным голосом, коза зашухерилась.
Дед Куторкин был малость смущен, что принял банальную козью морду за благородную лосиную.
Он крутил колесико в приемнике VEF. Коза, двигая, челюстями в разные стороны, надменно щурила глаза и пожирала из бабушкиных рук яйцо вареное.
И вдруг зазвучал гимн. Советский. Дед замер. Гимн нарастал. И тут я увидел весь прошлый день и бессонную ночь, от которой становишься пьяным, словно бы сверху. Ручьи, заполненные солнцем, человека с конем под уздцы, икону, дымящий костер, карасей, плывущих куда-то в ведре, разговоры, звезды, настоянный на травах и талой воде туман. Мурашки нестроевым шагом промаршировали от пяток до макушки. Я так шумно и глубоко всхлипнул-вздохнул, что бабушка оглянулась.
Коза, прожевав, тоже воодушевилась, вроде как подпевала гимну.
Голос ее дрожал.

ветки яблонь на фоне вечернего неба
Мы ехали и вечернее солнце играло за обочиной в трехлитровых банках, стоящих у ног берез. Березы, будто тетки на рынке за бесценок отдавали свои слезы.
— Ну и зачем столько? – недоумевала мелкая. – Кто выпьет? Только болячек деревьям наделали.
И так много было в словах ее жалости к этому простору, быть может, чересчур правильного, навязанного когда-то взрослыми в формулировке: так надо.
А в голове моей все равно стучало: не зря все, блин. Не зря. И эти походы в лес, и сайты с жуками- богомолами- лисами. И полный портфель листьев, набранный по дороге из школы. И притаскивание в телефоне изображения старенькой велосипедной звездочки, которая вся в паутине «ну ты же любишь такое?»
В лесном прогале свернули с трассы, заглушили мотор. Дорога, вильнув, уходила в облако через поле. Барышня ринулась собирать на проселке дождевых червяков, которых так много после дневного дождя.
Проделывала в пашне для них дырочки и засовывала «иди домой, иди». И такой вокруг запах стоял земли и неба… Всхлип после плача – вот какой был в тот момент мир.
А вечером жгли в саду костер. Дым пьяненький, нагловатенький «ну, ладно, че ты» вился вокруг извилистых станов, зазывал фруктовые деревья на вальсы. Вышибал у старых вишен слезу. И ни одна груша ему не отказывала.
Мелкая поджигала кончик прута и махала им, высекала из воздуха хлесткое.
— Эх, и нравится мне вот такой звук!
Все дружно ругали ее: в глаз попадешь, за шиворот уронишь.
А она все равно.
Уже и угли осоловело подернулись, стали задремывать. А мы все сидели и сидели с теплыми лицами. Говорили. И в простых словах тех, которые, в общем-то, ни о чем, был и другой, вполне себе ясный посыл: как хорошо, что мы есть друг у друга. И как здорово жить на свете.
Вернулся с добычи скворец. Нырнул в дырку, разгрузился. Сел на ветку и стал думать, что он лягушачий хор. Потом поперхнулся, осекся, и немедленно вжился в роль удалого соловья.
Девятнадцать берез
Ездили мы, ездили тут на великах по карте лета. Отяжелевшие колосья ржи нам по кедам хлестали. Меж колеями — ромашки. Поля, как впервые забеременевшие жёны, испуганно прислушивались к себе. Не шевельнулось ли чего там внутри? Живёт ли?
А если дождик – две плащ-палатки между собой сцепим, посерёдке палку воткнем. Сидим, в карты режемся. Я, дурак, туза козырного всегда до последнего берегу.
После дождя вылезем – кони-радуги из далеких невидимых рек воду пьют. Молнии ушли далеко-далеко, в сливовых тучах видны только слабые всполохи. И начинают спектакль перепелки.
Ездили мы ездили, кунались в давно забытые запахи и явления. И как будто возвращались туда, где было только хорошее.
Такое например, когда катишь вечером по просёлку, и вдруг попадаешь в теплую область, как в остывающую баньку, как в душистый, набитый скошенной теплой травой мешок или облако. И можно в месте таком остановиться, опереться на раму задницей, постоять, поболтать.
А дороги подсовывают, выталкивают тебе после дождей то подкову кривенькую, то щеколду от чужих сеней, то свечу от ГАЗ-53, то медальку «За доблестный труд».
Ездили мы так ездили и решили навестить Егорыча – волшебного человека.
Егорыч – мущщина с распростёртыми объятьями. Когда за стол садится – кулаки как нечто от организма отдельное кладёт. Отмеченные глубокими шрамами на костяшках, кулаки эти сизые, словно обожравшиеся на элеваторе голуби.
Егорыч настоящий мордвин. Который ни в коем случае не туп, но твердолоб. Втемяшит чего себе под лобную кору – обязательно сделает. А потом уж только подумает: зачем?
Он из тех, кто всегда готов и к драке, и к нежности. Причём, с одного на другое переключаться не надо даже.
У Егорыча, шеститонный состав здоровья. В лютую стужу зачитается в сенях, бывает, в домашней котельной какой-нибудь книгой (очень жалует про Древнюю Грецию и такой же Рим) и совершенно трезвый может покинуть эти сени, и пойти в раздумьях в магазин за папиросками. Без ватника, фуфайки или как там у них говорят, душегрейки. И только в магазине спохватится нецензурно, когда продавец укажет.
Егорыч из поколения, чья молодость пришлась на 80-е. Он страшно хотел попасть в Афган.Ну чтоб, утверждает, дури поубавилось. А то в одиночку мог уделать целый клуб юношей в соседнем селе. Они на него со штакетинами от забора, а он на мотоцикле Иже 3-м, подъедет, газ сбросит и цитата «изящненько в рыло». Потом, говорит, заеду на ижаке том прям на сцену и сам себе си-си кэтч втыкаю. Тащусь, аж плачу. На мотоцикле всякие па танцую. Как участковый приедет и турнет — еду домой.
Дури после Афгана меньше не стало. Напротив. В плену был, бежал, легкое пробито. И теперь раз в год в репертуаре, как о нем говорят печника от бога, присутствует действо под названием «оглушительный запой».
Впрочем, печи он кладет зачастую в нерабочее от пилорамы время. Вечерами или в отпуске. В его блокнотике всё чётко расписано.
Приезжают к нему на большой чёрной машине. Егорыч палец слюнявит, листочки перелистывает.
— Не, в августе я не могу.
— Да ты скажи, сколько надо. Я в пять-шесть раз дороже дам.
Егорыч смотрит на лысую голову, торчащую из авто (« чо за мода, если черное большое авто, то харя, если харя, то лысая?», — думает он).
— Я тебя услышал, — говорит он в окно машины, — а ты не понял. Неделю мне надо вот на эту работу, вот у этого человека.
— Ну а потом?
— Потом у меня копка картошки.
— А дальше.
— А дальше, бля, я в запой.
Когда у Егорыча запой, то всё подчиняется только этому. Работа, семья, прочее.
Подчиняется как болезни, которую надо просто переждать.
Жена знает: прятать от него спиртное — бестолку. Поэтому выставляет на стол трехлитровую банку самогона и уходит в школу, учить детей физической географии. После обеда возвращается – пуста банка.
— Когда уж ты только постареешь?- на вдохе говорит всякий раз она.
Егорыч плечами пожимает, сам вот хотел бы знать…
***
Казалось бы, от такого Егорыча надо держаться подальше. Мы и держимся. Такие дела, другие. А Егорыч раз в год всего пьёт. Ну, неделю. От силы две. Остальное время всем рад. Работает день и ночь на пилораме, в часы досуга печки складывает. То ромашек накосит целую люльку-коляску от Ижака своего доармейского жене, то кольцо ей купит, на свой мизинец примерив. Все равно получается великО.
Приезжаешь к нему. И вроде бы ничего особенного не происходит. Разговоры сбивчивые, слова простые, как трава. Но минут через пять ловишь себя на мысли, как же ты нечеловечески соскучился по этому медленному наслаждению беседой.
Если бы слова имели запахи, то наши беседы пахли бы теплым хлебом, копченым бобром, летним вечером после дождя, болотными травами в лощинах, солидолом, пылью, прибитой дождем и прочими прелестями.
Вот к такому Егорчу мы и прирулили. Перед околицей из цельных сосен качели. Если постараться, упереться, можно коснуться носком ботинка какого-нибудь облака.
Жена Егорыча сообщает, что нету барина дома. У него постзапойный синдром. И машет ладонью в сторону заходящего солнца.
Мы-туда. Приезжаем – а там и без нас гостей уйма.
Режиссер Сергей Аркадич командует костром. Егорыч разворачивает из мешковины отбитую косу. Бородатый поэт Шура Б. щиплет в алюминиевую кастрюлю петуха на крыльце. Перья улетают. Еще какие-то люди хлещут пиво за уличным столом в березках.
Картинка эта могла бы выглядеть идиллической, если б не место действия. Если б не антитеза пейзажа. Дом бревенчатый, пятистенный стоит аккурат посередке кладбища.
Дымок от костра витает, блуждает меж берез и крестов, отекает их, как молчаливый сигаретный. Кое-где словно в мареве открываются и пропадают опять в сумерках кафельные овалы, с фотографическими отпечатками лиц. Каких не будет на этой планете больше уже никогда.
***
Дом на кладбище, на погост Егорыч перевез лет 15 назад. Отцовский. Когда не стало того. А он не смог в нем жить тогда. Об отце Егорыч всегда рассказывал, как о герое. Отец помер, и он привез дом к могилке поближе. Отдал деревне, мол, чините тут поминки, храните орудия для копки могил, молитесь. А потом построили храмв селе, и дом стал вроде как ни к чему. Егорыч начал использовать его в минуты кручины, чтоб перегаситься. Одному побыть. Но одному не дают. Егорыч тянет к себе людей. Даже на кладбище.
Он обнимает нас с дороги, наваливает в алюминиевые, огромные чашки щей, берет велик и отчаливает за червяками. Утром все планируют двинуть за карпом.
Сергей Аркадич говорит ему вслед.
— А чё ты за червём-то этим куда-то прешься? Здесь копай. Тут жирный.
***
К ночи все перепиваются. Кто-то уезжает. Поэт в избе ухлестывает за дамой, у которой грудь как будто она себе туда разных тряпок насовала. Муж ее храпит мирно на печке. Поэт всех нас зовет исключительно по имени отчеству, к барышням только на «вы».
Он приглашает усугубившую, путающую окончание глаголов фею,на танец. Она норовисто пятится, спотыкается об порог, и падает внушительным задом в заднюю, между прочим, избу. Раздается нехилый грохот, кукушка вываливается из часов и молча балансирует на тонкой на пружине. Сергей Аркадич, между тем, только-только задремал сладко, слюна в уголке рта затаилась. А у Сергей Аркадича, строго говоря, бессоница. И еще на почве различных воздержаний нервы ни в п…ду, как он формулирует.
-Да что ж вы, суки такие, не угомонитесь никак, — гневается он.
А поэт уже подал даме, обнажившей при падении красивые колени из-под платья, ручку.
Опять увлек в кухню.
-Ну, не хотите танцев, — мурлычет гнусаво, — тогда пожалуйте мороженку. И ставит ей под нос целый таз. Та бежит в сени, прикрывая рот. Он за ней.
В это время Сергей Аркадич лезет за образ и ворчит, нащупывая там что-то:
-Щас я вам устрою мороженку.
Идет на кухню, ширкает зажигалкой и возвращается в постель.
Когда парочка приходит, раздается смачный хлопок-взрыв.
Я вскакиваю и бегу туда. Приятели сидят облепленные тем мороженым, будто мокрым снегом.
Режиссер, оказывается, сунул им в мороженку маленькую петарду.
***
Утром Егорыч является. С удочками и червяками. Идём с ним через поле в сторону деревни и пруда. Все погружено в туман. И так мягко прорисовано, что местность кажется чужой, нездешней. Егорыч закидывает. Он уважает только самодельные, гусиные, с крашеным кончиком, поплавки. Тут же на них усаживаются стрекозы. Гладь на малиновой воде. Левее нас окунь гоняет уклеечную мелюзгу, она выпрыгивает из воды и серебрится, светится.
У меня – не успеешь закинуть –поплавок топит. Стрекоза взлетает. Егорыч рыбоудит в метре, но ни единой не ощущает поклёвки.
-Признайся, что ты колдун, — говорит он через полчаса, когда худой пакет с карасями время от времени шуршит, трепыхается под ногами.
Я веду плечом, сам в недоумении.
Солнце поднимается выше, и высвечивает, делает четкими бани на другом берегу.
Мужик ведет по бугру серого жеребца. Кричит нам, впрочем, вполголоса:
-Кому не спится в ночь глухую?
— Литератору Липилину и еще одному х..ю, — как в игре, где ответ обязателен бубнит Егорыч.
И вдруг начинает ржать.
— Ты чего это?- беспокоюсь я.
— Просто понял, почему у меня не клюёт. Я лупанул с утра стопку. А самогон не мой. Жени Никишина самогон. Вонючий. Ты-то вон на червя не плюёшь, а я с детства так привык. Насадил – плюнь. А какой, скажи, рыбе понравится Жени Никикшина самогон? Бормотуха. Вот и не клюёт у меня.
Идем тем же полем с рыбалки – почти полный пакетик у нас. Припекает.
Егорыч рассуждает:
-Можно же не жить в ваших питерах-москвах, а страну чувствовать, хоть вон по маленькой букашке, по колорадскому жуку. Шутю, конечно. Но ты понял. И зря говорят про народ. Что он скурвился. Не. Напустил только этих, как их, понтов. Где-то вычитал, если б понты светились, Россию было б из космоса ночью очень хорошо видно.
Он подобрал с колоска божью коровку, посадил на палец и подождал, когда взлетит.
— Заблудились люди. Каждый делает вид, что боженьку за яйца схватил. И вот это еще: я хочу. Я круче всех. Но, ты знаешь, изящный боковой с левой в челюсть, почти всегда выявляет истинное положение вещей. Раскрывает, так сказать, личность. Двинешь, он очнется и человек вроде простой, и добрым потом оказывается, и отзывчивым. Просто вот игра такая — понты.
Он молчит, потом заворачивает махру в листик бумажки, закуривает с помощью спички, ароматный дымок относит в сторону.
-Я-то вот советский еще. Привык к человеку сразу, изначально хорошо относится, пока он это мое отношение не опровергнет. А так и надо. Как же? А вдруг этот пока еще незнакомый тебе человек председатель колхоза!!!Неудобно будет. Ты сперва узнай, чо он, да как.
Он опять задумывается, усмехается.
— Девка недавно ко мне прибегла. Ага, прям на кладбище.
Голая, тряпкой прикрылась, рыдает, рыдает, прям захлёбывается, от всхлипов слова произнести не может. Пацаны, значит, из соседней деревни у неё одежу спрятали и троем пялили ее в доме одном два дня. Она вырвалась и убегла. Ко мне почему-то приперлась. Я воды согрел, отмыл её. Хотел им ебла начистить, но она на колени встала, опять рыдать, глупая, начала. Не надо и не надо.
— И че ты сделал?
-Ну, слушай. Скреативел я. Поехал в Саранск, нашел там магазин этот… интим. Я стока всего повидал, а туда че-то стремно было заходить. Потом сказал себе: да х..ли. Купил этот, наподобие старпома называется, плетку сам сделал. Приехал, время выждал. Сижу один раз на пруду, они едут. Слово за слово, я чё-то у них спросил. Говорю, у меня тут с собою три литра смогона и закусь, будете? А им же надо выпендрится, чо нет-то. Ну, напоил их в хлам. Говорю, давайте купаться голяком. Они, идиоты, пошли. А весна ранняя ещё, вышли — зуб на зуб не попадает. Я им еще накапал. И говорю, идите пока в машину, погрейтесь, они пошли и прям голые уснули там. Я старпом этот на заднее сиденье с плеткой кинул, их запер, ключи в пруд. Уехал. Мужикам деревенским говорю потом: че-то давно на пруду 14-я вон стоит. И людей не видать. Может, утонули нахрен. Они подъехали, все голые спят. Ментов вызвали.
— А с девушкой что?
— Да я ее сразу в город отвёез, одежду нашел в доме том. И отвёз. Спрашиваю: чо ж ты, дуреха, сюда-то прибежала? Может, я по сравнению с этими вообще извращенец. Да не, говорит, вас-то я знаю. И про вас кое-что знаю. Мы однажды с отцом останавливались у вашего дома, вы курили на скамейке. Отец потом и про кладбище, и про вас рассказал. Он, правда, до сих пор не понимает, зачем вы туда этот дом перетащили. И вот вы курили, а рядом лежал толстый том. Александр Блок. Стихи. Я подумала, что вы просто не можете быть плохим человеком.
— Ха, — не выдерживаю я.
— Угу. А вышло-то как… Печку клал в одном селе. Там библиотеку рушили. Я и взял несколько томов со стихами. Бумага тонкая, рыхлая. Букв мало. Полоски широкие получаются. Но с тех пор думаю, надо и правда, Блока начать читать. А то в школе-то нихера толком не учился.
Потом мы жарили карасей в муке, на костре в огромной чугунной сковородке.
И побродили между могил. И Егорыч рассказал про тех, кого помнил.
А вечером отправились дальше по лету. Остановились между деревней и кладбищем. Постояли.
Трактор проехал по плотине, цапля пролетела, роса высыпала такая обильная, аж белая. Как на бутылке запотевшей водки. Но мы и без водки были дико счастливые. И не страшно умирать. Потому что смерть – это только, когда тебя нет. А вот это же вот – перья облаков в озере, запахи луговые, бани, велосипеды, лошади, люди удивительные; это-то пока еще поживёт, останется.










