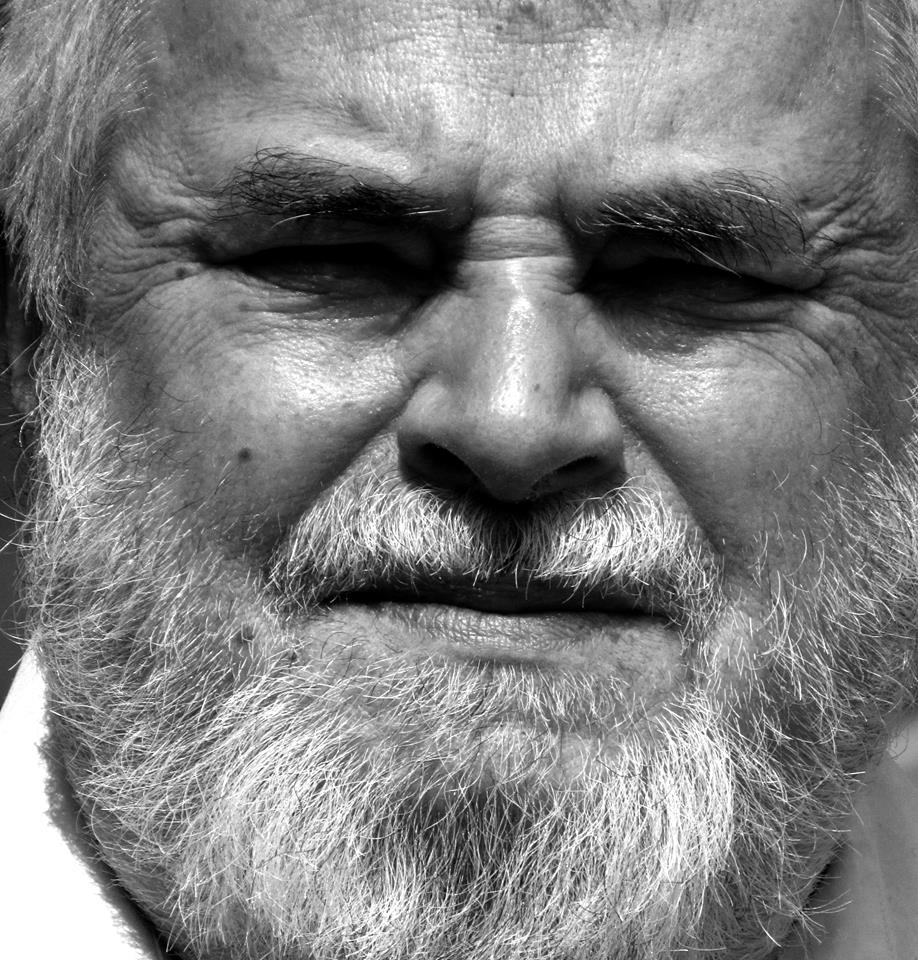Анна Мамченко

Анна Мамченко
1964, Москва
Старший научный сотрудник лаборатории общих проблем дидактики
Института стратегии развития образования РАО,
зам. зав. лабораторией, кандидат философских наук.
К Ирине
Я любила в детстве – танцевать, читать, петь, рисовать и смотреть кино… Я бросила танцевать, когда родители не отдали меня в балетную школу – туда меня отвела бабушка, но они не отдали. Читать – после школы, ну как обычно. Петь – в 9, когда меня выгнали из хора за то, что у меня не было слуха… Но я любила музыканта, да, черт возьми, я любила музыканта! Он ушел, как все они, как им и полагается, в 37, но не от наркотиков или СПИДа (прости, господи), а просто потому, что так им полагается — невозможно представить себе себя старым или вот хотя бы, что тебе полтинник («Жить быстро, умереть молодым…»). Рисовать бросила давно – последним был портрет того самого музыканта. Кино продержалось дольше всех. Но это же стыдно, когда взрослая тетенька убегает в другую комнату, если начинается особенная музыка и что-то вот-вот произойдет, когда фильм постоянно крутится в голове неотвязными мизансценами, ночью снится невообразимое поппури с тобой в роли главного героя и даже говорить ты начинаешь словами и интонациями из фильма, как будто тебе каких-нибудь 5 лет! Стыдно, когда фильмы меняют тебя и надеваются на тебя, как на манекен… И я бросила смотреть фильмы.
С тех пор прошло много лет, и я пыталась многое делать. Что-то получалось, что-то – нет, но с каждым годом становилось все хуже – холоднее, скучнее, безрадостнее… Потом ушла мама…
Ты ужасна, сказала мне Ира, ты просто ужасна. Ты все время строишь свою девочку, командуешь, заставляешь, и совсем зачморила ее. Я ее почти не вижу, вот как ты ее зачморила!
Что же делать, пролепетала я, представляя внутри себя гробик в рюшечках и с розовыми бантиками.
А ты поговори с ней.
И я осторожно спросила: Эй, ты там как? В ответ я услышала возмущенное молчание. Ну, осмелела я, давай, выйди, покажись, скажи что-нибудь?
Что же, сказала мне моя девочка, ты хочешь увидеть, глядя на себя в зеркало? Что же, мать твою, ты хочешь написать, сочинить, сотворить? Жалуешься, что у тебя нет сил, нет азарта, нет драйва? Что тебе жить не хочется, любить не хочется, смотреть, слушать, терпеть, вставать по утрам? Ты можешь себе представить девочку, которая не любит вставать по утрам? Не радуется новому дню, тому, что кончился этот бесполезный сон и целый день впереди, длинный-длинный-длинный день…
Прости меня, сказала я.
Да пошла ты, ответила мне моя девочка.
Любовь
Ну посмотри, посмотри, какая ты красивая! Какие у тебя глаза! Какая грудь, какие ноги! Ну не мне тебе это говорить! Я смотрю на свои голые ноги… Ну, обыкновенные кривые ноги… Какие кривые? Прямые! Что ты понимаешь! Красивые ноги! Мы лежим на узеньком диване. Все уже кончилось, он курит, и ему неловко… Ну кто тебе сказал, что у тебя кривые ноги? Бабушка….
***
Он меня не любил. Или ему казалось, что не любил… А что такое любовь? А когда люди понимают друг друга – молча, без слов, со словами, и все языки друг друга, и вся эта ерническая, подкалывающая игра… Суперсерьезная Аленка вечно ворчала: вот, вы вечно задираете друг друга, так нельзя… Конечно, так нельзя – увы – и – еще раз увы – так редко с кем можно…. Получается… И какое же это счастье – знать, что можно бесконечно кидать друг другу мячики – слов, смыслов, эмоций, бесконечно играть словами, и блаженствовать, и плыть в этом – что тебя понимают, понимают…
Не умела я никогда флиртовать и все такое… И вообще в молодости аллергия была жуткая. Когда 8 месяцев в году из носа течет – какие флирты?
А ему женщину подавай, яркую, сводящую с ума, да еще чтоб стерва была… Как Леночка. А я – отмыть, отгладить, душу отвести, накормить, спать уложить, и рядом сидеть сон охранять. Смотреть на него…. Глядеть – не наглядеться… Ну еще там свитер связать… Вязать любила. Вечно с клубком ниток. А мужу белый свитер так и не довязала. Рукав остался – нитки кончились. Купила другие – толщина не та. А там узор хитрый, не пересчитаешь… 3 раза перевязывала, и так и бросила… Да и жизнь не сложилась…
Таких девочек я еще не видела… Сколько же ей? Не больше 3-х, ну, 4, если мелкая… Но в кого ей быть мелкой? Папа сидит рядом – здоровенный парень, чем-то смахивающий на молодого Элвиса…
Я не сразу ее заметила и проехала уже полпути, когда разглядела ее. Вот бывают дети, привлекающие внимание – ангелочки с неземными кудряшками и ямочками на щеках (ямочки, кстати, присутствовали, про кудряшки ничего сказать было нельзя, так как розовая шапка была не просто надета, а надвинута (видимо, по-мужски) до самых бровей), или такие как с конфетных оберток – кровь с молоком, румянец во всю щеку – мечта любой бабушки, или с огромными глазищами на пол-лица, в которых вселенская скорбь… Не было в ней этого ничего. И глаза, кажется, немного косили, или мне показалось? Она держала отца за руку и иногда гладила его по руке своими малюсенькими пальчиками…. Гладила и заглядывала ему в глаза. Он улыбался ей, она улыбалась в ответ… Потом принималась разглядывать окружающее, а потом и вовсе заснула… Но и во сне, привалившись к отцу и приоткрыв рот, она не стала обыкновенной спящей девочкой. Дело в том, что в ее позе, движениях, улыбке, взмахе ресниц было столько необыкновенного и несвойственного ее возрасту изящества и грации и того, что можно было бы принять за кокетство или игру, будь она постарше… Нет, это что-то врожденное – совершенное, законченное, бесконечно красивое движение, скупой, но выразительный жест, точный и легкий поворот головы… И улыбка, да, улыбка… Ее улыбка была совсем не от уха до уха – она была слабой – чуть уголками рта. Она поворачивала голову к отцу и смотрела на него немного искоса, потом опускала глаза, проводила пальцами по его руке и опять поднимала глаза на него… Каждый раз, когда она клала свои пальчики на руку отцу, это было новое движение, особенное, но при этом невероятно изящное и воздушное… И каждый раз это был другой взгляд, другое выражение глаз, другое движение ресниц… Это завораживало, хотелось любоваться ею еще и еще…
Я просто не в силах была оторваться от них, и отец даже забеспокоился, но я улыбнулась ему и он улыбнулся в ответ… Он знал, какое сокровище ему досталось.
Кто это будет? Балерина? Актриса? Сердцеедка? Женщина-вамп? Ляля Черная и Вера Холодная в одном лице? Бог весть… Бог весть…
Дождь. В дождь я вспоминаю одно и то же: как мы с ним шли по улице и пели.
Был дождь, было темно, никого не было, и нас никто не слышал. И мы пели во весь голос. Где это было? Не помню. Где-то в Москве. Какой-то мост. Какая-то набережная. Когда это было? Это было так давно. Так давно, что…
Его уже нет. И то место невозможно найти. И жизнь прошла. И я уже не пою. Даже про себя.
В 7 лет меня выгнали из хора. Слуха не было. Совсем. И, конечно же, влюбиться надо было именно в музыканта. Вообще-то, он был добрый человек. Но невольно морщился, когда кто-то фальшивил. Абсолютный слух. А уж когда я открывала рот…
Это была трагедия. Петь с ним – невозможное, немыслимое счастье. Невозможное и немыслимое. Можно, все можно было – разделить компанию, постель (мужу в день свадьбы было сказано: только учти, если ты поссоришься с Витькой, я буду на его стороне), последние деньги, завтрак, кошку, кухонный гарнитур, швейную машинку, стих, папу, Кисловодск, любовь к кофе… Но не песню. Не музыку. Не то, чем он жил. Не то, чем он был жив. Что держало (как-то) его на плаву. Тоненькая ниточка. А не это вот все.
Я мечтала годами – что я все-таки когда-нибудь с ним спою. Учила, зубрила никак не поддающиеся мотивы. И, вроде бы, я их помнила. И сама с собой выпевала. Но в компании… Это был кошмар. И он все равно морщился. И это было таким очевидным и несомненным доказательством того, что я ему не пара, что… Да что тут скажешь.
Потом, через много лет, в лагере сына на чужом костре чужой дядька вдруг спросит: а вы почему не поете? Я объясню. А он не поверит. Ну-ка, давайте, давайте. И через полминуты остановит – подождите, у меня тональность не та, я сейчас под вас перестроюсь. Оказывается, у всех гитар была какая-то неподходящая мне тональность. Вот ведь. Но было уже поздно, слишком поздно.
А тогда, в тот единственный раз, мы возвращались откуда-то почему-то вдвоем – все разошлись. Кажется, я напросилась к нему ночевать. Мы шли под дождем, смеялись, дурачились, и я вдруг ни с того ни с сего спросила у него: слушай, а как поет Меладзе? Тогда Меладзе гремел из каждого утюга. Он ведь как-то тянет, опаздывает со словами, как это у него получается?
– Это такая манера пения, вот смотри. И он спел Сэру. И Письмо. Вот так! Давай, попробуй сама!
И я попробовала. И у меня вдруг получилось. Я попробовала еще, осмелела – и он подхватил, запел вместе со мной. И мы шли по ночной набережной, и во весь голос пели эту Сэру, еще что-то, еще. На всю Москву. Мокрые. Замерзшие. Хохочущие. Счастливые. Но – нет. Нет. Счастливой была я. И больше такого счастья не повторилось. Никогда.
И я думаю теперь – было ли этого достаточно? Достаточно за все, что случилось, до того и после того? И достаточно ли теперь? Достаточно ли, если в холодный осенний дождь для меня, только для меня, мир выглядит как-то роднее, чем обычно? Может быть, в шелесте дождя мне чудится его голос?
Одно я знаю совершенно точно: я знаю, кто придет за мной, когда выйдут сроки. Он придет и заберет меня туда, где можно петь вдвоем.
Странно… Как только ты садишься писать о чем-то, ценность этого чего-то резко падает внутри тебя… И ты тоже падаешь, внутри появляется такое гаденькое чувство падения и предчувствие того, как ты вот сейчас плюхнешься и… прямо в грязь. Почему это снова и снова повторяется – чувство полета – парения – страх падения – падение – плюх! – и вот ты в дерьме… И вездесущий смеется над тобой… Откуда эта дихотомия: вверх-вниз, взмыл – упал, выиграл – проиграл… Почему нельзя просто делать то, что задумал? Что считаешь нужным? Запланировал – текст, значит, сели и пишем текст… Ну, плохой получится – перепишем… Не сумели выразить мысль – попробуем еще раз… Ведь не возникает же таких затыков при мытье, прости господи, посуды? «Ах, смогу ли я достаточно хорошо помыть эту чашку? Вдруг она сочтет, что ее блеск не такой, как вчера? И будет – страшно подумать! – в тишине и темноте сушки высказывать претензии…». Почему? Мы не можем отпустить наши творения? Мы так боимся, что их кто-то будет оценивать и вообще кто-нибудь увидит, что предпочитаем умертвить их внутри себя? Тешимся, играем в них, как в игрушки, внутренне правим, читаем, издаем, расставляем на полочки… И пишем, пишем, пишем – там, в мечтах, в сладкой полудреме грез, в томительном предчувствии славы, удачи, счастья, любви всевышнего… И так протекают дни, скукоживается утро, пролетает день, кончается ночь – и наше желание, никогда не осуществляясь, уходит в сон, чтобы завтра снова усадить к пустому экрану, белому листу, а мы будем бессмысленно пялиться, читать фейсбук, мечтать, пить кофе, мыть чашку и пребывать в уверенности, что наша волшебная чашка никогда не оскудеет и миры, возникающие внутри нас, никогда не иссякнут, даже если мы будем вечно молчать, молчать и молчать…
Вот Вы, когда Вам надо расписаться, что делаете? Я список дел несделанных начинаю писать… Или деньги считать. Долги там… Дебет с кредитом. Никогда не сходится… Саша Шафир свои программы с утра читал. Мы в одной комнате сидели. Дыхание у него свистит, клокочет, пшикалка не помогает… Если бы не Саша, не было бы у меня сына. От Саши жена ушла. И двоих детей с собой забрала… Он чуть с ума не сошел… А ему уже за 40 было, и астма… Нашел он девушку хорошую, веселую, женился… Завели они двоих детей, кота, собаку и попугая… И вот картина маслом: лежит Саша на полу в однокомнатной их квартирке, дышать никак, уколы не помогают, так ему плохо. А по нему весь этот зоопарк скачет. Весело.Радостно. Счастье. Дети. Семья. Я пришла к нему в больницу. Саша свистит, как волынка, но хотя бы ходит… Так и так говорю, беременна, аборт делать надо… Отец против, дед против, я ж взрослая женщина… А он прутиком в земле ковыряет… А ты, говорит, хочешь сама-то, аборт делать? Я молчу. Я не хочу делать аборт. Но я ж … Отец от ребенка отказался, шлюхой обозвал – нет, говорит, это точно не мой ребенок, потому что я его не хотел… И вообще я же не знаю, с кем ты там еще спала… Мой собственный отец грозится из дому выгнать, позор-позор и как я (он) буду людям в глаза глядеть… Зарплату не платят, денег нет, ничего нет, жрать нечего… 92-й год на дворе. Только сумасшедшие рожают. В такие-то времена… Если не хочешь, то и не делай, сказал Саша. И вот этот все рассказал. А я и не знала… Просто работали вместе.
Смысл любви
Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления моего; внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня; страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы; далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне; поспешил бы укрыться от вихря, от бури». ибо не враг поносит меня, – это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною, – от него я укрылся бы; но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий…. (Псалтирь. Глава 54)
______
Вот все говорят – Соловьев, Соловьев… Смысл любви… 14 видов… Морочил, морочил людям голову Владимир Сергеевич, а потом возьми и напиши: в наше время сие (бессмертие, то есть) осуществить невозможно. А вы думали, он о любви пекся? Нетушки, хрен вам в нос! Подумаешь, любовь! Эка невидаль! А вот обрести при жизни еще жизнь вечную – это да. ***** — лучше для мужчины нет. Почему для мужчины, спросите вы. А вот потому. Потому что женскаго бессмертия Владимир Сергеевич не полагал. Ну женщины и не морочились. А вот мужики… Наше время – это он что имел ввиду? В его время – невозможно. А в НАШЕ? А как написано-то хорошо, понятно – как в аптеке: делай раз, делай два, делай три – и – вуаля! – у бога за пазухой… А не хочется помирать же… Пусть женщины мрут как мухи – туда им и дорога… А мы-то… Мы-то…
Ну, это все присказка была, а теперь и сказка начнется… Пострадала я через Владимира Сергеевича, ох как пострадала… Потеряла я через него работу, дело все жизни, научного руководителя, да и веру в людей тоже,но зато — убедилась в могуществе русской философии… Я тогда диссертацию писала. Не про Соловьева, ни боже мой – про открытый контент. Ну, про то, что наступает новая эра, происходит виртуализация жизненного мира человека, все смыслы теперь связаны и в носителях не нуждаются, информация переходит в новую стадию, авторское право заменится на авторское лево и везде будет открытый контент. И всем счастье. Пишу я, значит, пишу, и ничегошеньки вокруг себя не замечаю. А мой научный руководитель, оказывается, по ночам с богом стал разговаривать. А днями Соловьева читать. Читал, читал и тоже думает: а в НАШЕ время? А инструкция же! Надо девственницу искать. Там же все с этого начинается… Ну, я-то вообще не женщина. Вы, Анна Александровна, не женщина, Вы – соавтор! Когда 10 лет с человеком работаешь, и правая рука, и левая, и глаза, и уши… И можно сказать: вот тут все хорошо, а тут еще укропчику насыпь и отсылай… С моей почты… И сопроводиловку напиши… А что написать? Да что хочешь напиши… Я Вам пришлю, посмотрите… Не надо мне, и смотреть не буду…
Ну, у нас на кафедре девок полно и чего, как говорится, далеко ходить… И вот, оказывается, он каждую – а одна даже с двумя детьми была – в ресторан водил и предлагал. А завкафедрой же, хоть и 67, и вонючий, и рубашки грязные, и ногти черные… Да и работа под ногами не валяется. Денег немного, зато – свободный график почти… Оно бы и ладно, да больно странно все как-то… Заметались молодухи. Засуетились… Делать-то чего? Не увольняться же? Ну, одна на другую кивает, все уворачиваются, год проходит, а ситуация не проясняется… А тут новенькая попала на кафедру, совсем малололетка, 23. И призналась кому-то – и кто за язык тянул? – что девственница она еще… Настоящая. На том и сыграли. Ну, народ опытный, чего там… Слово за слово – повел он ее в ресторан… И – о счастье! — сладилось у них там. Выдохнули все с облегчением. Все, кроме меня… А я защищаюсь, мне не до чего… У меня совет, в Зеленограде… Вы, говорят, коньяк Хеннеси VSOP не берите, у нас его никто не пьет. Только XO. Люди немолодые, привыкли уже… Ну не травиться же им VSOPом. В самом деле… И название переделайте. Мы тут подумали – такое тоже не пойдет. И из трех глав две. Две лучше. И чтоб параграфы были равномерные… Ну и что, что все написано. И две предзащиты было. И прикрепление… Третью устроим, не проблема. Да, и мы Вам научного руководителя поменяли – документы переделайте. Ну и что, что кандидат – Вам-то какая разница? И не тяните – через неделю все привозите… Что значит не успеваете? Вы хотите защититься или нет?
Ну вот, защитилась я… Он на защиту не приехал. И я вдруг поняла, что не нужна она ему, моя защита… И чтоб мне мысль тогда не продолжить – и не понять заодно, что и я ему уже была не нужна… Но мы ж все задним умом крепки…
И вот какой-то праздник был… На кафедре… Или мою защиту отмечали? И он сидит такой, рассказывает, как он с богом-то по ночам разговаривает… Народ притих… Девки насторожились… А он из своего стакана слюнявого недопитое всем разлил и говорит: пейте кровь мою… Благословляю… Кто выпил, кто не выпил, а всем как-то не по себе стало…
Ну так вот, сладилось у них… Процедуру он эту всю соловьевскую исполнил и бессмертие, стало быть, обрел… И стал свет излучать и в мир нести. Ну и всех любить, видимо… Всех, кроме меня. Ну, теперь-то мне понятно – чтобы всех любить, нужно кого-нибудь конкретного поненавидеть немножко…
И еще они книжку написали. Сначала про Соловьева. А потом про себя. С леди Годивой на обложке. И издали. И презентацию устроили, в Союзе писателей. И он всем приглашение разослал и книжку саму. Всем – на работе, друзьям, знакомым, начальству, коллегам… И девки мне очень жаловались (меня-то там уже не было), что народ в институте от них прямо шарахаться стал и смотреть нехорошо, как будто на кафедре у нас вместо работы был один какой-то свальный грех…
А еще он очень хотел, чтобы она на презентацию пришла голая. Как леди Годива. Правда, леди Годива на коне сидела. Но от коня, понятно дело, отказаться пришлось… Не приведешь же коня в собрание… Уговаривал – уговаривал – не уговорил. А как эффектно было бы! Рраз! Покрывало снять – и она нагая… Как с обложки книжки сошла… Ну, из Коврова, все-таки… Строгие у них там нравы, поди, в Коврове-то. Жаль, Соловьева никто не читал. А то не отдали бы своих девственниц в Москву. Повадились все взывать: в Москву, в Москву! В три глотки. А в Москве где девственницу взять? Поди, ни одной и не осталось. Только в Коврове и остались…
И вот презентация книжки этой. И дядька этот, председатель, союзный писатель, встает и говорит буквально следующее: вот мы все, писатели, этому человеку по гроб жизни обязаны, поскольку нас тут хотели из нашего помещения выгнать, потому что мы 20 лет арендную плату не платили. А этот человек позвонил куда-то, и нас не то что не выгнали, а сказали, что можно еще 20 лет не платить. А когда этот прекрасный человек принес мне такой прекрасный текст, я был так счастлив, что плясал на столе 3 дня…
Ну, люди какие-то выступали… Вот, говорят, человек новый жанр открыл… Так здорово придумал – роман в виде скайп-переписки… И так живо все, жизненно… Как будто реальная переписка… Мы зачитались все… И завидно нам, союзным писателям Москвы, что нам такая идея светлая в голову не пришла… И премию ему за это дать не жалко… И в союз писателей принять… И медаль дать… И правда медаль дали, ей богу не вру! За создание нового жанра!
Вот тут-то я и прозрела на всю голову… И Соловьева прочитала… И книжку прочитала… И вот сдается мне, что кроме меня ее вряд ли кто прочел, до конца-то… Прекрасная вещь Скайп, оказывается! Интересно, они хоть что-то там правили или вытащили переписку и как есть в книжку ухнули?
А потом мама ее приехала. Почуяли, видимо, там, в Коврове, неладное… И тут совсем безумно, но как-то уже не по-соловьевски все понеслось… Письма посыпались всем-всем-всем, посты в ФБ, которые все читали, как на заборе – какая она нехорошая, и что я ей сделал, и что она мне сделала… Я ей 15 статей опубликовал, а она… И молитесь за меня, я в монастырь ухожу… И еще черт знает что… А потом – ничего, радостное такое: мол, отмолили меня монахи, посмотрим еще, кто кого… Интересно, другую девственницу пошел искать? Или забросил уже это?
А вы говорите – Соловьев, Соловьев! Да Соловьеву такое и присниться не могло! Он только и мог что писания свои строчить, глицерином обливаться да девке своей предложения делать по 5 раз на дню… Отказалась девка-то… Видать, не из Коврова была… Или не девственница… Так что теоретик он был… А ведь практика – критерий истины-то, как известно… А истины практикой лучше не проверять. —
ВИР
Никогда я не видела – и, надеюсь, не увижу – чтобы могилу копали экскаватором, а закапывали – бульдозером. Могила была такой глубокой, что туда можно было закопать 10 гробов и похоронить 10 Виров. И почему-то я так рыдала, а ведь ни с бабушкой, ни с мамой, ни с папой ни слезинки… Наверное, потому что я всегда была открытой с ним – он приучил меня, приручил – не стеснялась нести глупости и умности, сердиться, обижаться, иронизировать, подтрунивать над ним, быть унылой, быть занудной, быть истеричной, быть легкомысленной… Какой есть. Хвастаться новым платьем, спрашивать совета, вздорно обвинять и поучать, рассказывать сны, делиться новостями, горевать над потерями, слушать музыку, обсуждать тексты, строить планы, жаловаться… Это ему-то – жаловаться? Как же мало я понимала, каково ему…
Я просто делилась с ним – всем, что есть – куском хлеба, радостью, горем, подозрением, прочитанной книгой, пришедшей в голову идеей, или какой-то глупостью, как получится – что я еще могла для него сделать? Мне это было нужно, и ему, надеюсь, это тоже было нужно. Он сокращал дистанцию – но всегда чувствовал, когда надо остановиться. Был открыт, но к себе в душу не пускал. Сказал однажды: я себя не люблю. Но жизнь, мир, других людей, он любил. И больше всего любил думать. Цитировал ГП: «на меня село мышление» — Рассказывал, как оно село на него самого – он пошел за водкой, занес ногу через порог магазина, и вдруг услышал голос: «суть быть есть имя иметь». Как следует сказать в таких случаях – как громом пораженный, он сидел на ступеньках того самого магазина и пытался понять, что бы это значило. Домой он вернулся без водки, но другим человеком…
Его невероятная энергетика, казалось, совсем не зависела от физического состояния, была, в сущности, той самой жизненной силой, жизнестойкостью, которую он никогда не терял. Это была сила вечного удивления перед миром, сила познания, вера в то, что мир откроет тебе все свои тайны, если ты сам будешь открыт, что мироздание любит тебя, любит искренне и безусловно, и никогда не предаст… Как будто он что-то такое знал о мире, чего никто не знает. Что-то из древних мистерий, за которые Платона чуть не подвергли остракизму. Как будто бы он прошел их, и получил какое-то тайное знание… Я постился, я выпил кикеон, я открыл сосуд… Ничего не значащие слова… Но жизнь посвященных становилась осмысленной, как будто они знали, в чем ее смысл…
А в чем смысл? Вот был человек, и нет его… Что осталось? Посты? Тексты? Воспоминания? Остались люди, которые были с ним. Кого-то он любил, кого-то покинул, кто-то предал его, кого-то предал он… Важно ли это? И что важно? И у кого теперь спросить? Теперь – не у кого…
Каша
Я чуть с ума не сошла. Вот он сидит в Скайпе, в казенной майке, в казенном доме, в голых стенах, в шапке, немыслимой какой-то кацавейке – т.к. холодно, и говорит о том, что он успешен. Очень успешен. Я молчу, и он вдруг спрашивает: а вот что делать – одна бабушка у меня в столовой ворует еду. И мы следующие два часа обсуждаем, что делать с бабушкой…
И вот кем, кем надо быть? Я пытаюсь представить себя на его месте. И не могу представить. Ты сидишь в казённом доме (чуть не написала – в сумасшедшем), в комнате-клеточке, где дико жарко летом, холодно зимой и нечем дышать ни в какое время года, и ты втолковываешь чужой тетке, что ты успешен – безусловно успешен – а потом спрашиваешь: какая-то бабка ворует у меня еду со стола – что мне делать? И вы два часа на полном серьезе обсуждаете возможные стратегии… В конце концов, все как-то начинает налаживаться: отселяется шумный сосед, чинится интернет, выбиваются нужные лекарства, приходит какая-то помощь, кое-кто поддается обаянию и начинает выделять среди других…
И все же ужасающее, безмерное одиночество, невысказанность, неуслышанность, мучительное и спасительное «окаянство» и такая детская, ни на чем не основанная и ничему не помогающая вера – не в себя даже – «я себя не люблю» — и ведь не любил — в свое предназначение, в свою избранность, в свою безусловную нужность этому миру…
Совок.
А потом он меня спрашивает, как дела… Как прошел день, какие новости… Не знаю, что сказать – вот, говорю, совок потеряла, все перерыла, не найду никак… Совок, спрашивает он, кухонный? Нет, у кота в лотке убирать… А-а, понял, такой, с дырками… Ну-ка, убери руку с головы, а то мне не видно… Что Вам не видно? Помолчи, сейчас совок будем искать… Надо сосредоточиться… Скажи, он какой-то синий или зеленый, да? Не пойму чего-то, синий или зеленый… Эээ… Ну, он такой цвета морской волны… А, видишь, и синий, и зеленый значит… Он где-то там, за тобой – в какой-то сумке, в темноте… Вы что, видите его? Или в пакете… Вы — видите? Но как??? Пойди, посмотри… Я иду в прихожую, сто раз обысканную, и нахожу злосчастный совок завалившимся внутрь пакета с наполнителем. Возвращаюсь с совком – ничего себе! Как это у Вас получается? Смеется… Я вижу… Слепой, а вижу… Я же Странник…
Русский народ.
Я понял, для чего я здесь. Я теперь с народом живу. Я – русский народ. Вот один тут у нас – называет имя — жил с женой, работал и все деньги ей отдавал. А потом у него с глазами плохо стало. И он попросил у нее 30 тысяч на операцию. А она обухом топора ему по затылку. Его и парализовало. Его в больницу, а потом в сумасшедший дом определили, потому что она его не забирала. А почему в сумасшедший дом? Потому что он не говорил. А куда же? А он возьми и через полгода и оживи. И говорить даже начал… И сумасшедший дом не стал его держать, говорит – он сохранный… Ну и к нам его… И вот рассказывает мне все это… Уж лучше б молчал… И говорит: да я ее не виню – сам виноват, не надо было мне денег просить… Хорошо же жили… И не ссорились никогда… И все было…
Не забирай ничего из Шебекино…
А мне в отпуск на Украину ехать как раз через Белгород – чего бы не заехать? Но ВИР против был. Вот категорически. И тут снится мне сон. Из тех, что не забываются сразу же, а помнятся во всех подробностях… Странный такой сон. Что приезжаю я в Шебекино, к ВИРу, в интернат этот. Ворота какие-то, красивые такие ворота, кованые… А за воротами – сад. Да какой! Неземной какой-то, райский сад! Цветы, кусты какие-то невозможные… Все цветет, благоухает – аж голова кружится, птички поют, лавки какие-то…
Побыла я у ВИРа – как-то невнятно побыла, но иду обратно к воротам… И села на лавку – дай, думаю, на красоту такую еще полюбуюсь… Сижу и уходить не хочется… И вдруг из-под лавки щенок вылезает. Светлый такой, палевый, на лабрадора похож… Радостный, хвостом виляет, лезет ко мне… Лезет, и все тут… Пошла я к воротам – и он за мной. За ворота – не отстает, к ногам липнет… Отгоняла-отгоняла – не идет. Ни в какую… Куда же, думаю, я тебя возьму – дома три кота, а мне отсюда в Украину ехать, и у тетки кот, и как везти, справки надо, прививки, билет, поезд… А поезд уже вечером… И как-то все-таки я смиряюсь, и забираю его с собой, меняю билет, добываю справки, объясняюсь с теткой, и как-то все вроде бы удается, но с какими-то невероятными усилиями, мороками прямо… И я вроде преданно, спокойно все делаю, толково, четко… И вот вроде бы все хорошо, все как-то складывается, преодолевается, но сон заканчивается настолько неожиданно, что я, проснувшись, совершенно офигеваю – вот сделав все это, я на обратном пути отвожу щенка обратно в Шебекино и оставляю у ворот…
И я рассказываю этот сон ВИРу… И говорю, что ничего не могу понять… Как же, говорит ВИР, все понятно… Что Вам понятно? Не забирай ничего из Шебекино… Это тебе мироздание прислало предупреждение… Какое предупреждение? Как какое – не забирай ничего из Шебекино, потому что оно все равно обратно туда вернется, что ты ни делай… И – разрешил приехать…
И вот – решено: еду! Еду к теткам в Украину, все равно через Белгород, утром вылезу, вещи в камеру и в Шебекино, вечером – поезд… Что Вам привезти? Все равно же что-нибудь привезу… Я ж астраханец – помидоры и рыбу. А рыбу какую? Сазана.
Рыбу ладно. А помидоры где взять? Конец мая… Иду по Преображенскому рынку. Вижу дядьку с помидорами – ничего нет, одни помидоры. Вот, говорю, один хороший человек болеет, астраханец… Астраханец, говоришь? Падажди, 2 минуты падажди… Выныривает откуда-то с пакетом –четыре хватит? Больше нет… Хватит… По триста – дорого? Да все равно… Ладно, давай по 250… И передай привет от Давида. Пусть выздоравливает. Спасибо. Обязательно… Не забудь, от Давида! Обязательно передам…
Какие помидоры, какие помидоры! Где ты их взяла? — У Давида…
Бабушкин внук.
А я чего скажу! У меня тут бабушка завелась! Я теперь бабушкин внук. Тут у нас старушонка есть, совсем согбенная, маленькая такая… Она подходит ко мне, гладит по голове, и говорит: внучок ты мой родненький… Ой, как приятно, как приятно! Я свою бабушку очень любил. Она у меня морячка была. А я же в Астрахани вырос… Мальчишки же, весь день в воде…
«Ой, какие у тебя ушки! Можно потрогать твои ушки?»
Людочка, ангел-хранитель, санитарка этого дома престарелых – везде бывают нормальные люди… Ой, Владислав Иваныч, опять весь грязный… Давай переоденемся… Распиздяй я, Людочка, и всегда был распиздяй… Не вижу я… Людочка привела внука. Трехлетний ребенок пошел к нему безоговорочно… Ой, какие у тебя ушки! Можно, я потрогаю твои ушки? А ты мои потрогай, если хочешь… Боже мой, они бархатные, бархатные ушки-то…
Людочка: Егорушка меня до сих пор спрашивает: баба, а когда мы пойдем к дедаВьядику?
Мама.
Она страшная была женщина… Я всю жизнь, сколько себя помню, испытывал стыд за нее… Лет с семи…. У нее до меня умерло двое детей. Ты можешь себе представить, что это такое? Я всем для нее был, просто – всем… Если ей казалось, что меня кто-то обижал, она так кидалась на обидчика, что я цепенел – сейчас убьет просто… И ей все равно было: ребенок, взрослый, собака… Я в школе хорошо учился, но вот полненький был… И в классе 8-м, что ли, выходила у меня толи 2, то ли 3 по физкультуре… Мама пошла в школу и устроила там скандал. Она сказала, что если они тотчас же не исправят мне оценку, она пойдет и напишет в горком партии, ОБХС, еще куда-то и вообще их всех посадит. И ведь исправили – а она бы написала… Я не знал, куда деваться от стыда… Хотел школу бросить… Она пыталась все контролировать, каждый мог шаг… А я такой был, коса на камень… Однажды она у двери встала, руки растопырила – не пущу, мол… Гулять не пускала… А я в окно… Со второго этажа… А папу я любил. Папа был такой, безответный… Папа ей никогда не перечил. – А папа кем был? – Охранником в НКВД…
Дочь.
Я ушел, когда Маринке было 3 года. Просто уехал из Астрахани. И 20 лет ее не видел. И когда она сказала: я искала, с кем поговорить, мне не с кем было поговорить — я заплакал…
Онкология. Каширка. Дети.
Я лежал в онкологии на Каширке. Все серьезно было. И ходил к детям, в детское отделение, на другой этаж. Разговаривал с ними. Играл. Задачки им задавал. Я люблю детей. Мне всегда их не хватает… Они смеялись. Ждали меня… Каждый день ходил. И смотрю – что такое? Каждый раз их все меньше. Этого нет… Потом этого нет… Спрашиваю: где же они? А их уже совсем нет. Понимаешь? Нет! А я-то… И тут мне говорят: нет у Вас рака, пшел вон! А я умер вместе с ними. Умер уже. Думал, не переживу это… Я, значит, жив, а их, вот так по одному – нет… Маленькие дети-то… Совсем…
«Тупая, недообразованная, жадная…»
Я хотела написать статью. Вполне себе научную статью, и ВИРа в соавторы… Или наоборот… И даже – написали мы статью, и опубликовали ее… И какую-то грамоту я ему привезла от Моисеевских Чтений…
За год с небольшим, пока мы общались, накопилось какое-то количество текстов, кусочков текстов, фраз, афоризмов… Что-то из наших разговоров ВИР записывал – но почти все пропало. Что-то записывала я – на листочках, чего ВИР очень не любил, и постоянно со мной ругался. Что-то, наоборот, он менторским тоном сам просил записать, обвести в рамочку и выучить наизусть… Я даже что-то выучивала, послушно перерисовывала схемы, повторяла, иногда даже своими словами, задавала иногда даже осмысленные вопросы… ВИР приходил в восторг, начинал подводить итоги, потом просил ритуальную рефлексию – и тут выяснялось, что половина уже забыта, вторая половина не понята, концы с концами не сходятся и надо все (что, собственно, все?) начинать с начала… ВИР сатанел, смешно ругался матом, говорил, что я тупая, недообразованная, ленивая, жадная (почему жадная-то?), тут же решал, что со мной бесполезно тратить время, и что больше никогда, доходило и до бросания трубок… Но всегда через пару дней (или пару часов) звонил и как ни в чем не бывало сообщал, что ему в голову пришло то-то и то-то, и это надо срочно обсудить/зарисовать/записать… И тупая и необразованная превращалась в хорошую (Вы хорошая!) Анночку Александровну, которая должна срочно бросить все дела и немедленно открыть Айдру… Иногда взрывалась я, изведенная вечным его мелким манипуляторством, какими-то детскими жульническими приемчиками, недостойными, как мне тогда казалось, ТАКОЙ головы…
Как-то я спросила у него: ну вот Вы чего-то от меня хотите, а я же вообще случайный человек, случайно рядом оказалась… Просто получилось так… А он мне в ответ анекдот рассказал: приходит жена домой, а на кухне на столе стоит голая девка и лампочку в люстру вкручивает. Жена спрашивает: это кто? Муж отвечает: это сантехник из ЖЭКа. Но она же голая! — Какую прислали, такую прислали…
Марина Л. рассказывает: звоню ему. А он мне: Ой, опять Анночку Александровну ругал. Ой, ругал! Ой, ругал! А у самого аж сердце кровью обливается…
И только осенью на меня вдруг сошло прозрение: он это делает специально. Потому что если меня хвалить, то эффект получается обратный – я только все больше и больше замыкаюсь в скорлупе недоверия… А так – на протесте – да что ж это такое! – что-то двигается…
И я, конечно, сразу ему это все вывалила… Он был доволен. Очень доволен. А я думал, ты никогда не догадаешься… Я не психотерапевт. Но придумал! И это работает! И опять, как много раз в эту осень: Ну вот, когда ты это поняла, я могу спокойно умереть…
И вдруг, ни с того ни с сего: вот если бы ты была моей дочерью… И зачем-то произнес: Анна Владиславовна Редюхина. Я обиделась ужасно…
А еще через какое-то время, когда ВИРа уже не стало, я поняла, почему «жадная»… Жадная – это значит небескорыстная. Просто корысть связывается с умыслом, расчетом, а жадность – жадность души – она неощутимая… Это когда тебе дают то, что тебе нужно, очень нужно, и ты берешь и берешь, и не можешь остановиться…
Женщины и дети
Если бы он остался в Москве, если бы не женился в третий раз, если бы не переехал в Белгород… Если бы, если бы, если бы… И что там, собственно, случилось? Что разладилось? Так трагически для ВИРа…
Я думала одно время – был ли это расчет? С какой стороны? С его? С ее? С обоих сторон? Со стороны ВИРа – несомненно… А с ее? Но что-то там такое у них произошло. Какая-то дверь… Кто-то зашел… Залетел… Птица… Ангел… Знак… Намек… Или это ВИР наколдовал? А что? Мог. Запросто… Только вот жизнь оказалась сложнее, а ВИР – беззащитнее… Со всем своим умом и магией…
Я ведь женился тогда, в Астрахани, чтоб не спиться… — Да? Это что, как в песне? «Баночки, коробочки из жести на столе валяются все вместе… Чтобы окончательно не спиться, я решил жениться»? — Ну примерно… Выбирал, выбирал – одна мне очень нравилась… И я ей… — А чего не женились? Да, думаю, чего ей жизнь портить… Я ж знал, кто я… Она очень переживала… И я переживал… А женился на самой безответной. Которая все терпела… Завалишься домой под утро, пьяный, черт знает откуда – а она только спросит: Славочка, кушать будешь? Буду! Ну, и сбежал я… Не смог… Так и сказал – не могу я с тобой жить… И в Москву уехал… И Маринку бросил…
Как ее звали? Где она жила? Он называл, но я не помню… — А ты знаешь, что у меня есть еще двое детей? Да? Да, была одна девушка, все время приставала ко мне: Славочка, я хочу от тебя ребенка, такого же гениального, как ты… А я от нее бегал: я что тебе, бык-производитель? А потом пропала куда-то… А через 15 лет вдруг звонок: так и так, у меня от тебя двое детей, они хотят посмотреть на отца… И они приехали, два брата-близнеца… Я как глянул – обалдел просто: точно мои дети, такие два одинаковых Редюхина стоят, совсем как я в молодости… Кудрявенькие такие, черноглазые, так же «р» не выговаривают, и такие же раздолбаи… Купил им телефон, один на двоих – они его потеряли… Купил ноутбук – уронили… — А Вы с ними поддерживаете отношения? Нет, как уехали, так и уехали… И еще одна дочь есть, точно моя, но мать не признается, ни в какую… Но я точно знаю… А вот ум никому не передался – только Маринке, да и то я упустил…
Эх, надо было мне не в Белгород, а к ней поехать в (Краснокумск? В Мончегорск?)…
Я когда на семинары ездил, всегда дверь в комнату на ночь приоткрытой оставлял – кто-нибудь да и залетит на огонек…
И еще. Только имя. Всегда только имя. И никаких подробностей. Но каждый день. И только однажды — «Если я кого и любил, то только ее…»
«Доследующего дня рождения я точно не доживу…»
Тогда, летом, когда ему стало плохо, и бывало, что две скорые за ночь, а сестричку ту дежурную уволили, не надо дому престарелых две скорых за ночь, а она ему жизнь спасла…
Откачали тогда его. Как-то стало лучше, приступы прекратились, он успокоился и стал совсем прежний ВИР… Так мне казалось… Вот и что, и чего я добилась? Он стал какой-то рассеянный… Он перестал следить за собой, стал много есть, жрать по ночам доширак, забывать про таблетки, про инсулин… И как-то тихо жаловался… Что все время болит голова, что ноги совсем не ходят, болит сердце, что трудно дышать…. Но самое главное – что голова не работает, не думает. Не рождает мысль… И что Мироздание все реже и реже присылает ответы на вопросы…
В какой-то момент он перестал доходить до столовой – ему надо было пройти 3 пролета коридора, спуститься на лифте вниз, дойти через холл до столовой… Он не мог – задыхался, ноги не шли, плохо… Останавливался, отдыхал, садился на лавку, иногда на пол… Кто-то приходил, везли коляску, подымали… Приносили еду в комнату… А иногда и некому было… Пока до столовой дойдет, обед кончился…А начальство дома престарелых – ну, все ж по правилам должно быть – стало его пугать, что если в столовую дойти не может – то, значит, пора его в лежачий корпус переводить. А там тебе никаких интернетов, ноутбуков, посетителей – и телефон-то с трудом… И вот он, три раза в день…. Все, не могу больше…
Он иногда звонил – мне плохо, поговори со мной… Как у Вас дела, Анночка Александровна? Начинаешь рассказывать ему, как дела… Что-то обсуждается…. Он втягивается, голос становится звонким, мощным, глаза загораются, и передо мной – прежний ВИР… Ну вот, хорошо, отпустило…
Почему Вы бросили физику? Меня Тамм к себе звал, очень, и место уже было предназначено… Все ясно… А я как-то… Посмотрел-посмотрел… И думать стал. Физика же изучает ставшее. То, что уже есть и не меняется… И это неинтересно. Мне – неинтересно… А вот человек – это интересно. Что-нибудь с ним сделать – вот это по-настоящему интересно… И я ушел… — Ну да, бросили все, как всегда… Не любите Вы определенность… — Не люблю. Ох, не люблю!
Апрель
В сущности, это был хороший год. Столько я с другим человеком не разговаривала никогда. Сначала все прекрасно было – он «приручал», видимо – душевные были разговоры… Веселые… Он много рассказывал о себе, о том, о сем… Надо было записывать, но кто ж вовремя соображает… Потом все переменилось в одночасье… И какой день ни вспомнишь – как-то все время спорили, не соглашались, он все время давил на меня, что-то требовал, чтобы я что-то делала, писала, предлагала, какие-то проекты, ходила к директору, кого-то куда-то увлекала, спасала образование, спасала Россию… Я сопротивлялась… Обижалась на него…
Теперь я понимаю, какое это было отдельное наслаждение – поругаться с Редюхиным до крика, соплей, бросания трубок и обещаний больше никогда в жизни… И через пару часов услышать один из его голосов – стариковски-вкрадчивое: я тут подумал…
В конце концов он меня достал. И я ему 2 дня не звонила. И не отвечала на его звонки… Каждый раз, когда я захожу на его страницу, открывается окно сообщений, и Фейсбук услужливо сообщает мне: У Вас 5 пропущенных звонков от Владислав Иванович Редюхин, последний 6 апреля 2018 г…. Он умер 12-го, в День космонавтики, в четверг. А попал в больницу 9-го, в понедельник. А 8-е была суббота. Если бы я не была такой стоеросовой бесчувственной дурой, если бы я ответила, если бы я послушала его… Как он дышит… Может быть, еще было бы не поздно. Я бы услышала отек, я бы засунула его в эту гребаную больницу, я бы поставила на уши этот чертов интернат, реанимацию, да все Шебекино… И его откапали бы, отлучили от смерти, и он был бы жив. Вот прямо сейчас, прямо здесь – он был бы с нами…
Но нет. Я даже не помню – вот не могу вспомнить – в чем была размолвка. А в воскресенье он сказал – знаешь, мне надо в больницу… Давайте скорую вызовем? Нет, неудобно девочек подставлять, одну уже уволили из-за меня… Вот, сказал он, завтра будут врачи, меня положат в больницу… А у меня на работе понедельник – сумасшедший день, и тот был тоже… Он позвонил – когда же? – может, часов в 12? – и сказал, что все, кладут… А потом, часа в два – прямо посреди совещания – у меня отчаянно завопил Скайп… Аня, они не хотят меня везти сегодня! Хотят завтра! Я не доживу до завтра! Сделай что-нибудь! И – господи! – как он дышит…. Никак. Никак он не дышит…Как выброшенная на берег рыба он дышит…
Аня давай звонить директору (его нет), замдиректору (его тоже нет), завмедчастью… Не помню, что я им там говорила – помню, что в конце концов орала на весь этаж… Его отвезли-таки в больницу. Сегодня. От Дома престарелых до больницы – 10 минут. Пешком. Его отвезли. Час собирали. Час везли. Час оформляли в приемном – господи, о чем он думал тогда? Он знал уже, что умирает? Или еще надеялся? Или еще был шанс, но дорога каждая минута…И он ждал… А вокруг все двигалось, как в замедленном кино… Наконец, вышла завтерапией, чтобы забрать в отделение – посмотрела на него — и кинулась в реанимацию…
Людочка отзвонилась, что положили. Ну и хорошо. Но на следующий день я стала звонить в больницу, и мне сказали, что он в реанимации… Я позвонила в реанимацию….
«Отек легких развивается двое-трое суток. Странно, что люди, имеющие медицинское образование, привозят мне человека в таком состоянии. Когда я уже ничем не могу помочь».
Я ехала в поезде, прекрасном поезде Москва-Белгород, и думала о том, как бы успеть застать его в живых. Только бы успеть… Сказать ему… Что-то сказать ему… Или услышать от него… Сказать ему, как дороги и необходимы стали мне наши разговоры, какое это счастье – говорить, что думаешь, когда все можно сказать, абсолютно все – как другу, как родственнику, как близкому человеку… И что я очень жалею, что не познакомилась с ним раньше – когда он еще жил в Москве, а была же возможность… И что совсем-совсем не сразу увидела живого человека, ранимую душу сквозь менторский тон и беспардонное, но такое детское, наивное манипулирование… И что-то я еще хотела ему сказать…
Но когда я приехала, и мы пошли в больницу, то нам сказали, что в реанимацию никого не пускают. У них карантин, свиной грипп, не положено, и вот это вот все… Но слово «Москва» до сих пор открывает двери в провинции. «Я приехала проститься. Я приехала из Москвы». А кто Вы ему? Родственница? Ученица. Он был учителем…. Нас пустили…
Врач сказал – идите, но вряд ли вы сможете с ним поговорить… Легких нет… Их просто нет..
Он лежал на приподнятой каталке, с кислородной маской и страшно, чудовищно дышал. Я увидела, как он располнел и погрузнел за эти месяцы… Одна нога выглядывала из-под простыни. Сизо-черная какая-то нога… Потом я увидела, что его руки привязаны к поручням. Веревочками. Я взяла его за руку, и он задергал этой рукой, пытаясь освободиться… Я в ужасе отпустила руку… Медсестра стала трясти его за плечо и кричать в ухо: дедушка! Дедушка! Проснись! Дедушка! К тебе пришли! Он встрепенулся, открыл глаза и некоторое время бессмысленно вглядывался в наши замотанные масками, шапками и халатами фигуры. Узнал ли он кого-нибудь? Понял ли он, кто к нему пришел? Бог весть… Но ногу, ту самую, высунувшуюся из простыни, поджал… Потом закрыл глаза и как будто бы впал в забытье… И сколько бы мы его не окликали, не трясла медсестра, уже не реагировал. И только дышал. Все его силы уходили на то, чтобы дышать…
Я молчала. Что можно было сказать? Какие слова? О чем? И я не нашла ничего лучшего, как начать гладить его по голове… Как та самая столетняя самая бабушка в интернате… Я не знала, что еще можно сделать… И вдруг ресницы его заморгали, и в уголках закрытых глаз показались слезы… Ужас увиденного навалился на меня, запахи, звуки, голоса… Зачем Вы его привязали? Он срывает маску, он все время срывает маску… И я поняла, что он там, внутри – он прежний, прежний ВИР, со своей всегдашней ясной головой, думающий, чувствующий, все понимающий… Понимающий, что это конец. Беспомощный… Но не безумный. И мы, беспомощные, стояли рядом… И врач с сестрой, столь же беспомощные… И весь этот мир, который он так любил и который неизбежно, тяжело, неправильно он покидал, уже ничем не мог помочь ему, ничего сказать, ничем утешить…
Такой ли он хотел смерти? Я полутруп, сказал он мне за полгода до этого. Нет, я просто труп. Ходячий труп. Потом были разные смешные разговоры со мной, с Леоновой – что вот, дескать, мироздание обеспечит ему легкую смерть – потому что он самоопределившийся, потому что он всегда его слушал и слушался, потому что он – Странник… И я думала – вдруг и правда вылезет из глаза или из уха какой-нибудь неземной червячок… Вот ты – это он мне говорит — ты будешь тяжело умирать, а вот я — нет. Я засну – и не проснусь. Я знаю. И прощался… Каждый день. Неделю. Месяц. Два. Три… Меня достали эти разговоры, и я как-то заявила ему: не будет Вам легкой смерти! Тоже мне, Вас послушать, так Вы прямо святой! А женщины Ваши? Да Вам за Ваше отношение к женщинам гореть в аду на сковородке! Вот зачем ляпнула? Кто за язык тянул?
Он умер к ночи. Земное отпустило его… Люде позвонили из больницы. Я слышала звонок и знала, что он означает. Но сил встать не было. Завтра приезжает Марина. День закончился. Безумный день. День космонавтики. Пасхальная неделя. Четверг. Завтра будет новый день. Уже без него. Мир будет без него. И я. «Ты самоопределишься, когда я умру».
На следующий день приехала Марина Л. Мы с ней никогда не виделись. Мы поздоровались, обнялись и… Кто мы, в сущности, были друг другу? Две недодочери, две ученицы одного человека – она первая, я – последняя… Впрочем, меня и ученицей-то назвать нельзя – поскольку ничему меня ВИР научить, похоже, так и не смог. Нет, одному научил – точно научил. Мир таков, каков ты сам. Он велик, прекрасен и непостижим. Слишком велик для одного человека. Но это мир весь умещается в тебе. Ты являешься его границей, субъектом, краем, горизонтом, началом и концом… И если в твоем мире нет места для тебя самого, если в нем все ужасно и все против тебя и ничего нельзя сделать – то это точно, совершенно точно неправда. Ведь он твой. Ты его создал. И ты можешь сделать его другим. Потому что все, что ты можешь знать о мире – это его имена. «Суть быть есть имя иметь». Что я могу знать? Что мне делать? На что надеяться? «Окликая именами разными…»
Мы поехали в больницу, в морг – договариваться, чтоб без вскрытия… Потом – в Дом престарелых. Он просил похоронить его в костюме, у него был хороший костюм, сшитый чуть ли не на заказ… С этим вышла заминка – по правилам полагается все казённое… Но, устроилось… Свои же, интернатовские, чтоб не платить моргу, обмыли, одели, положили в гроб…. Казенный. Он был узок Владиславу Ивановичу. А какие рамки были впору? Отродясь не было… У какого-то сарая или бани поставили гроб прямо на улице. Было солнце, жаркое, и легкий ветерок пушил прядку волос на лбу. Лоб был теплый. В уголке глаза блестела застывшая слеза. Он был красив. Нет, он был прекрасен…
P.S.
«Отек легких развивается двое-трое суток. Странно, что люди, имеющие медицинское образование, привозят мне человека в таком состоянии. Когда я уже ничем не могу помочь».
Реанимация – страж порога. Они все светлые. Чистые. Чистые души. Другие не держатся…
Нет, он не говорил этого. Я это выдумала. Не тогда, когда писала, а тогда еще. Я много раз рассказывала, но нет, он точно этого, слово в слово, не говорил. Но что-то такое он сказал. Или не сказал… Или подумал… Должен был подумать. Не мог не подумать. Молодой парень. «Легких нет. Их нет. Я ничего не могу сделать. Если я отключу кислород, он умрет через 20 минут. Если не отключу – кислород убьет его через пару дней». Это он точно сказал. А ту фразу – нет, не поручусь… Но кто-то же должен был сказать. Пусть он. Иначе — невыносимо…
P.P.S.
Написала я текст этот – и задумалась: а то ли я пишу? И стала его кое-кому показывать. И спрашивать: вы его видите? Вы ВИРа видите? Из текста? Какой он, видите? И никто не отвечал. Все говорили: ну да, ну да.. А один человек ответил. Одна человек. Она сказала мне: да, я его вижу. Я вижу его, но странно как-то… Потому что ты весь год рассказывала мне о нем. И ты рассказывала совершенно о другом ВИРе. О другом человеке. Об очень ярком, очень мощном, очень сильном человеке. Которому до всего было дело. У которого было идей всяких на три жизни. Который все время делал что-то, работал, разговаривал, обсуждал, учил, спорил, рисовал схемы, писал посты, и думал, думал, думал… Жадный к жизни, всегда готовый наброситься на нового человека со всей своей страстью, со всеми своими идеями и проектами… Полный планов… Полный жизни…. Всему внимающий, во все вникающий, все понимающий… А не старый и больной. И никому не нужный. И я заплакала… Я подумала – господи, что же я пишу, зачем? Ведь я предаю его, теперь все запомнят его таким, а как по-другому написать, какими словами? И что мне, собственно, писать-то – я и видела его всего три раза: один раз живого, на юбилей, второй раз почти не живого, а третий – как живого – в гробу… И кто он мне? Никто… Но вот начало нашей несостоявшейся – последней его – статьи, которая, как всё и всегда, обрывается на полуслове… Он хотел назвать ее «Субъективация субъекта». И именно этим он всю жизнь занимался. Если в одном слове сказать…
Мир катастрофически перестал умещаться в голове человека. Целостность мировидения становится все труднее поддерживать. Мир все усложняется, и вслед за этим усложняется, становится слоистым, многоуровневым мировидение человека.
Субъект как целостный человекоразмерный объект способен поддерживать целостность своего мировидения через полноту, связность, сложностность, субъектность, синхронизацию.
Главная проблема субъекта – разрыв целостности мировидения. Это проблема всегда в субъекте. Это всегда проблема субъекта, делающего выбор и принимающего решения в усложняющемся мире.
Исследовать – значит конструировать. Единственная реальность, с которой работает исследователь – это реальность, сконструированная им самим. Единственный объект исследования – он сам.
Все, что можно обнаружить в целостных объектах – это разрывы целостности.
Инструментом преодоления разрывов целостности выступает ограниченное многообразие пространства выбора и принятия решений, сводящее необозримость вариантов к нескольким инвариантам, соответствующим слоям/уровням сложности мировидения. 3 или 4 исходных элемента модели субъекта – активность, сознание, коммуникация и мировидение — дают 8 или 16 возможных сочетаний или инвариантов.
Для того, чтобы быть способным к поддержанию целостности через усложнение, субъект самодостраивает себя как сеть – метауровневого коллективно-распределенного субъекта…