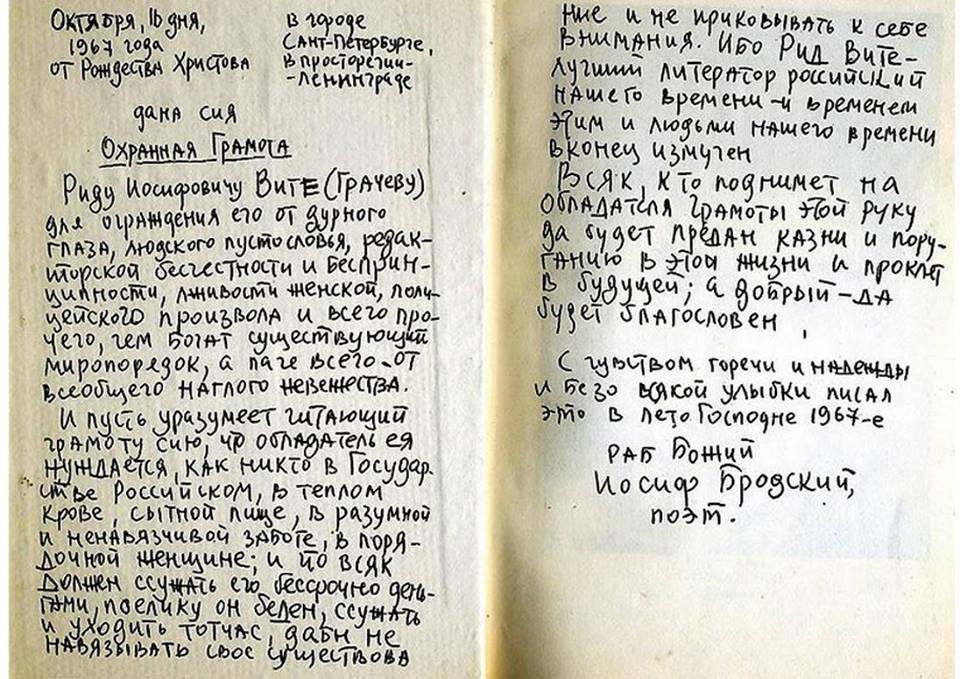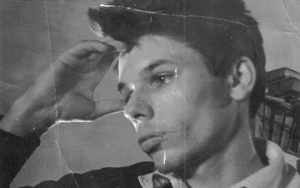Рид Грачёв — проза
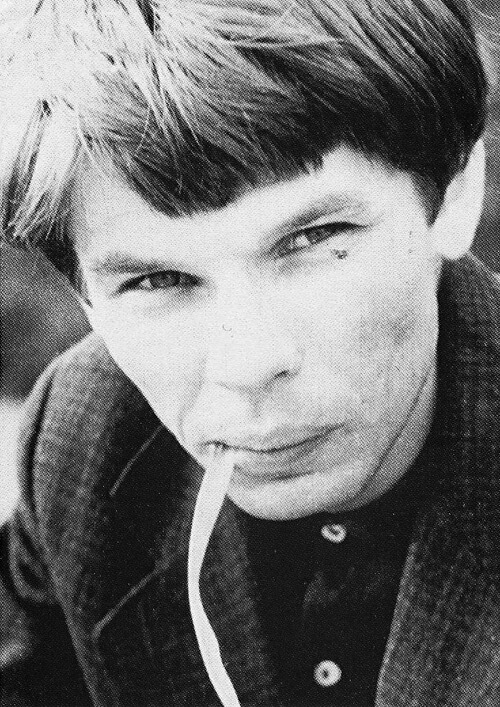
РИД ГРАЧЁВ
Рид Иосифович Грачёв
(настоящая фамилия Вите)
1935—2004
русский писатель, поэт, переводчик, эссеист.
Кому выпали посох и сума, кому — труд и глад, а Риду Грачеву досталась та же участь, что Батюшкову, горчайшая из всех, как думал Пушкин… Он в другом измерении, в другой галактике ценностей – бездомной, страшной.
МАШИНА
Утром тетка сказала:
— А почему ты не спрашиваешь, что с твоей мамой?
— А что мне спрашивать, — ответил я, — я и так знаю: мама борется с фашистами в Ленинграде.
— Твоя мама умерла, — сказала тетка.
Я спросил:
— То есть как умерла? Ее убили фашисты?
— Нет, — сказала тетка. — Она просто умерла. Ну, чего ты уставился? И не заплачет. Бесчувственный звереныш.
Потом она за творогом меня послала, по карточкам получить. Сказала, чтобы я ни с кем не играл и не разговаривал, а то творог кончится.
Наша улица под горку, а если направо идти, то в горку. Мне нужно было под горку идти.
Я иду, ни с кем не играю и не разговариваю. Потом подошел незнакомый мальчик не с нашей улицы. Мальчик в серой рубашке и босиком. Он сказал, чтобы я с ним поиграл. Я ответил, что мне нельзя, потому что я иду за творогом. Он спросил, что у меня в руке. Я показал ему тридцатку. Он спросил, почему бумага красная. Я удивился, что он не знает, и сказал ему, что это деньги. Он попросил подержать. Я дал. Он повертел тридцатку в руках и говорит мне, что там Ленин. Я спросил: «Неужели ты денег не видел?» Он ответил, что таких денег у него дома не бывает. Он спросил еще, что на них можно купить. Я сказал, что вообще не знаю и что можно творог. Он спросил, что такое творог. Я сказал, что это белое и вкусное. Он подумал и сказал, что не знает. Я тогда спросил, а что он знает. Он сказал, что знает, что такое «Торснабпрос». Я спросил, что это такое. Он сказал, что там работает его мама уборщицей. Я ему сказал, что моя тетя работает бухгалтером. Он спросил, что такое бухгалтер. Я ему объяснил. Тогда он нагнулся и потрогал мои сандалеты. Он спросил, что это такое, и сказал, что он сандалеты не знает, что зимой носят пимы, а сандалеты — это непонятно. Потом он спросил, почему у меня черные волосы, а у него белые. У него были настоящие белые волосы, и я сказал, что я не знаю, но что мне нравятся белые волосы. Тогда он сказал, что хочет будто меняться, и я сказал, что давай. Он взялся за мои волосы, и я сказал, что больно. Я взялся за его волосы, и он тоже сказал, что больно. Он потянул, и я потянул. Мы стали кричать, что нам больно, и стали тянуть за волосы. Я повернулся и увидел: машина! Я ему сказал, что машина и чтобы он отпустил. Он посмотрел и увидел, что машина, и стал кричать, чтоб я отпустил. Я сказал, чтобы сначала он, он сказал, чтобы сначала я.
Потом было: улица в гору, белое солнце, черное солнце сверху под горку прямо на нас. Быстро на нас. Солнца не видно, черное видно, видно колеса, стеклянное окно, человек за окном, и гудит-гудит-гудит. Человек не хочет на нас наехать, у него такое лицо, что он не хочет, а колеса катятся-катятся-катятся, все гудит и гремит, а солнце белое-белое-белое — нельзя смотреть.
Тогда я его отпустил и вырвался, а он побежал за мной, и было: мимо колеса, гудит, гремит, темно, быстро мимо и сразу тихо.
Тогда я закричал:
— Мальчик! Мальчик!! Мальчик!!!
Я нагнулся посмотреть. Я думал, что будет красное, но красного там не было, а почему-то желтое, и рубашка спиной вверх, а ноги пятками вниз. Не страшно совсем. Вдруг рука и черные волосы на пальцах — мои! И красное — в ухе.
Я закричал:
— Машина! Машина!! Машина!!!
Подбежали люди. Стояли, кричали. Кто видел? Он видел! Вот мальчик видел! Ах, подлец шофер! Чей мальчик? А ты чей? Он видел. Это шофер.
Я крикнул:
— Это не шофер! Это машина!
И потом кричал:
— Это машина, машина, машина!
Вот ушли и мальчика унесли. А я все кричал: «Машина!»
Тетка спросила, где деньги, а денег не было. Тогда она стала меня бить, а я вырывался и кричал:
— Машина-машина! Ой, машина!
Тетка говорила:
— Я из тебя эту дурь выбью!
Начало 60-х годов
НЕТ ГОЛОСА
Привезли нас в большой город песни петь. Кочерыгина только петь, а меня еще танцевать. А всего нас пятьдесят три. Выгрузили нас, в школе на кровати посадили, а есть не дают. Вовка Кочерыгин походил по коридору, понюхал, а ничем съедобным не пахнет, только масляной краской. Подошел ко мне, говорит:
— Давай, Мясник, я тебя съем!
Я отвечаю:
— Не надо, Кочерыжка, меня есть. Погоди, может, обедать дадут!
— А вдруг не дадут? — говорит Вовка. — Давай, я лучше у тебя руку съем, а щеками закушу…
Я говорю:
— Погоди, Кочерыжка, всегда давали, может, и сегодня дадут, а меня ты потом съешь, когда совсем еды не будет.
— Ну, ладно, — говорит Вовка, — тогда в город пойдем, чего-нибудь нашакалим.
Пошли в город. Город красивый. Пахнет хорошо по улице. Шли, шли, к фабрике пришли. Это фабрика, оказывается, хорошо пахнет.
— Шоколадом, — говорит Вовка.
— Нет, — говорю, — шахматным печеньем.
— Шахматное печенье в пекарне делают, а не на фабрике, — говорит Вовка.
— А шоколад, — говорю, — и подавно не на фабрике. Где ты видел, чтобы фабрика шоколадом пахнула. Фабрики железом пахнут.
— Другие железом пахнут, — говорит Вовка, — потому что там станки железные, а тут, наверное, из шоколада.
Постояли, понюхали, поспорили. Дальше пошли. На другую улицу пришли. Красивая улица.
— Смотри, — говорит Вовка, — кафе.
— А вот, — говорю, — ресторан.
— Нам бы чего-нибудь попроще, — говорит Вовка. — Вот, к примеру, буфет…
— Ну, буфет, — говорю. — Вот столовая. Это для нас подходяще. И пахнет лучше, чем ресторан.
Постояли, понюхали. Дальше пошли. А дальше ничем не пахнет, только цветами. Красивая улица. По бокам одни цветы. Ям нет — асфальт. Потом вином стало пахнуть.
— Эх, — говорит Вовка, — вот бы напился, а потом тебя зажарил и съел…
Я говорю:
— Вовка, а вдруг наших уже кормят!
— Постой, — говорит Вовка, — сначала найдем, где вином пахнет.
Пошли. Видим — пивная. У пивной человек стоит и хватает прохожих за рукава. Прохожие вырываются и дальше идут. А человек других хватает и на горло показывает. Мы подошли, а он Вовку схватил за рукав. У него рука рабочая. Кости там такие, рабочие.
— Вам чего? — говорит Вовка.
А человек на горло себе показывает. Сипит.
— Вам чего? — спрашивает Вовка.
Человек посипел, посипел, покашлял, потом говорит:
— Голоса нет у меня, ребята…
— А это что, — спрашивает Вовка, — чем вы тогда говорите?
Человек посмотрел на Вовку, потом на меня, и стал кричать:
— Сволочи, мерзавцы, гады, собаки, паразиты, ублюдки!
И еще другие слова, матерные. Вовка спрашивает:
— Это вы кого, нас ругаете?
А он:
— Черти, кровососы, убийцы…
И опять за горло взялся и сипит. Рукой машет. Дескать, уходите, дураки.
Мы пошли. По дороге Вовка говорит:
— Непонятно, в самом деле, как это у него голоса нет…
Я говорю:
— В самом деле, непонятно. Он же разговаривает.
— А сипит зачем? — спрашивает Вовка.
— Не знаю, — говорю. — Пусть себе сипит. Бежим, а то у меня живот к спине приклеивается.
— И у меня, — говорит Вовка. — А все равно того человека жалко.
Приходим в школу, навстречу худрук Павел Васильевич:
— Немедленно одевайтесь и в Дом культуры!
— А обедать? — спрашиваю.
— Чего ты ко мне пристал? — говорит Павел Васильевич. — Через полчаса концерт!
Вовка у ребят спрашивает:
— Обедали?
— Еще как! — отвечают.
— А мы как же?
— А вы опоздали!
Павел Васильевич опять на нас:
— Еще не одеты? Погоди, Кочерыгин, я до тебя доберусь!
— А мы, — говорит Вовка, — не обедали!
— Потом пообедаете! — говорит Павел Васильевич. — Сначала попоете! Живо одеваться!
Вовка мне говорит:
— И кому же в толк придет на желудок петь голодный!
Я говорю:
— Правильно!
Вовка говорит:
— Погоди, мы ему устроим. Пусть у нас голоса не будет!
— А как? — спрашиваю.
Тут Павел Васильевич на нас:
— До сих пор не одеты? Ну, Мартынов, держись! После концерта вы у меня с Кочерыгиным попоете!
Вовка шепчет: «Сипи!»
Я догадался и говорю одними губами:
— У нас, Павел Васильевич, голоса нет!
— Что-что? — спрашивает.
— Голоса нет!
— А-а, — говорит Павел Васильевич, — сейчас будет!
И за ухо меня.
Я говорю:
— А-а!!!
— Значит, — спрашивает, — есть? Бегом одеваться!
Он убежал, а ребята нас обступили.
— Что, Мясник, — спрашивают, — голосовые связки проверял?
— Ребята, — говорит Вовка, — это же нечестно — петь без обеда!
— Правда, — говорят, — нечестно.
— Ребята, — говорит Вовка, — давайте сделаем так, будто у нас у всех голоса нет, пока нас не накормят!
Ребята говорят:
— Так он не поверит!
Вовка говорит:
— Конечно, не поверит! А вы в знак протеста!
— Ну, — говорят, — протеста. Он нам дома такой протест устроит!
— Ладно, — говорит Вовка. — Черт с вами, с такими… Пришли в Дом культуры, построились на сцене, занавес раздвинули, и мы запели.
Вдруг Вовка меня за руку дергает:
— Не пой!
Я понял и не стал петь. И Вовка не поет. Смотрим на Павла Васильевича, рты разеваем и сипим.
А он хоть бы что — улыбается и подмигивает, чтобы веселей пели.
Вовка мне говорит:
— Не слышит!
Опять молчим. Все поют — мы не поем. Рты разеваем, на Павла Васильевича глядим.
А ему хоть бы что. Вдруг слышу, Вовка кричит:
— А мы не поем!
А он не слышит. Вовка кричит:
— Дурак, гад, сволочь!
А он не слышит.
Я кричу:
— Убийца, кровосос, очкарик!
А он не слышит! Все поют, мы кричим, а получается, будто молчим. Хор ведь громко поет!
Потом я станцевал, потому что тут никак нельзя, танцуют ведь ногами. А потом мы ужинать пошли, и Вовка мне говорит:
— А я понимаю, что такое тот человек говорил, что значит голоса нет!
— И я, — говорю, — понимаю…
Начало 60-х годов
ПОБЕДА
Серая земля, голубое небо. У картофельной шелухи белые глаза.
— Ирина Петровна, зачем мы ее закапываем так глубоко? — спросил мальчик. — Ведь она не прорастет, у нее не хватит силы.
— Будем надеяться, что хватит, — сказала Ирина Петровна. — А ты молодец, правильно заметил. Шелуха слишком тонкая.
— А до войны сажали целую картошку? — спросил мальчик.
— До войны сажали целую…
— А чей это огород? — спросил мальчик снова.
— Это огород тракториста, — ответила Ирина Петровна. — На войне он был танкистом.
— «Танковый дивизион третьей дивизии прорвал оборону противника юго-западнее Перемышля и продвинулся вперед, подавляя пехоту противника огнем…»
— Что ты там бормочешь? — спросила Ирина Петровна.
— Это я так, вспомнил… — ответил мальчик.
— Массированные танковые удары сыграли решающую роль в продвижении наших войск к границе Германии… А он на чем воевал, на «КВ»?
— Не знаю… Вот он придет, и ты спросишь, — ответила Ирина Петровна.
— Значит, он вернулся? — спросил мальчик. — А почему он сам не сажает картошку?
— Он пашет колхозные поля, — сказала Ирина Петровна, — а мы посадим ему картошку на память…
— В честь победы, — сказал мальчик, — и чтобы он нас вспоминал, когда мы уедем.
Голубое небо, серая земля. У картофельной шелухи крахмальная изнанка.
— Ирина Петровна, а это правда, что в городе мальчики будут учиться отдельно от девочек?
— Да, правда, — ответила Ирина Петровна.
— А почему? — спросил мальчик. — Мне будет скучно без нашей Нади, и без Оли, и без Октябрины.
— Считают, что совместное обучение плохо влияет на детей, — ответила Ирина Петровна. — Они слишком рано начинают целоваться…
— Я кончил уже почти три класса, — сказал мальчик, — а мне еще ни с кем не хотелось целоваться. Я дружу с Надей Южаковой… нам будет трудно дружить, если мы будем учиться в разных школах. С Надей хорошо сидеть за одной партой, она не дает мне баловаться.
— Дети разные бывают, — сказала Ирина Петровна.
— Но все равно, по-моему, это глупо.
— По-моему — тоже, — сказал мальчик. — И кто только эту глупость выдумал? Когда взрослые заставляют делать глупости, их очень трудно слушаться, правда?
— Правда, умница моя, — ответила Ирина Петровна.
— Но, может быть, ты будешь учиться вместе с девочками…
— Вместе с Надей Южаковой? — быстро спросил мальчик.
— Не знаю, — сказала Ирина Петровна. — Ты не боишься порезать руки? В земле много стекла…
— Не боюсь. Я осторожно копаю… Земля мягкая… Скажите, «может быть» или правда?
— Что — правда? — спросила Ирина Петровна.
— Вы знаете, что, — сказал мальчик. — Я вас очень-очень прошу, вы ничего не говорите, только скажите, правда
— «может быть» или неправда… Ирина Петровна! Ирина Петровна…
Серое небо, голубая земля. У картофельной шелухи черные глаза.
— …Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Я не буду спрашивать. Только Надя говорила, что она правда-правда уезжает.
— Надю вызывает тетя, — сказала Ирина Петровна. — Послушай, я боюсь за твои руки. Пойди, вытащи палку из плетня и копай палкой, как все…
— У меня тоже есть тетя, — сказал мальчик. — И даже дядя. И наш дом не разбомбили, и я помню адрес… А у Михайловых вообще никого нет, а они уезжают…
— Юре прислали вызов с завода, — сказала Ирина Петровна. — Он совершеннолетний и берет своих братишек и сестру. Когда ты подрастешь…
— Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Я никого не буду слушаться, кроме вас. Честное слово.
— Тогда послушайся меня, вытащи из плетня палку…
— Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик и ушел далеко-далеко, на край огорода, где плетень еще не был разобран на дрова.
Мальчик расшатывал стояк и смотрел, как дрожат прутья в дальнем конце плетня, где дом. Из дома вышел рыжий человек в гимнастерке, и мальчик подумал, что это танкист. Человек посмотрел на мальчика и медленно пошел к плетню. На гимнастерке качались и звенели медали.
Мальчик выдернул стояк и остался ждать, когда подойдет танкист. У танкиста было розовое лицо и сощуренные глаза, он шел медленно, и гимнастерка без ремня моталась над его длинными ногами. Танкист уже что-то говорил, но мальчик не мог разобрать слов.
— Мать твою так, — говорил танкист. — Растакую твою мать, голодранец!
— Что? — спросил мальчик, хотя он понял, что надо убегать.
— Растащили весь плетень, сучьи дети! — отчетливо объяснил танкист и протянул к мальчику волосатую руку.
Длинное голубое небо. Длинная серая земля. Ноги увязают в земле, потому что она сухая.
«Шелуха прорастет, — почему-то думает мальчик. — Дождь прибьет землю, и глазки прорастут…»
Длинное небо и очень длинная земля. Танкисту тяжело бежать. Но тихо так, что мальчику слышится хриплое дыхание совсем рядом. Над мальчиком нависает танкист. Тяжелые сапоги проваливаются в землю и топают-топают-топают у мальчика в голове. Мальчик оглядывается. За танкистом, как за танком, остается взрытая дымящаяся колея.
Длинная голубая земля. Длинное серое небо. На небе Ирина Петровна машет рукой, ребята собираются в кучу, как кусты.
«Только бы успеть до кустов», — думает мальчик.
Сверху, с земли на мальчика наваливается звенящая мокрая тяжесть. Волосатый кулак, как пушка, слепо ворочается впереди.
Мальчик побежал вбок, по серой земле протянулся плавно полукруг, звон и хрип остались сбоку. Мальчик пробежал за кусты, за ребят, стоящих как кусты, мимо белого лица Ирины Петровны.
Танкист развернулся и остановился около ребят.
— Не трогайте ребенка! — крикнула Ирина Петровна.
— Уймите паршивца, — сказал танкист. — Он весь плетень развалил.
— Простите его, — сказала Ирина Петровна. — Он травмированный.
— Какой? — задыхаясь, спросил танкист. — Я ему голову оторву!
Ирина Петровна встала перед ним, потому что он хотел бежать к мальчику.
— Он ненормальный, — сказала Ирина Петровна. — Оставьте его в покое, он больше не будет.
— Ненормальный? — спросил танкист.
— Да-да, — быстро сказала Ирина Петровна. — Ненормальный. Идите, отдыхайте, мы сегодня кончим сажать вашу картошку…
Танкист копнул сапогом землю.
— Глубоко сажаете, — сказал он. — Так не прорастет.
— Хорошо, — быстро сказала Ирина Петровна. — Будем, будем сажать мельче. Идите, пожалуйста.
Танкист уходил, медленно ступая по земле. Мальчик подошел к Ирине Петровне.
— Вы… — сказал он. — Вы… Я — нормальный. А вы… вы… Я — нормальный… А вы ненормальные.
Впереди удалялась зеленая спина танкиста.
— Я нормальный! — крикнул мальчик и побежал за ним.
Мальчик заметил у себя в руках палку и взял ее наперевес.
— Эй! — крикнул мальчик.
Спина удалялась.
— Эй, танкист!
Шея разворачивалась медленно, как башня. Блеснули щелочки глаз.
— Эй, танкист, слышишь — я нормальный! — радостно крикнул мальчик. — Ура!
Танкист выставил вперед ногу. Мальчик поднял в руках палку.
— Ура! — крикнул я. — Я нормальный! А ты — гад!
Палка стукнула танкиста в грудь. Он выбросил ногу.
Мальчик перевернулся в воздухе и упал. Потом он поднялся. Потом он долго рвал опухшими грязными пальцами мокрую, звенящую грудь и кричал торжествующе: «Я нормальный, нормальный, нормальный!!!..»
— Я отведу тебя к фельдшеру, — сказала Ирина Петровна. — Надо промыть царапины. Неужели ты не понимаешь? Он же пьяный.
— Все равно, — ответил мальчик. — Так нехорошо. Я нормальный. Не надо было вас слушаться. Не надо было брать палку. А теперь скажите — «может быть» или правда?
— Милый мальчик, — сказала Ирина Петровна. — Это правда. Правда. И я ничего не могу поделать.
— Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Пусть вы такая. Я никого не могу слушаться. Я буду слушаться только вас. Пусть в школе будут одни мальчики. Я буду мыть вам пол. Я буду ходить в магазин. Буду варить обед и учиться на одни пятерки. Возьмите меня домой. Возьмите, а?
— Мальчик мой, — сказала Ирина Петровна, — ты же умный мальчик. Воспитателям не разрешают никого брать в город. Это правда.
— Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Это я так. Понарошке. Я же понимаю. Ладно.
Мальчик зажмурил глаза.
Земля была никакая.
Небо было никакое.
Никакая была картофельная шелуха.
1967
ОДНО ЛЕТО
Листьям жарко, и они шевелятся неловко, пытаясь отряхнуть с себя белые лучи. Под деревьями зато прохладно. Здесь прозрачные травинки, и клубника здесь растет желтоватая, тоже будто прозрачная. Она сочная и нежная на вкус, не то что на полянах. На полянах клубника красная, сладкая, от сладости даже языку щекотно. И так много ее, что можно закрыть глаза и ползти, находить по запаху спелые ягоды, обрывать губами.
Натка выползла из-под березы, волоча по траве жестяную банку. Позади затихло ауканье, только изредка вспыхивал за деревьями чей-то смех. На поляне покачивались выцветшие колокольчики, и казалось, они позванивают тихонько.
Кусты дикой вишни и боярышника обступили поляну, загородили от дороги, будто прятали от прохожих ее сокровища — настоящий клубничный заповедник. Здесь пунцовые ягоды выпирают из травы, млеют на солнце, и воздух от этого густой и тягучий, как варенье.
И ни человека, ни зверя, ни бабочки какой-нибудь. Только лесные клопы неуклюже взбираются на ягоды — сытые, ленивые лесные клопы.
«Я лесная королева, — думает Натка, — а полянка эта — мое царство-государство. А красные ягоды — слуги мои. Ну, мои слуги, полезайте в банку!..»
А за кустами — другое царство. Там живет монгольский князь с раскосыми глазами. Волосы у него, как у Веры Петровны, завязаны пучком на затылке. В руках у него — лук и стрелы. Он не любит ягод. Он охотится на диких зверей…
Заворочалось что-то в кустах.
— Ой! — крикнула Натка. — Кто это?
Не отвечают. Снова заворочалось. Сучья затрещали.
— Кто там есть живой? Выходи!
— У-у-у! — провыл кто-то басом.
— И не страшно, и не страшно! — говорит Натка и отползает тихонько под деревья.
— У-у-у! — повторилось.
— Что за зверина там воет? — спрашивает Натка. Молчание. Только кусты трещат, нехорошо так, тревожно.
— Не боюсь! — крикнула Натка.
— Мы-мххх… — ответила из кустов корова.
— Я — голодный серый волк, и я тебя съем! — говорит кто-то басом в кустах.
— Сенька! — радуется Натка. — Сенька! Выходи! Я тебя узнала!
— Я не Сенька, я — серый волк!
— Никакой ты не волк! Ты — монгольский князь с раскосыми глазами. Выходи! Я лесная царевна, и я зову тебя в гости.
И тогда из листьев высунулась расцарапанная Сенькина нога, за ней вторая, а дальше и весь Сенька в голубых застиранных трусиках, рыжий, с громадными веснушками на спине и на плечах.
— Заходи, уважаемый князь, — говорит Натка и разводит плавно руками. — Здесь все принадлежит тебе, только где твоя банка?
— Тут… — Сенька показывает пальцем на живот. — Два литра влезло, наверно. А скажи, лесная царевна, отчего ты такая красивая?
— Я красивая? — Натка удивляется и краснеет от удовольствия. — Ну, чего ты, Сенька, какая же я красивая? Это… ягоды красивые. Видишь, какие?
— Нет, ты, Натка, все равно самая красивая…
— Правда, Сенька? А что у меня… ну, красивое?
— Нос красивый, — говорит Сенька, — и волосы красивые… и глаза… и язык у тебя розовый и тоже красивый…
Натка смеется. Правда, как это здорово получилось. Вылез из кустов Сенька и сказал, что она, Натка, красивая. Раньше не говорил, что красивая, да и никто не говорил.
— Пойдем домой, — говорит Сенька. — Скоро обед.
— Сейчас, только полную банку насоберу… Знаешь, Сенька, а ты тоже красивый.
— Я некрасивый, — мрачно отвечает Сенька, — я рыжий.
— Правда, рыжий… — вздыхает Натка, — но все равно красивый…
— Еще чего, — смущенно бормочет Сенька. — Давай лучше я тебе банку насоберу.
— Не сумеешь, Сенька, я сама…
— Ну да, не сумею! Знаешь, я лучший собиралыцик клубники из всех князей, из всех королей! Вот посчитай до ста, нет… до двести.
— Раз-два-три-четыре-пятъ-шесть…
Натка лежит на траве, глаза прикрыла и посматривает сквозь ресницы на Сеньку. А он ползает по траве и пыхтит, пыхтит…
Не успеет Сенька, зря похвалился…
— Натка, вставай, готово!
Спит она, что ли? Губы приоткрылись, зубки влажные, а дальше темно и тепло, наверное, как в печке. Выбилась из-под косынки прядь, пересекла Натке щеку и приподнимается слегка от дыхания. Красивая Натка!
Сенька встал на колени, банку рядом поставил, наклонился над Наткой, заглянул под ресницы.
— Не спишь вовсе. Вставай, притвора!
— Ох, я спала, спала, — говорит Натка, протирая кулаком ясные глаза. — А ты уже кончил? Ну, пошли…
С лесной стороны дорога плотная, вся в узелках корней, а с полевой пыльная и сухая. Там ромашки на меже с васильками вперемешку. Белое и желтое одолевает голубое. Дальше пшеница стоит, и от блестящих стеблей падают на ровную землю маленькие тонкие тени. Сизые капустные грядки спускаются к озеру. Оно круглое и голубое, как небо. Только облачко, белое, круто взбитое, застряло посередине, и дальше крадется по горизонту клокастое синее мелколесье.
— Ой, вляпалась!
Стоит Натка на одной ноге, а другая зеленая по щиколотку… Посреди дороги свежий коровий блин.
— Помоги, Сенька!
Оперлась Натка на острое Сенькино плечо, ногу вытирает пучком травы. Пальцы у Натки мягкие, и кожа на ладони гладкая-гладкая.
— Отчего у тебя такая гладкая кожа? — Сенька осторожно дотрагивается пальцами до ее руки. — А у меня вон какая…
У Сеньки вся рука в цыпках, пальцы красные и под ногтями темно.
— Не знаю, — отвечает Натка, — почему она у тебя такая. — И гладит легонько Сенькину некрасивую лапу.
Дальше пошли. У Сеньки в одной руке банка, а в другой — Наткины пальчики. Держит их Натка послушно в Сенькиной руке, не вырывает.
Кончился лес, луг начался, ветер дует, выворачивает листики клевера на бархатную изнанку. Пчелы летают. И корова стоит, черная, комолая, белые пятна по бокам.
— У-у, противная! — кричит Сенька.
— У-у, противная, — повторяет Натка.
— Мых-х-х… — ответила равнодушно корова, приподняла морду, жует свою жвачку, будто не она блин оставила на дороге.
— Ну ее, неряху! — говорит Натка. — А мы птенчика вчера поймали, щегленка. Он живой был сначала, а потом Женька Потапова с ним поигралась, и умер щегленок…
— А мы вчера блиндаж выкопали, — говорит Сенька, — настоящий, с крышей. Все копали, а Вовка Кондрацкий один туда залез, в нас глиной кидался, никого не пустил.
— Задавала Кондрацкий!
— Правда, задавала, — отвечает Сенька и думает: «Молодец Натка, правильно говорит».
— Ой!
— Чего ты, Сенька?
— Пчела укусила…
— Вот какая… злая. А ты пососи руку, пройдет. Только как ее пососать, когда рука Наткины пальцы держит? Натка нечаянно крепче сжимает Сенькину .ладошку и поднимает ее. Пухнет понемногу большой палец у Сеньки.
— Что, Сень, больно?
— Пустяк, — геройски отвечает Сенька.
Миновали луг. Разметался по земле горох, перепутался, выглядывают из-под листьев лоснящиеся бока стручков.
— Сенька, ты смелый?
— Смелый, конечно.
— А что я тебе скажу — сделаешь?
— Сделаю, конечно.
— Горошку сорвешь?
— Нельзя, — вздыхает Сенька, — это будет воровство…
— Нет, Сенечка, я разве стручки прошу? Ты цветочки только сорви…
— Ладно…
Протянул руку, дернул стебель, а он весь выдернулся, с корнем.
— Правда, Сенька, ты храбрый… Это ведь ничего, что там нечаянно стручки остались. Мы ведь цветочки хотели! Мы не знали, что там и стручки есть… Давай съедим их, а?
Вот и дача показалась. За амбаром носятся малыши, вздымая черную пыль. Под ногами у них мячик, связанный из чулок. Маленький, еле видно.
Сеньке не по себе. Увидят — дразниться будут. Скажут: «Во, девчоночник идет, за ручку!» Попытался выдернуть руку, а Натка крепко держит, не замечает. Хорошо Натке, а отчего — сама не знает. Вот малыши бегают — хорошие малыши. Курица присела, под амбар голову засунула — смешная курица…
— Смотри, Сенька, курица!
— Вижу…
— Бежим, Сенька!
— Бежим…
Прямо в середку, в самую схватку врезались, в мелькание голых локтей и голых коленей. Расступились малыши, тянут к Натке чумазые руки:
— Натка, дай клубничнику!
— Дай ягоднику, Натка!
— Мне одну только!
— И мне одну!
Величаво поднимает Натка руку, зачерпывает из банки пригоршнями. Оделяет щедро всех. Довольны малыши, и ей хорошо, не жалко.
— Не жалко, Сенька, правда, не жалко? Мы еще наберем…
«Добрая Натка, — думает Сенька, — хорошая девчонка. Вовка Кондрацкий хуже…»
И вдруг… Ох, какая злая идет Вера Петровна!
— Ты где шляешься, шалопай? Трясется сердито узел на ее голове.
— Он не виноват, Вера Петровна, его пчела укусила!
— Ты не суйся. Григорьев — в изолятор!
В изоляторе нет окошек, а дверь заперта снаружи. Но все светло. Потому что между трухлявыми бревнами щели светятся. Только дверь совсем темная. Узкий лучик тянется к стене из пробоя. Пахнет гнилым деревом и дегтем. Дегтем — от аптечки, которая в углу стоит.
Отчего вдруг стало так плохо жить на белом свете? Обида, и комок застрял в горле. Ничего нельзя без спросу делать — ни в лес сходить, ни купаться. А теперь — без обеда. И есть как раз хочется. Быстро ягоды переварились. Да и не хочется ягод. Супу бы, с лапшой. Натку, наверно, тоже без обеда оставят…
Сидит Сенька в углу на своих ногах и чувствует, как ему плохо живется на свете. И палец распух, болит…
На стене пятно бледнеет, шевелится в нем что-то… О-о, здорово! Перевернутые люди ходят по стене, не люди даже, а маленькие тени людей. Интересно как! Забор видно… Много людей идет куда-то. Обедать…
И правда, звенят поблизости ложки. У соседнего амбара столовая под навесом. Эх, проползти бы незаметно и зачерпнуть из котла полную поварешку!
— Сенька, Сенька… — шепчет кто-то за стеной. — Лови…
Из щели падает на пол картофельная лепешка, вся в масле.
— Натка?
В щелку видны Наткины глаза и немножко нос.
— Плохо тебе, Сенечка?
— Ничего…
— Ты потерпи, ладно?
— Да мне что, в первый раз, что ли…
— Держи еще! Верка идет…
Убежала Натка. Сенька сидит довольный, уплетает лепешки. Жалко, что Натка не мальчишка. Из нее бы хороший друг получился. А как это я ей сказал: «Красивая ты, Натка!» Правда, красивая и хорошая.
Отодвинули засов, дверь распахнулась. Ой, сколько света, и жарко как на улице! На пороге черная Вера Петровна.
— В последний раз прощаю. Иди на кухню обедать и сразу спать!
Похлебал Сенька холодного супу, лепешки съел, а на компот еле живота хватило. Ноги решил не мыть, проскользнул в амбар, накрылся одеялом с головой. Не видно его и не слышно. Спит Сенька.
А Натка не спит. Не спится Натке. Думает про Сеньку и про все, как сегодня было. Хочется Натке рассказать кому-нибудь, какой интересный был день до обеда и как Сеньку в изолятор посадили.
— Потапова, ты спишь? Женька… Кто, по-твоему, из мальчишек самый лучший?
— Вовка Кондрацкий… а по-твоему?
— А по-моему, угадай кто?
— Тоже Вовка.
— Не Вовка, а на букву «эс». Самый лучший… не скажу кто.
Вспоминает Натка Сеньку и придумывает, как после мертвого часа выпустят Сеньку и пойдут они вместе на пруд. Он будет головастиков ловить, а она банку держать. А потом пойдут в лес, и Сенька будет учить ее лазить на деревья…
— Кто в попа-загонялу? Кто в попа-загонялу?
— Я! — кричит Сенька. — Я хочу в попа-загонялу!
Вовка Кондрацкий набирает команду. В руке он держит биту и показывает концом, кого он себе берет.
— И ты, рыжий, хочешь?
Щурит глаза насмешливо.
— Хочу…
— А с девчонками играть больше не хочешь?
Откуда он только знает?
— Я в попа-загонялу хочу.
— Нет, рыжий, иди к девчонкам.
«А что он, — думает Сенька, — это он меня на пушку берет».
— И не играл я с девчонками.
— Не играл, говоришь?
— Нет…
— А с Наткой кто за ручку ходил? А горох кто на поле рвал? Думаешь, Кондрацкий не знает? Кондрацкий все знает… Отойди, ну!
— Вовка, Вовка, возьми меня! (Эх, зря я с этой Наткой связался!) Возьми, Вовка, я больше не буду!
— Не будешь, говоришь? А докажешь?
— Докажу…
Натка стоит на крыльце и смотрит на мальчишек. Вон Вовка, а рядом Сенька. Неудобно Натке при мальчишках Сеньку звать. «Подожду, пока уйдут».
— Во-он она, твоя Натка! — говорит Кондрацкий. — Смотри, тебя ждет.
От этого ехидства внутри у Сеньки становится холодно, гусиная кожа покрывает руки.
— Ну, иди, рыжий, чего стоишь?
— Не пойду я…
— Ладно, я тебя беру…
Что это? Сжалился Вовка? Непохоже на него.
— …только с уговором, согласен?
— Согласен.
— Ты пойдешь к Натке и… что бы такое, а? Ладно, просто дерни за косичку.
— За косичку?
— Что, жалко? Не можешь? Эх ты, трус рыжий!
— И не трус я…
— Не можешь, рыжий, не можешь.
В голове у Сеньки каша: поп-загоняла, Натка, Вовка… «Вот пойду и дерну, докажу!»
А Натка видит, что Сенька к ней идет, и радуется. Хочется сказать ему что-то хорошее. Краснеет Натка, потому что видит: смотрят на нее мальчишки, а Вовка что-то говорит и кивает на нее.
— Выпустили тебя, Сенька?
— Выпустили. Обедать дали…
— А сейчас что будешь делать?
— Играть…
— А я хотела головастиков ловить. И на дерево залезть. Пойдем?
— Не, Натка…
— Ну пойдем, Сенечка!
— Нельзя, Натка!
Оглядывается Сенька, а там Вовка злорадно головой качает…
Тяжелая стала рука у Сеньки, никак не поднять.
— Натка!
— Что?
— Вот…
Дотянулся Сенька до косички, дернул слегка.
— Что ты делаешь, больно!
— Прости, Натка, я нечаянно…
— Сенька! Мы ушли!
Это Вовка кричит: «Мы ушли, рыжий! Оставайся, трус несчастный!»
Засмеялись мальчишки, побежали к воротам.
— У-у-у! — взвыл Сенька. Схватил косичку, дернул изо всех сил. — Ой, подождите, Вовка! Я уже…
Брызнули у Натки слезы. Спрыгнул Сенька с крыльца и легко-легко помчался за мальчишками.
— Сенечка, что ты…
Ничего не понимает Натка. Было солнышко, клубника. Ведь было! И горох Сенька для нее рвал. «Ты, Натка, самая красивая».
Ничего не понимает Натка, и от этого текут у нее крупные слезинки. Солоно во рту и горько.
Побежала Натка в спальню — хорошо, что нет никого, — бросилась на кровать и заплакала, и заплакала, в подушку уткнулась. Теплая подушка, мягкая. Плотная. И там, где капают горькие Наткины слезы, наволочка становится холодной и твердой.
А Сенька убежал с мальчишками далеко-далеко по дороге, к пыльным зарослям лопухов, к пустынному выгону, покрытому короткой травой…
Начало 60-х годов
ПОДОЗРЕНИЕ
С утра все ходили мрачные. Но разговаривали громко, потому что, если бы кто-нибудь увидел, что кто-то с кем-то шепчется, он мог бы подумать, что тут дело нечисто.
— Валька, после завтрака к Аннушке!
После завтрака к Аннушке? Вот это штука!
— А кого еще вызывают? — спросил я.
— Аннушка сказала — только тебя! — крикнул Шурка Озеров.
Неужели за то? Неужели на меня думают?
Я подошел к Шурке Озерову. Хотел спросить, за что меня вызывают. Но Шурка подумал, что я хочу тихо его спрашивать. Он отодвинулся и встал за кровать.
— Ну, чего ты? — спросил я.
— Не подходи! — крикнул Шурка.
— Дурак, — сказал я. — А за что вызывают, не знаешь?
— За то самое…
Все посмотрели на меня, а потом на Шурку.
— Вот эт-та да-а! — сказал Толька Яковлев совсем так, как говорит столяр дядя Вася.
Тогда я обозлился.
— Ну, чего на меня уставились?! Дурак болтает, а вы слушаете!
Шурка смолчал. И все перестали на меня смотреть, потому что я крикнул. Если бы я не крикнул, на меня бы неизвестно что подумали.
Мы пошли завтракать. Петр Михайлович, как обычно, проверял перед столовой руки. Только он на этот раз заглядывал в глаза всем подряд.
И все смотрели ему в глаза, потому что Петр Михайлович считал, что честный человек всегда будет прямо смотреть в глаза.
Когда очередь дошла до меня, я подумал, что тоже посмотрю ему в глаза.
Петр Михайлович взял мою руку в свою и засучил мне немного рукав. Ладошки у нас были всегда более или менее чистые, а вот дальше могло быть чуть грязнее. Но на этот раз руки у меня были чистые до локтя. Я вымыл их еще с вечера, когда испачкался в чернилах. Мы разливали чернила в непроливашки, вот я и испачкался.
Петр Михайлович задержал мою руку. Я забыл, что надо смотреть ему в глаза, и посмотрел, где он у меня на руке грязь увидел.
Грязи нигде не было. Петр Михайлович легонько толкнул меня в спину, как он всегда делал, если все было в порядке.
Когда мы уселись за стол, пришла Анна Семеновна. В этом тоже не было ничего необычного. Она любила смотреть, как мы едим. Особенно ей нравилось поймать кого-нибудь, кто прячет в карман хлеб. Она заставляла тогда есть хлеб от завтрака на обеде, а от обеда — на ужине. Ну, а от ужина хлеб уже не полагался. Если человек не съедает того, что ему дают, значит он не хочет. Это всем понятно.
Анна Семеновна ходила взад и вперед по столовой и хрустела пальцами. Было слышно, как она хрустит пальцами, потому что все перестали есть и смотрели потихоньку, как она переживает. А переживала она здорово. Я подумал, что так можно все пальцы переломать.
Потом она резко повернулась на каблуках и вышла из столовой.
После завтрака наша группа была у столярки. Копали ямы для столов. Любовь Марковна была там же. Я подошел и сказал:
— Любовь Марковна, дайте мне лопату.
Я думал, она будет ругаться, что я опоздал, но она сказала:
— У Анны Семеновны был?
— Нет еще. А что?
— Ничего, — сказала Любовь Марковна. — Тогда копай.
Я подумал, что пронесло. Стал копать. И увидел, что нет Шурки Озерова и Тольки Яковлева.
Соседнюю яму копал Вовка Кондрацкий. Я подошел к нему и спросил:
— Где Шурка? Где Толька?
— Громче спрашивай! — крикнул Вовка.
И я понял, что еще не пронесло, что с «тем самым» еще ничего не выяснили.
Смотрю — Шурка Озеров идет.
— Валька, к Анне Семеновне!
Анна Семеновна ходила взад и вперед по кабинету. Она до сих пор не перестала переживать. Пальцы так и хрустели. Она подошла ко мне и взяла за плечи.
— Смотри мне в глаза! — сказала она.
Я стал смотреть. Глаза у Анны Семеновны были коричневые, с желтыми прожилками, белки сплошь в красных веточках, даже страшно стало.
Анна Семеновна тоже стала смотреть. Она наклоняла голову направо и налево, отодвигалась и приближалась. Что она только разглядывала, до сих пор не пойму!
— Ты знаешь, Мартынов, — сказала она, — случилась крупная неприятность.
— Какая? — спросил я, глядя ей в глаза.
— Ты не знаешь, какая?
— Нет, — сказал я.
— А почему ты покраснел?
— А не покраснел, — сказал я.
— Ну, как же не покраснел! Вон щеки какие красные!
— Они у меня всегда такие.
— И лоб всегда такой?
— И лоб такой… Анна Семеновна, можно мигнуть?
— Мигни, пожалуйста, — сказала она.
Я мигнул. У меня уже глаза устали смотреть на Анну Семеновну.
— Ну, так не знаешь?
— Нет…
— Тогда я тебе скажу.
Она подошла к открытому шкафу, где лежали тетради.
— Ты ведь знаешь этот шкаф? — спросила она.
— Знаю, — сказал я.
— Ты его не открывал случайно?
— Я не случайно, — сказал я.
— Так, значит, нарочно?
— Ну да…
— А что тебе в нем понадобилось?
— Мне ничего не понадобилось, — сказал я. — Я непроливашки туда ставил. Вот эти.
— А потом? — спросила Анна Семеновна.
— А потом я закрыл и ушел. Вы же здесь были, Анна Семеновна, когда я уходил.
— Это верно. — Анна Семеновна замолчала.
Я смотрел на нее, а на шкаф не смотрел. Подумает еще что-нибудь.
— А что на той полке лежало, ты не помнишь?
— Помню, — сказал я. — Там лежали тетради.
— И…
— Что — «и»?
— И что еще?
— И эти, как их…
— А почему ты покраснел?
— Да не покраснел я, Анна Семеновна!
— Как же не покраснел! Ты и в тот раз покраснел. И теперь снова.
— Ну и что, что покраснел? — сказал я. — Там лежали еще резинки и карандаши. А больше я ничего не знаю.
— Правильно, — сказала Анна Семеновна. — А теперь смотри мне в глаза и говори, откуда ты знаешь, что там лежали резинки и карандаши.
Вот когда она меня поймала! Мне не полагалось знать, что лежало в коробках на той полке. Но я знал, потому что, когда ставил непроливашки, открыл коробки и посмотрел, что там лежит. Нельзя было удержаться!
— Я не брал, Анна Семеновна! Я только посмотрел, — сказал я.
— А я и не думаю, что ты брал, — сказала Анна Семеновна. — Ты ведь честный мальчик и никогда не станешь брать без спросу.
— Ну, конечно.
Я и не думал, что так легко отделаюсь.
— Смотри мне в глаза, — сказала Анна Семеновна и снова взяла меня за плечи. — Ты честный мальчик, и сейчас мне все-все расскажешь по порядку. Я отпущу тебя, и мы больше никогда не будем об этом вспоминать. Только говори правду.
И она опять стала меня разглядывать. Я молчал, потому что не знал, какую еще правду ей от меня надо.
— Ну, что же?
— Я не об этом, — сказала Анна Семеновна. — Мы уже договорились, что ты не брал. Все будут знать, что ты не брал, а мне ты расскажешь все, как было.
Вот привязалась! Скажи ей да скажи! Выдумывать я буду, что ли?
— Ну, хочешь, я помогу тебе? Была ночь… Ведь правда?
— Ну, была, — сказал я.
— И ты спал.
— Ну, спал…
— Потом ты проснулся… ночью.
— Правильно, проснулся…
Откуда она только узнала, что я ночью просыпался? И наябедничать никто не мог, потому что я не вставал. Полежал тихо и снова заснул.
— Ну, рассказывай дальше!
— А потом я снова заснул.
— Это я знаю, — сказала Анна Семеновна. — Потом ты заснул и спал до утра. Я не знаю только, что ты делал, когда проснулся.
— Я полежал немножко…
— И…
— И заснул.
— Да нет, — раздраженно сказала Анна Семеновна, — ты не то говоришь. Это мы всем остальным расскажем. А мне ты по-другому, по-настоящему расскажи!
— Да это и есть по-настоящему, — сказал я. — Я заснул и проснулся утром, Анна Семеновна, честное слово!
— А почему ты покраснел?
— Не знаю.
— Встань туда, — Анна Семеновна показала рукой на шкаф. — Повернись лицом к шкафу! Так… А теперь слушай. Я расскажу тебе то, чего ты не хочешь рассказать сам.
Я стал смотреть на пустую полку, а она стала рассказывать:
— Ты проснулся ночью и увидел, что все спят. Тогда ты тихонько слез с кровати и надел туфли…
Она замолчала. Она хотела посмотреть, как я к этому отнесусь. Но я никак не отнесся. Пусть выдумывает дальше! А там видно будет.
— Надел туфли, — повторила она. — Те самые, которые сейчас на тебе. У них очень заметный след, правда?
— Правда, — сказал я. На подошвах моих туфель были рубчики.
— Потом ты тихо вышел из спальни и тихо пошел по коридору… Ты дошел до уборной. Правильно я говорю?
— Не ходил я в уборную! — крикнул я.
— Разве я сказала, что ты ходил в уборную? Я сказала: «Дошел до уборной». Потом ты увидел Сонечку…
— Да не видел я никакой Сонечки!
— Ну как же не видел, раз она тебя видела?
— Эта дура ничего не видела! Она выдумала!
— Нехорошо, Валя, называть Сонечку дурой, — мягко сказала Анна Семеновна. — Ты же знаешь, что она инвалид. Она же не виновата в этом.
— Инвалид… Болтает сама не знает что своим язычиной!
— Да, — сказала Анна Семеновна, — у Сонечки парализован язык, а если ты будешь таким злым, и у тебя парализует… Но не это главное. Она тебя видела, и ты ее увидел. Тогда ты зашел в уборную…
— Да не ходил же я!
— Постой, — сказала Анна Семеновна. — Ты не хотел сам рассказывать, так слушай. Потом ты тихонько вышел из уборной и увидел, что Сонечка уснула. Ты открыл окно в коридоре! — сказала она вдруг, повышая голос. — Ты вылез из окна и пошел вдоль барака!
Я представил себе, как я вылезаю из окна темной ночью и иду вдоль барака, спотыкаясь и скользя по мокрой глине. Мне стало холодно и страшно. По спине побежали мурашки.
— Ты смелый мальчик, — сказала Анна Семеновна. — Никто из ребят не решился бы выходить на улицу в такую темную, дождливую ночь. Но ты шел!
— Честное слово, я бы тоже побоялся.
— Разве ты не смелый? — спросила Анна Семеновна.
— Не знаю, — сказал я.
— Нет, ты — все-таки смелый. Выйти на улицу ночью — еще куда ни шло, но ты добрался до окна кабинета и открыл его. Как это ты сделал, сама не пойму! Снаружи открыть окно и ничего не сломать, причем в темноте. Ну и ловкий же ты!
— А чего здесь сложного! — сказал я. — Это все умеют.
— Вот интересно! — сказала Анна Семеновна. — Ну-ка, покажи! Хотя нет, постой, лучше расскажи.
— Я бы рассказал, — сказал я, — но это не я придумал.
Я не знал, как выпутаться. Сболтнул сдуру, что умею форточку открывать, а теперь она узнает, и нельзя будет по вечерам удирать в городской сад.
— Это неважно, что не ты, — сказала Анна Семеновна. — Ты не бойся: все останется между нами.
— Давайте, я лучше покажу, — сказал я.
— Нет, нет, — сказала она. — Расскажи лучше, что было дальше.
— А что было дальше?
— Ну, ну, после того, как ты открыл форточку.
— Так я же вообще умею, я в тот раз не открывал…
— Ты открыл окно?
— Нет, окно я не умею.
— Если не окно, так форточку. Это не так важно, — сказала Анна Семеновна. — Мы остановились на том, как ты пролез в форточку и подошел туда, где ты сейчас стоишь. Шкаф был закрыт на замок…
— Не был он закрыт на замок, Анна Семеновна! Когда я уходил, не было замка!
— Ну, вот, видишь, ты почти все и рассказал!
— Вечером не было замка.
— Ах, вечером, — сказала Анна Семеновна. — А почему ты покраснел?
— Анна Семеновна, — сказал я, — честное-пречестное слово, ничего такого не было! Не брал я тетрадей, не брал карандашей!
— А резинки? — спросила Анна Семеновна. — Может быть, все остальное взял кто-нибудь другой?
— Конечно, кто-нибудь другой, — сказал я.
— А ты — только резинки…
— Не брал я резинок, Анна Семеновна! Вы же знаете, я никогда ничего не брал. Меня же никогда не ловили на таком…
— По-твоему, не пойманный — не вор? — спросила Анна Семеновна.
— Не знаю, — сказал я. — Только я не вор, и зря вы на меня говорите…
Анна Семеновна встала и взяла меня за плечи. Она подвела меня к окну и сказала:
— Я знаю, что ты мальчик честный и не вор, но один раз тебя, как говорится, лукавый попутал. Я понимаю, тебе очень хочется, чтобы этого не было. Ты очень жалеешь, что это случилось, и никогда больше не будешь ничего брать…
— Анна Семеновна! — сказал я. — Никакой меня лукавый не путал, не знаю я, чего вам от меня надо, не хочу больше здесь стоять.
— А это чей след? Разве не лукавого? — торжествующе спросила Анна Семеновна.
На желтой глине у самого окна был отчетливый след от туфли. Бороздки в нем были точно такие, как рубчики на моей туфле.
— Узнаешь? — спросила Анна Семеновна.
— Так ведь у всех такие туфли, не у меня только, — сказал я.
— Но ведь размер твой! Хочешь, сходим померяем?
— Нет, — сказал я и топнул ногой. — Нет, это неправда. Это не мой след. Не брал я тетрадей, не брал карандашей, не брал резинок. — И я еще раз топнул ногой.
— Не топай ногой, Валя, — подозрительно ласково сказала Анна Семеновна. — Не ты, так не ты. Иди гуляй. Я никому не скажу о том, что здесь было. Я думала, у тебя хватит мужества признаться. А ты разнервничался, как девчонка. Иди! Я заплачу за тетради из своего кармана. Не думай, что он такой у меня большой. Просто я не хочу, чтобы ребята к началу учебного года остались без тетрадей. И пусть то, что лежит на твоей совести, будет тебя вечно мучить. Ты свободен, иди!
Я вышел из кабинета злой. Ведь было же совершенно ясно, что это не я. Я походил по коридору и придумал, что делать. Меня мучило что-то. Не совесть, а что-то другое. Я подумал, что, если сделаю то, что решил, это не будет меня мучить.
Я вернулся к кабинету и постучал.
— Войди, — сказала равнодушным голосом Анна Семеновна.
Она будто знала, что я вернусь.
— Анна Семеновна, — спросил я, — а какие там тетради были? В клеточку или в линеечку?
— Пятьдесят в клеточку и пятьдесят в линеечку, — сказала она как-то нехотя, не поднимая головы от бумаг.
Я не знаю, что она подумала насчет моего вопроса, но почему-то ответила.
— А карандашей была одна коробка?
— Одна, — сказала Анна Семеновна.
— А резинок?
— Тоже одна.
— Ладно, — сказал я. — Спасибо, Анна Семеновна. — Мне хотелось сказать ей, что я принесу все это, но я подумал, что лучше потом. Пусть-ка она удивится! И пусть на меня не думает.
Деньги у меня были. Я их заработал, когда был книгоношей в библиотеке до отъезда на дачу. Побежал в магазин.
— Дайте сто тетрадей, и коробку карандашей, и коробку резинок! — сказал я.
— Сколько, сколько? — спросила продавщица. Я повторил.
— Поди-ка сюда! — сказала продавщица.
Она протянула руку и дотронулась до моего лба.
— Холодный, — сказала она удивленно.
— А что? — спросил я.
— Я думала, у тебя температура.
— А разве нельзя? — спросил я.
— Да у тебя и денег-то столько нет, — сказала продавщица.
— А сколько надо?
Она посчитала на счетах и сказала:
— Тридцать шесть восемьдесят!
— Ого! А откуда вы знаете, что у меня нет?
Я сказал это, чтобы выиграть время. Надо было быстро решать, что делать. Денег не хватало. У меня было ровно тридцать. Я стал вспоминать, как поступили два мальчика из Одессы, у которых не хватало денег на электрическую машину. Они, кажется, купили что-то другое. Мне же нельзя было покупать другое.
Продавщица сказала:
— Ты же еще не работаешь.
— Откуда вы знаете? — Я показал ей свои деньги в кулаке.
— Да я все равно столько тетрадей тебе не дам, — сказала продавщица. — На что тебе столько?
— Как на что? Писать!
— Иди домой, — сказала продавщица. — Нечего тут торчать. Можно пять штук…
— А наши ребята на чем будут писать? — спросил я.
— Какие — ваши?
И я понял, что мне повезло.
— Наши, детдомовские, — сказал я.
— С этого бы и начинал.
Продавщица провела меня за прилавок. Стала выписывать счет. Я сказал, чтобы всего было на тридцать рублей. Черт с ним! Накоплю еще и куплю остальные. Она отсчитала мне пятьдесят тетрадей в клеточку и четырнадцать в линеечку. И дала коробку карандашей и коробку чернильных резинок.
— Иди теперь, — сказала она и отвернулась.
И напрасно отвернулась, потому что я схватил полную пачку тетрадей в линеечку и бросил на пол неполную. Сам не знаю, как это у меня вышло.
— Что ты там на пол бросаешь? — спросила продавщица.
Я стал удивительно спокоен и ловок. Я сказал:
— Так, это тетради.
— Ну, беги, — сказала продавщица.
И я побежал. Да еще как!
Я понял, что за мной не гонятся, только когда прибежал к бараку. Я снял курточку, накрыл ею свою ношу и вбежал в коридор. Расталкивая встречных, я влетел без стука в кабинет и положил тетради и коробки Анне Семеновне на стол.
Анна Семеновна встала из-за стола и посмотрела на меня восхищенно.
— Я не ошиблась в тебе, — сказала она. — Молодец! — И поцеловала меня в лоб.
Это показалось мне странным.
— И все остается между нами, — сказала она. — Я верила в тебя!
Что там остается между нами? Что я свои деньги истратил? Вот новость! Я, конечно, не сказал ей, что на свои купил. Я даже счет по дороге порвал и выбросил. Но она-то откуда об этом знает?
— И не думайте на меня всякое разное, — сказал я с упреком.
— Ну, конечно, нет! — сказала она нежным голосом, и я понял, что она ничего не заметила.
— Валька признался! — услышал я писк какой-то девчонки, которая подло подслушивала у двери.
И по всем спальням зажужжало:
— Валька признался! Валька признался!
И сразу стало тихо, потому что все поняли, что бояться нечего.
Ко мне подошел Шурка Озеров, а за ним Толька Яковлев.
— Дурак, что признался, — сказал Шурка Озеров тихо. — Мы с Толькой не признались.
— А я и не признавался. Я на свои купил.
— Ну и дурак! — сказал Толька.
— Она к нам и так и этак приставала, — сказал Шурка.
— «Это, — говорит, — твой след на глине…»
— «Ты, — говорит, — ночью ходил…»
— «Тебя, — говорит, — Сонечка видела…»
— А ты не краснел? — спросил я Тольку.
— Нет, — сказал он.
— А ты? — спросил я Шурку.
— И я нет, — сказал Шурка.
— А я краснел, — сказал я.
— Ну и дурак, — сказал Шурка.
1959