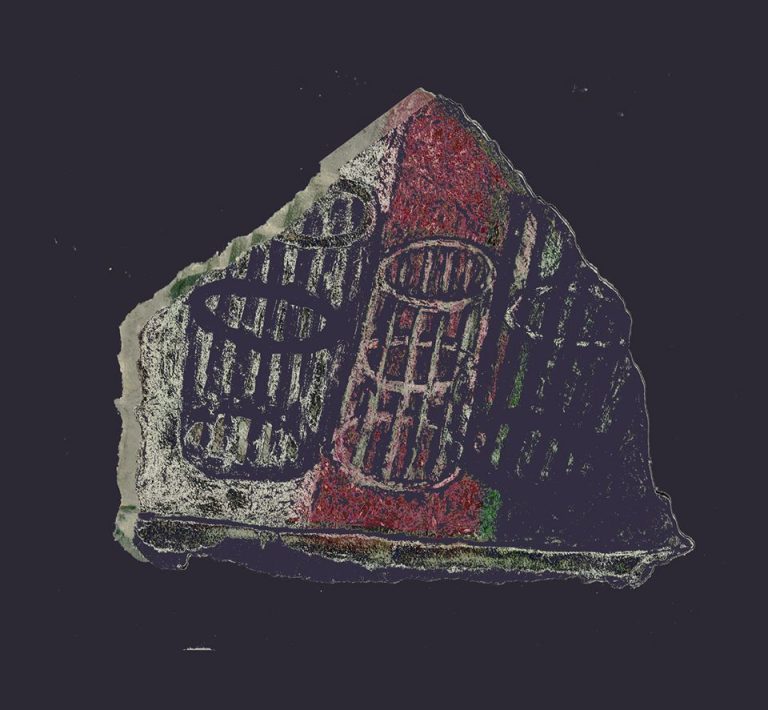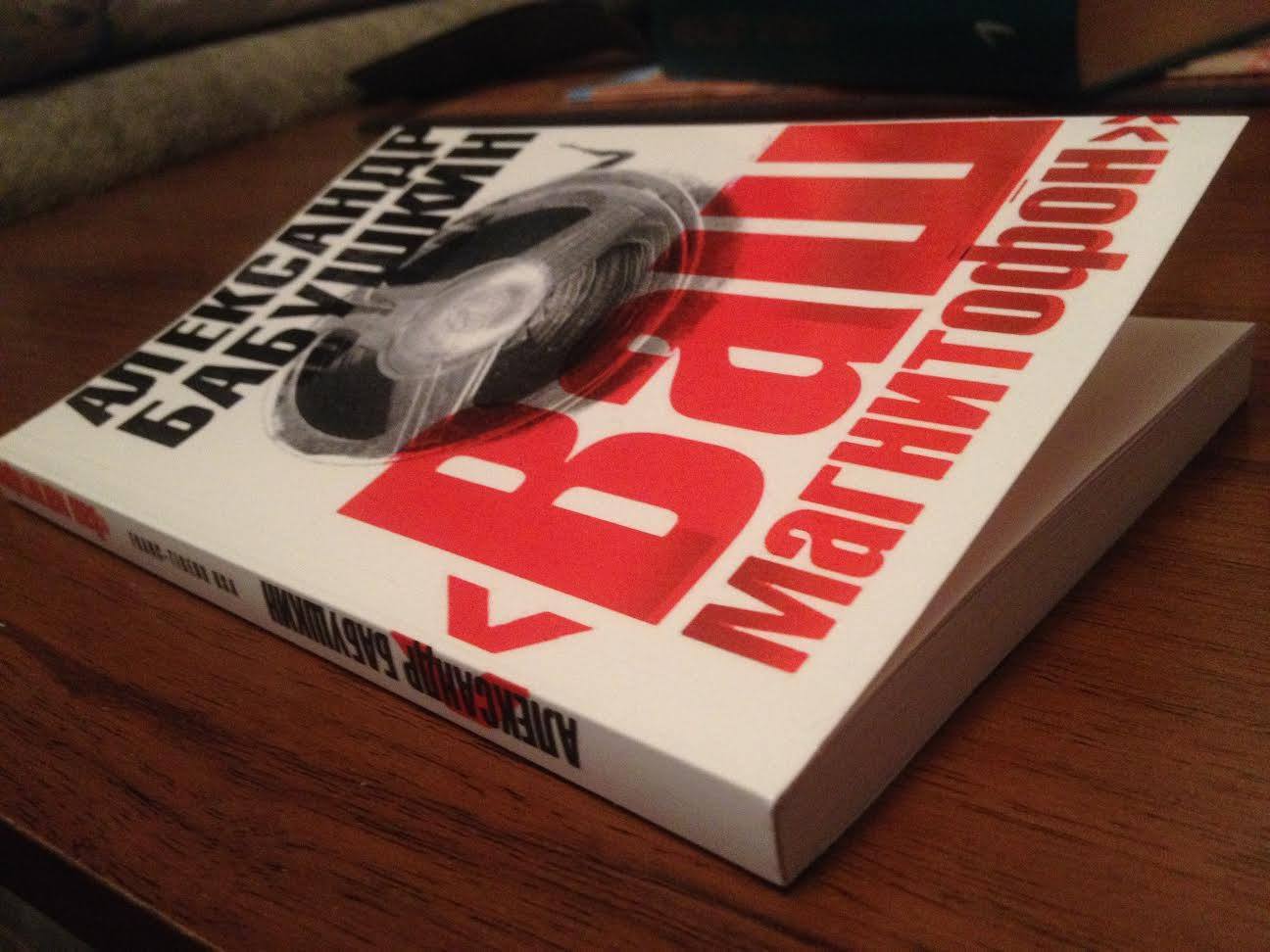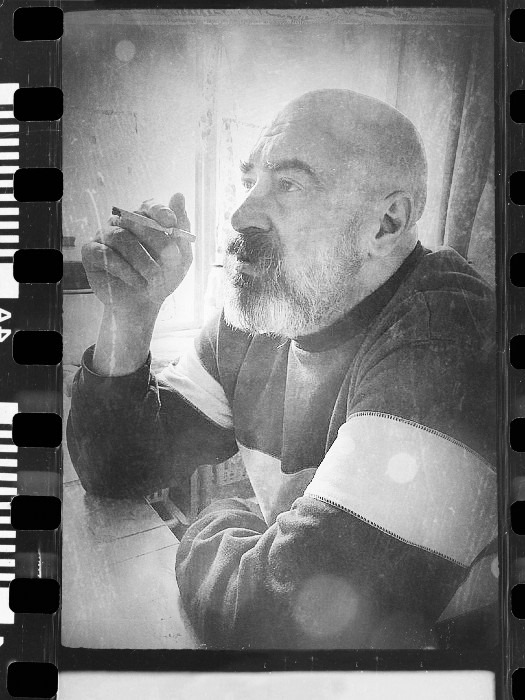Александр Бабушкин — проза (ч.1)

Бабушкин
Александр Иванович
стрелочник Финбана
Родился 21 августа 1964 г. в п. Токсово под Ленинградом. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (1987) и аспирантуру философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (1993). Преподавал историю экономических учений, философию; работал грузчиком, сторожем, дворником, охранником, челноком, журналистом, редактором, главным редактором, креативным директором, фрилансером.
В 2012-ом запустил ФИНБАН.
finbahn.com
Еще в ФИНБАНЕ:
ГВОЗДЬ
***
Боль была такой, что я помню ее до сих пор, через многие десятилетия.
— Господи, Сашенька, как? Как он в рот-то залетел?
Мама дует мне в рот, в глаза, залитые слезами, а я ощущаю себя разрастающимся огненным шаром.
Я ведь только хотел посмотреть, что он там делает… в спичечном коробке, и слегка приоткрыл. В предвкушении обязательного чуда, я разеваю рот… Чтоб неизбежно удивиться. Удивление не заставило себя ждать и немедленно перелетело из одного открывшегося пространства в ближайшее — широко и удивленно распахнутое. Большущий мохнатый шмель сказал все, что он думает о мальчиках с пустыми спичечными коробками-ловушками… И вот я стою, ужаленный им в нёбо, и горю, горю, горю. А мама с Костей бегают вокруг меня и дуют мне в рот.
***
Память — странная штука. Как там всё в голове, после дефрагментации дисков? На каких полках лежит? В каких папках хранится и извлекается через годы?
***
Мы идем по тропинке, и я, семилетний, прижимаю к груди машину. Машина как в фильме «Кавказская пленница» — та, что забирает Нину в финале картины. С крылышками. Большая. Красивая. Моя. Я после месяцев больниц в санатории под Выборгом. Мама и Костя приехали меня навестить. Я иду по тропинке и держу Костю за руку. Он большой, сильный и красивый. Мама идет рядом. И все мы счастливы. Мы вместе. Еще.
Совсем скоро Костю разорвет на фрагменты. Взрыв баллона с газом на химическом заводе будет такой силы, что Костю станут отскребать от лабораторных стен. Для меня это так и останется информацией. Страшной, но — информацией. Вестью, которая мама принесет мне в санаторий осторожно. Так осторожно, чтоб меня это не убило. Так осторожно, чтоб не убило вместе со второй — умерла бабушка. Я маленький. Я понимаю, что их больше нет. И я не понимаю, что мама осиротела. Что она потеряла почти всех. Что могла потерять в эти месяцы вообще всё и окончательно… Потому что, попав под машину, под армейский «Урал», я выжил чудом. Выжил на ее слезах. Которые она выплакала все. А оказалось, это только начало. И смерть заберет самых близких мгновенно. За считаные дни.
И если мне что-то и хочется понять, то только то, как она тогда выжила? Как не сошла с ума?
***
Этот выборгский санаторий словно точка отсчета. Отсчета какой-то другой жизни, которая влетела в меня нечеловеческой тоской и перешила в сознании все заложенные раньше программы… Я так и не успел привыкнуть к слову «отец». Я не помню этого слова совсем. В моем далеком-предалеком детстве его не было. И бабушка осталась в рассказах мамы о том, как я ее любил, а она любила меня… В ее рассказах. Но не в моей памяти.
А в памяти этот страшный санаторий. Санаторий смерти и боли.
***
Я стою на лестнице, ведущей со второго этажа на первый, а мимо меня воспитатели проводят группы мальчиков и девочек. Первую. Вторую. Третью. Для меня эта вереница детских глаз бесконечна. Она тянется через всю мою жизнь. Я стою совершенно голый и дрожу от стыда и ужаса. Я так наказан. За то, что на занятии по рисованию не нарисовал жирафа сам, а, подложив картинку под бумагу, обвел просвечивающий контур. Получилось красиво и очень правильно. Слишком правильно для семилетнего ребенка…
— Саша! Это ты сам?
— Сам.
Конечно, я горд. Ведь у меня вышло красиво.
Почему, зачем маленькие дети врут?
Я не знаю этого и сейчас. Даже став дедом.
Зато я знаю, что такое смертельный стыд и чувство абсолютной беспомощности.
На той лестнице, куда меня поставили голым на всеобщее обозрение за совершенное страшное преступление, небо упало на землю. И вереница любопытных и испуганных детских глаз перешила мое сознание. Перепрограммировала.
С этого момента единственным мне близким существом в санатории стал игрушечный заяц с оторванным ухом и разодранной лапой. На него никто не претендует — недавно привезли новые игрушки, и за них идет нешуточная детская война. Я хожу с зайцем везде и беру его с собой спать. Ночью я прижимаю его к себе, и нам грустно и одиноко вдвоем… Мы одни с ним на всем белом свете. Мама где-то далеко-далеко. Бабушки больше нет. Кости больше нет. И только зайцу я могу рассказать все, о чем может рассказать ребенок… Нет. Еще я могу рассказать все звездам. Я люблю смотреть на них и могу стоять, задрав голову к звездному небу очень долго. Бесконечно.
***
Сопоставимость и несопоставимость масштаба — не детский уровень. Детское сознание может поставить в один ряд вещи невероятной онтологической разницы. А в памяти они останутся равнозначными по силе и стоящими рядом.
Санаторий отнимал у меня жизнь изощренно и по-разному. Следующим ударом стала жвачка. Я выменял ее у местных пацанов, которые постоянно ездили в Выборг и бегали за иностранными туристами. Выменял на мамину передачу. Два апельсина, пять яблок и мешок с конфетами ушли за пачку иностранной жевательной резинки. Я получил сокровище. На пачке было написано что-то на иностранном языке. Пацаны гордо объяснили: «Пурукум»…
Теперь я мог не жевать сосновую смолу, как все, а насладиться божественным иностранным чудом. Сначала я носил пачку в кармане. Но потом решил спрятать. Я спрятал очень хорошо. У сосны. Под корнями. Я решил жевать по одной пластинке через день. Нет — через два. Чтоб хватило надолго. С мыслью, что завтра я попробую первую пластинку, я закрываю глаза и блаженно засыпаю, прижав к себе зайца с оторванным ухом. А утром что есть сил бегу к сосне. Бегу, чтоб получить еще один удар. Под корнями пусто…
***
Гвоздь очень большой. Он прошил верандную доску и вышел наружу на длину пальца. Да и сам он толщиной с палец и торчит ржавым острием в небо. Вот уже который вечер я прихожу тайком на санаторскую веранду и стою у торчащего на уровне моих глаз гвоздя. Я уже точно решил, что мир серого цвета. Вся жизнь серого цвета. Темно-серого, как огромные, высотой с дом, валуны в лесу вокруг санатория. И мир сам как эти валуны. Огромный и бездушный. Я смотрю на гвоздь и ищу в себе силы… В таком оцепеневшем состоянии я провожу долгие минуты и, так и не решившись, убегаю. Убегаю, чтоб на следующий день поставить точку…
***
Каждый раз, когда я слышу слово Выборг, я вздрагиваю. Я впадаю в транс, когда проезжаю Выборг по дороге на таможню. Когда слышу в новостях о выборгском кинофестивале «Окно в Европу»…
Для меня Выборг навсегда — окно в ад.
***
Я долгое время считал, что шмели, после того как ужалят, умирают. Оказывается, нет. Умирают пчелы и осы. У них жало устроено так, что вытащить, не сломав, они его не могут. А без жала они не живут… А шмель может жалить сколько угодно.
Я очень люблю шмелей. Это настоящее мохнатое чудо. И еще я знаю, что они очень добрые. А жалят, только когда край…
2012
картина: http://finbahn.com/владимир-мигачёв/
ДИМКА
Его убили в январе 96-го. Все тело было словно решето от ножевых. Вообще без живого места. Фарш. Убили и ее. Порвали на куски. А они ждали ребенка.
Это были свои. Попасть к нему домой можно было только по звонку. Дверь бронебойная. Замки запредельные. Квартира была нафарширована оружием. Он его любил всегда. Знал в нем толк. Знал он толк и в рукопашном бое. Вообще был похож на боевую машину. Значит, он сам открыл. Открыл своим. Получается, ждал. То, как его завалили, говорит лишь об одном — пришли еще более крутые. Дальше — все вверх дном. Видать, бился как волк. За себя. За жену. За все на свете. Бился с такими же волками.
Они не взяли ничего, кроме оружия. Те деньги и драгоценности, что были у него, им оказались неинтересны.
Тут все было крупнее. Его наказали.
За пару месяцев до гибели он заехал вечером за мной в издательство. Удивил. В последние годы мы очень редко встречались. Студенческая дружба умирала. Он давно был в темах. Я перебивался. Но что-то между нами оставалось, и где-то раз в год он залетал ко мне, мы брали пузырь и сидели до утра — вспоминали. А потом как обрезáло. Он нырял в свое, я уползал в свое.
Разные миры. Когда-то мы вместе учились в универе, зажигали на Ваське: мажоры, проститутки, Прибалтийская. Я постепенно впадал в постперестроечный интеллигентский ступор и нищенствовал. А он сразу ушел в серьезные завязки. Но какую-то психологическую черту перейти, видимо, не был готов. И это его отличало и от природных бойцов, и от людей очень конкретных. Но — рос. Как раз тогда, за пару месяцев до гибели, он заехал на новенькой Audi-80 (сам пригнал из Бундеса), очень долго выбирал мне водку и, когда остановился на Smirnoff, я как-то все сразу понял. Не по чину мне это было. По спине тогда даже не холод пробежал, а разряд тока.
Вместо воспоминаний он сразу предложил реально подняться. Он шел на скачок — сразу всё хотел взять. Я в его раскладах должен был сыграть роль ботаника-бухгалтера-посыльного. Пара визитов с деньгами в кейсе за партию…, а третьего уже быть не планировалось. Он кидал, не желая светиться. Мне было предложено много. Для меня много.
Меня спасли две вещи: быстрых два стакана и мгновенная легенда-отмазка: в кармане лежал загранпаспорт с многократной немецкой визой. Плюс я только что вернулся из Кельна с гигантской международной выставки, проехав пол-Германии на вэне, да еще задержавшись на пять дней в Гамбурге у шефа.
Я врал ему, что на днях улетаю и так подробно расписывал свой предстоящий немецкий маршрут, как это может делать человек, этот маршрут (волею судеб) уже прошедший.
Паспорт был с удивлением просмотрен. Водка допита. Расставание быстрое. Через два месяца раздался звонок с известием о его страшной смерти. Он все-таки решился. И его вычислили.
Семнадцать лет назад мы должны были или лежать вместе, или… Или только я.
Откуда он мог знать тогда, в конце 95-го, что за четыре года до этого со мной хотел провернуть такую же тему мой школьный друг. Тогда меня тоже спасло какое-то шестое чувство.
Я был у него на Северном кладбище только два раза за все эти годы: в день похорон и на следующий год. Больше ноги не идут. Но я постоянно хочу прийти. Прийти и спросить его. Не знаю о чем. Хочу. Все эти годы. И не иду.
2012
фото: http://finbahn.com/геннадий-блохин-россия/
ЕХАЛО-БОЛЕЛО
***
В последние годы, особенно после кризиса 2008-го, он очень плохо спал. Вернее сказать, это трудно было и сном-то назвать. Какое-то полуобморочное состояние с постоянными вскакиваниями посреди ночи, курением бесконечным и тупым взглядом в стол на кухне. Что? Что это?
В начале 90-х вот так сгорела бабушка. На фоне всех этих демократических истерик она, человек жестких советских принципов и невероятной скромности (о войне не говорила почти ничего), пару раз вступив с ним, ошалевшим от духа казавшихся светлыми перемен, в перепалку по какому-то политическому вопросу и, что не удивительно, неизбежно проиграв, как-то затихла, провалилась в себя. И так изредка лишь выходя из своей комнаты, она и вовсе стала совершенно незаметно безучастной. И мать с отчимом, и он с женой так и проглядели тогда тот момент, когда точка невозврата была пройдена и прошлое забрало ее к себе. Она ушла в свой мир со своей правдой, которую не стала защищать с пеной у рта перед сошедшим с ума временем, а унесла эту правду с собой. А в начале нулевых прошлое пришло за отчимом. И без того совершенно беспомощный в житейских вещах, в 90-е он абсолютно растерялся. Талантливый как бог, он был совершенно наивен в любых не то что коммерческих вопросах – об этом было даже смешно говорить, – он и в магазин-то не заходил, а забегал пряча глаза, принося из него немыслимую залежалую чушь за немыслимые же деньги, от которых избавлялся словно от заразы. О том, чтобы постоять за себя, пробить достойную зарплату, вырвать заработанное, и речи не шло. Он мялся, не решался, психовал. И этим пользовались. А уж в то-то время… По молодости спасали книги, собаки, лес. Но где эта молодость? В бархатных 70-х ленинградского Союза. 80-е еще как-то проскочил. А вот 90-е сожрали тело и душу яхтсмена и бывшего чемпиона по классической борьбе безжалостно. Все болезни от нервов. У отчима от ощущения ненужности, выброшенности. Рак спалил всё в считанные недели.
И вот теперь запал он.
Что это?
***
Ушедшим в себя он был с детства. Тому было много причин. Бывают такие ушибленные стихами мальчики с черной дырой всепожирающего «Зачем?». Из таких выходят неврастеники-алкоголики и неудачники с комплексом гения. Словно предчувствуя это, мечтал сбыться. Но заткнуть черную дыру рефлексии можно только таких же умопомрачительных размеров сверхзадачей. А 90-е, на которые пришлось взросление, встретили подыхающим совком и дипломом историка экономических учений в стране, где главным экономическим учением стала спекуляция. Первый поразительный по своей экономической мощи финт он выдал в 91-м, поменяв экономику на философию. Бог чистогана и наживы подыхал со смеху, наблюдая за тем, как он вещает о смысле любви студентам, которые вскорости забросят свои инженерные дипломы и стройными рядами и колоннами вольются в океан менеджеров, брокеров и банальных барыг. Он и сам попробует влиться, потратив несколько лет на челночные круизы. От этого времени останутся анекдотичные полукриминальные воспоминания и заряд непрошибаемого цинизма. Наверное, ему, этому цинизму, он будет благодарен за то, что не сошел с ума от ненависти к расплодившимся мутантам-коммерсантам. Ощущение тотальности коммерческого бандитизма было не то что угнетающим. Оно сводило с ума. Но привычка уходить в спасительную алкогольную отключку и наваливающиеся обмороком стихи всякий раз погружали в какое-то вязкое оцепенение. «Да гори оно всё…» – твердил он себе и плыл по этому странному течению странной реки в никуда. Плыл в каком-то бреду якобы профессионального успеха через невероятные по своему коммерческому идиотизму (но феерическому размаху) издательские глянцево-журнальные проекты каких-то романтических уголовников. Сколько их было в 90-е. И не сосчитать. Градус цинизма рос. А вместе с ним росло количество ежедневно выпиваемого. И вот полутруп прибило к берегу. Миллениум. На рубеже веков ноги почти не ходили, стихи умерли, работы не было, сил сражаться тоже. После трех неудавшихся попыток самого легкого способа решить все проблемы, он собрался завязывать окончательно. Осталось выбрать с чем. Выбор оказался настолько непростым, что на него ушло целых 10 лет нулевых.
***
Где вы? Где вы, друзья детства?
ЛЭТИ, Военмех, ЛИТМО, ИНЖЭКОН… Все технари. Все вписались в эту перестроечную и постперестроечную эпоху. Куй железо, пока Горбачев. Куй, пока льется «Рояль». Выковали. Проскочили. Прорвались. Чичи-гага. С солнцевскими, с тамбовскими, с кумаринцами, с комитетом… Пока преподавал и феерил тостами и историями за праздничными столами, был прощаем и любим. Птица говорун. Гуманитарная индульгенция и стихи из записных книжек гарантировали стакан и прощение долгов. Когда решил попробовать на зуб бизнес, превратился в рядового лоха, назойливого алкаша-попрошайку. Кто-то еще по инерции повозился с ним. Даже вышел сборник стихов со строжайшим условием «никаких фамилий спонсора в выходных данных». Но к нулевым пропасть стала непреодолимой. Он еще долго по привычке хватался за телефон, в пьяном бреду набирая бывших. Потом перестал. Звал уже только про себя. Молча ночами уставившись в пол на кухне.
***
Может, вернуться? Он устал от рекламного фрилансерства. Устал от американских горок, в которые сам же и нырнул, убегая от офисного фашизма. Убегая от невыносимого диктата новых молодых долбо..бов с золотыми и платиновыми картами. Убегая от своего алкоголизма и нытья. Потеряв по дороге и способность и желание писать. И через 10 лет навернулся, проиграв новым клиентоориентированным агентствам с молодыми мейнстримными кретинами на гаджетах, но при полном отсутствии фантазии и мозгов. Проиграл поколению next, отбросившему слова и выбравшему музыкальные картинки – пророческие 451 по Фаренгейту… Провалился в пустоту и огромные долги.
Может, вернуться?
Эта мысль стала приходить все чаще и чаще. Но куда? От кафедры остались ошметки. Кандидатская незащищена. Тянущий преподавательскую лямку иститутский друг рисовал картины тотального разгрома и нищеты. В вузах у руля комитетчики. Переподы – нищая пехота. Нет. На такие руины – только на крайняк. Можно было в школу. Благо у самого дома. И оттрубил там пару лет. Но то когда было… Да и гроши такие, что грузчики смеются. Прям как в СССР. Все вернулось. Что дворник, что учитель – один хер разница…
В журналистику? Но тот клондайк, который он застал в середине 90-х на волне парада понтов ошалевших от лихих денег бандитов, канул в Лету. Да нет, не канул. Превратился в такое космическое блядство ксюш собчак и сучьего эха под дождем, что оторопь брала. Да и не сможет он пехотинцем. После стольких то лет главредства и (теперь-то он понимал) дешевой славы.
Короче, в одну воронку дважды…. И тема была закрыта. Значит, по волнам…
***
Мама. Он и так не мог оторваться от нее всю свою жизнь. Маменькиным сынком прокувыркался через полвека. Чуть что – к ней. И в угарах своих алкогольных к ней приползал. Она и вытягивала бульонами. Водку не прятала. Но без закуски пить не давала. И слушала. Слушала эту нескончаемую волынку, все эти перебирания по годам. Память оставалась цепкой. И история сломанной жизни всякий раз незаметно превращалась в лекцию по истории страны. Баллада о 80-х, 90-х, нулевых разрасталась до времен царя Гороха и неизменно упиралась в себя любимого. Поэта. Трагически непонятого. Всеми брошенного. Умершего и вернувшегося… Эта сопливая ерунда легко прокатила бы в любом другом доме, кроме материнского, заставленного книгами под потолок каждой комнаты. На трагическую литературную участь сюда могли прийти пожаловаться такие тьмы ушедших и забытых российских гениев, чьи судьбы стали смыслом ее жизни, что он всякий раз осекался, наматывал сопли на кулак и, прихватив стопку книг, убирался к себе затыкать пробелы. Чтоб заткнуть все, не хватило бы всей жизни. Его. Он это знал. Знал, что знает она, всякий раз хитро улыбающаяся, подбирая то, что он попросил почитать или перечитать. Но знал он и другое. Она ждет. Она будет читать то, что он нагородил. Будет слушать. И будет верить.
Одного не будет. Жалеть.
***
Поэтом? Поэтом надо было оставаться там, в 90-е. Спиться окончательно и сдохнуть. И все бы сошлось. Как в песне. По крайней мере, это было бы линейно. Ну а раз, сука живучая, выкарабкался, то пусть пишет. Прозу. Ненавистную, высасывающую, выматывающую. Но спасительную. Наконец-то на эту черную всепожирающую дыру нашлась управа. Память. Безжалостная бессонница пришла, видать, надолго. Может, и навсегда. Две черные дыры взялись остервенело жрать друг друга. Он больше не сопротивлялся.
2012
фото: http://finbahn.com/борис-смелов-россия/
Я ДАВНО НИКУДА НЕ ИДУ
Я давно никуда не иду. Не выхожу из дома. Не прихожу домой.
Это страшно. Для человека, который всю жизнь по утрам привычно дом покидал. Малышом его уносили в ясли, везли на санках в сад, провожали до школы в первый класс. Потом шел сам. В школу, институт, на первую работу, на последующие места работы. Уходил из дома. Чтоб в дом вернуться. В этом очень много сакрального.
Я не ухожу. Мне некуда возвращаться.
И поначалу это паника. Особенно когда по утрам смотришь в окно кухни, как торопятся на работу… И мгновенное острейшее чувство ненужности. И 200 залпом. И еще и еще. И себя, любимого, жалко. И эта охватывающая ненависть ко всем, кто так или иначе… И конечно, все они идиоты, бездари, суки и приспособленцы. А ты, стойкий и несгибаемый, со светлой (это само собой) головой — и за бортом. И мир пусть пропадет. И небо пусть почернеет. И вот в очередной раз везет тебя, мудака, скорая. И очередная сестра в реанимации вяло кроет матом и желает тебе поскорее сдохнуть.
А потом ломается стержень во всей событийной конструкции. Пропадают начала и ʹконцы. Начисто. А вместе с тем и привычная формально-логическая цепочка целеполаганий вдребезги. Важная штука, между прочим, — причинно-следственные связи к ебеням. Дальше уже линейно. Круг проблем шире — круг близких ỷже. Эта сжавшаяся окружность — последняя черта. И чтоб не стала она овалом над ямой, ты бежишь от себя любимого к себе неизвестному. О существовании которого ты не и подозревал.
О том, что не ты живешь жизнью, а жизнь живет тобой, задумываешься лишь тогда, когда из жизни выброшен. Понять, что это была не жизнь, — трудно. Срабатывают рефлексы: догнать, схватиться за поручень, запрыгнуть в уходящий вагон. Это понятно. Это привычно. Это стереотип: step by step, лестница вверх, по спирали, количество переходит в качество… А то, что количество это даже в качество гроба не обязательно перейдет, именно вдруг и понимаешь. И вот тогда, когда понимаешь, — и становишься чужим. Человек, который не уходит и не приходит, — неизбежно чужой всем уходящим и приходящим. И время не вперед. Время давно стоит. Даже не так — ход времени перестает что-либо значить и определять. Время просто есть вообще.
Мне давно все равно — день или ночь. Все равно, потому что для человека, который никуда не уходит и не возвращается, не имеет значения рано или поздно. Зато появилось новое. Всегда. И это мой новый дом. И то ли я его обживаю, то ли он меня.
И как мы нашли друг друга? Жаль, что так поздно.
2014
photo by Raphael Guarino | https://finbahn.com/photop-inter/
ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!
Почти каждый день он ходит на чай к маме. Это близко – через дом. Её квартира – стеллажи книг от пола до потолка во всех комнатах; кот и собака, ободравшие все обои; и – центр вселенной – кухня, где дежурно мурлычет радио, и, пока они говорят, чай заваривается три-четыре раза, и по полпачки сигарет каждый из них высаживает точно.
Их чайным беседам лет тридцать. За это время умерли многие близкие. А еще… четыре кота и три собаки (доберман, боксер и фокс). Прибавилось книг. Чай давным-давно не индийский со слонами и не «36-ой», сигареты не болгарские (любимые «Родопи»). Всё остальное по-прежнему: стол, уютное кресло, две чашки, пепельница.
С некоторых пор появилось еще одно общее – бессонница. К маминой, которой далеко за полвека, добавилась и его. Когда это началось? Уже и не вспомнить. Это не просто бессонница. Ей предшествуют молниеносные липкие кошмары-сны: то за пропуски его оставляют на второй год в школе; то отчисляют из универа… Это воспоминания страхов. За годы преподавания он принял десятки экзаменов, подписал сотни и сотни зачеток. Но страхи не пропали. Спрятались и вернулись через десятилетия. На них наслаиваются новые — картинки 90-х и нулевых: битвы с блатными, с бизнес-мутантами-сайентологами в скользком издательском и коммуникационном бизнесе.
Странная вещь – он не чувствовал возраста. В 80-е верил, что сорвал джек-пот. Как же — кафедра! Он гарантировал себе долгую и пусть бедную, зато благородную жизнь вузовского преподавателя. Старость будет достойной и красивой. А вышло? Вышло дышло. Куда повернул – там оно и валялось. О преподавательской синекуре оставалось только вздыхать.
Нет, он не чувствовал возраста. Он видел себя маленьким мальчиком, который все никак не может сдать экзамен. жизни. С маленькой буквы. С большой – у мамы. 38-ой год рождения. Это ж всего в двадцати годах от 17-го! Это Война, Блокада, 53-ий, 61-ый… Каждая дата – монумент. А у него? Не даты, а непотребство сплошное: похороны маразматиков-генсеков, просравших гигантскую империю; вездесущая шушера московская мохнорылая (покровские, бля, ворота), как тля, облепившая огромную бесхозную страну; бандиты, бляди, чиновники и бесконечные пристроенные на теплые столичные места жопы детей и внуков совести нации.
Они сидят на кухне. Мать и сын. Она — выжившая в блокаду девочка. И он — человек без возраста, который водит к ней своих внуков и просит научить жить.
***
я почка
я кочка
я радиоточка
я отчимом дочкам
разбитая бочка
я отче не ваш
не спаси меня боже
я ложен
я как-то неправильно сложен
я пропитый
с кожею дряблой обвислой
я весь мочекаменный и углекислый
с моста
этот вечный развод над невою
и этой неве про вину свою вою
инфантом в разлив
я поранил свой пальчик
бежит к тебе мама
твой старенький мальчик
2016
НЕВИДИМКА
От избы до погоста и рукой подавать не надо. Вон на пригорке. За огородами. Всегда на глазах, как на горизонт смотришь. А значит и в голове спокойно. Так есть. Всегда. Как снег зимой и трава летом. Одно приходит. Другое уступает. Срок вышел, значит. У соседских из девяти трое лишь поднялись. Шесть рядком лежат. Отсель видать. Трое бегают. Слышно далеко. А у нас теленок вот. Да у коровы молока не стало – и зарезали. Лишний рот. Теленок сам и помер. С чего жить-то. А картошка не удалась (мелкая как ягода), и в зиму чуть зубы на полку не положили всей деревней. И так все вокруг прибывает и убывает. На глазах. Не спрячешь. Просто и обыденно. Как рождение и смерть – ни близко, ни далеко. Всюду. Порядок. Как положено.
А как в город перебрались – и встало все с ног на голову. Дверей больше, чем людей. А люди все чужие. Что откуда берется – загадка. Деньги всё. А за что дают – тайна. Все куда-то бегут, на часы смотрят. А время не идет. Стоит большое. Безвременье. Была соседка-старушка. А уже и нет. Третьего дня как. И то чудо, что сказали. Походя на лестнице. Отошла. Вот и свезли куда-то. Детям банку дали. Пепел. Они и не знают, что с ней делать. Так и сами уйдем – никто не заметит. Как в яму кромешную. И ладно бы пропадем. Не от того сердце болит. А что украдкой. Как нечисть какая. А от мира этого и не убудет. Вон он какой большой, мир-то городской. И не заметит.
########
картина Анастасии Гавриковой. На самом деле Гаврикова спиздила фрагмент картины у Николая Николаевича Купреянова (1894-1933) «Зима в Селище»: http://finbahn.com/…/uploads/2017/01/zima-v-selitshe.jpg
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
Сашка собрался умирать. Он всё продумал. Умрет он тихо под утро во сне, уткнувшись мордой в спинку дивана. Утром жена ничего не заподозрит. Да и с чего? Он и так четыре года уже весь светлый день лежит бревном. Разве что на кухню выползает покурить. А ночью, когда все спят, что-то мутит в компе или пишет свою хуйню. Когда жена встаёт, он уже спит на своём продавленном диване у рабочего стола.
Нет, она ничего и не заподозрит. А когда вернется с работы…
Он решил так. Кинет на электропочту дочкам письмо: «Простите».
Подумав, решил, что добавит пароли к сайтам с его грёбаной писаниной и проч. На стенку в фейсбуке он повесит какую-нибудь приблуду артхаусную – ну там фотку забора повалившегося кривого. Допустим.
И…
Да, собственно, и всё.
А потом он будет смотреть сериал. Про то, как этот мир без него. Да он уже и начал исподтишка, долгими ночами перебирая все знакомые имена. Заканчивалось всё одинаково. То ли режиссер был полный мудак, то ли сценарист кретин законченный. Короче – ни одной серии он не выдерживал больше пяти минут. Кино выходило на редкость хуёвое. Сашка вздыхал и плелся на кухню курить. Таяла последняя надежда.
картина: http://finbahn.com/виктор-пивоваров/
ЕХАЛ ГРЕКА ЧЕРЕЗ РЕКУ
Отчим покойный так на всю жизнь оставшуюся и запомнился склонившимся над томом какого-нибудь любимого древнючего грека. На современную (текущие лет 200) писанину он ток усмехался в усы и вытаскивал из бездонной кастрюли своей феноменальной памяти всегда удивительно уничижительную для неофита от литерадур (да хоть и нобелевского лауреата) цитату из своих покрывшихся многовековой пылью афинян. Домашнее образование. Всему тётка и научила, окончившая Академию художеств, болтающая на семи языках и всю жизнь свою ухнувшая в скрипучие коридоры Публичной библиотеки. Я так и свыкся с мыслью: что ему не скажи, на всё ответ один – всё уже было.
Когда всё уже было – можно встречать то единственное, чего еще не. Да и оно числится по разряду неостановимой банальщины. Это ток тебе «не» — а у мира это на дверях выбито с обеих сторон: memento mori.
В середине 70-х очч расстраивался – видился мне, подростку, нерушимый наш Союз эдакой бескрайней унылой болотиной провинциального санатория, где всё героическое и весёлое в кромешном прошлом, а нам осталось лишь макулатуру сдавать, да ждать этого неизбежного коммунизма без идеологически подрывной жвачки и джинсов.
Сейчас я уже перестал удивляться финтам судьбы. Глядя на самолеты в небе, я думаю о муже племянницы, сменившем комбез солдата удачи – вертолетчика в Африке и на Ближнем востоке – на китель командира Airbus с картой полетов в полглобуса; о самой племяннице, променявшей Финэк и Академию госслужбы на то же транснациональное небо (проф солидарность? Ну-ну… )) – жены моряков поймут). Финляндия, из которой в начале 90-х гонял с друзьями вазовские восьмерки и девятки, теперь чуть ли не фатерлянд – с тех пор, как родной сестре разбил сердце сын страны тысячи озёр. Теперь он с тоской вспоминает, как пиздато было ездить в Союз в 80-е (тёлки за битый ливайс давали, водка рекой, и менты на руках в номера несли) и кроет матом Брюссель – мол, чисто Политбюро ЦК КПСС и вообще в Европе жопа, работу отнимает понаехавшая Африка с Азией и хрен на Рождество ёлку поставишь.
Я не могу по тиви без ненависти смотреть на рожу бессмертного Джорджа Сороса – младшая дочь сделала ручкой и теперь из-за бугра, где пашет на какой-то из его бесчисленных фондов, залетает домой раз в полгода.
Я перестал удивляться повторению истории. Верней тому, что всё запихиваемое в наши юные головы в начале 80-х на историко-экономическом в Универе, вся эта, казавшаяся тогда древней байдой бесконечная вереница заёбов интеллектуалов – вернется галактическим фарсом: и всё, о чем писала газета «Правда» про ихний «рай», окажется правдой; и, как и говорил Ильич – интеллигенция наша (да и не наша) вовсе и не мозг нации, а говно; и нынешняя синагога открестится от родства с комиссарами в пыльных шлемах и полезет целоваться в дёсны с эсэсовской Европой и Канадой, а Ханна Арендт с её убийственным «Эйхманом в Иерусалиме» будет им по барабану. Долго в друзьях в фейсбуке обиталась поэтесса штатовская (на сам деле наша, из Ленинградских). Когда начала нести пургу про погромы в перестроечном граде на Неве – заблокировал к ебеням. В школе у меня было три любимейших учителя: Френкель (физик, вылитый Эйнштейн) — хоронили всем поселком в день моей свадьбы; Зося (историк) умерла, когда в аспирантуру поступил – два года потом доводил её выпускные классы (просто потому, что она второй мамой нам всем в школе была); третьему, Шацеву Владимиру Натановичу (литература), я посвятил свою первую, вышедшую в Нью-Йорке книгу. Он написал мне сумасшедший отклик на рассказ «Гвоздь», и я был на седьмом небе от счастья и гордости (мол, не посрамил…). В школе он был моим Джоном Китингом из «Общества мертвых поэтов». И вот… – демонстративно отказался прийти на мой вечер в Ахматовском музее в Фонтанном доме. Он топил и топит за Ходорковского, Немцова и святые 90-е… Такая вот фигня приключилась. Впрочем, как теперь я вижу, типичная для многих «любимых учителей из детства». А посрались мы окончательно и эпически из-за «незаслуженно» претерпевших отважных борцов с кровавой гэбнёй – из-за Pussy Riot. Вот так. Два мира – два Шапиро. Да еще и схлопотал я от него обвинение в копрофагии за свой неряшливый язык. Такая вот эстетика. И в итоге я таки переступил через этот мучительный комплекс всех замученных интернационализмом совестливых русских и перестал держать у сердца своего любимого еврея. Лопнуло что-то внутри. Для меня самоочевидно сказанное Пастернаком про Мандельштама – «Как же он мог? Он же еврей». Не уверен, что хотя бы 1% кошерных профессиональных белоленточных повстанцев поймёт, о чем речь. И именно что бессовестность, бессовестность перед исторической памятью, снесла в моём сознании народ Книги с пантеона праведников.
Как бы я хотел навсегда остаться с кумирами своей молодости. Увы. Кумиры один за другим тонут во лжи. Страна жрёт себя поедом. Но каждый раз, когда я готов захлебнуться от злобы и отчаянья, я вспоминаю отчима, вспоминаю его любимых греков. И… И отпускает.
Пусть это будет ему.
***
те на тень
и те на тень
тени водят за нос массы
тени веры
тени расы
тень наводят на плетень
лжи
на целый Вавилон
год от года
век от века
нет печальней человека
в этом мире
друг Платон
и несет в тартарары
мириады душ
мытарство
и забыто «Государство»
до космической дыры
картина: http://finbahn.com/alik-assatrian-armenia-netherlands/
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ
Что имеет значение?
Может быть, эта ручка? С логотипом банка. Ее вручили в качестве презента вместе с картой.
Почему она? Ведь банк высосал все соки и в кризис едва не лишил меня рассудка.
Ан нет. Ручка лежит. Даже внучке не даю рисовать.
Может, зарубка? На память?
Ага. Памятник идиотизму и аферизму.
Или эти диски с музыкой? Вся стена под потолок — одна гигантская фонотека.
Зачем?
Все, что слушаю, давно в компьютере. А стена… Там две трети уже не актуально. Но — неприкасаемо. Как пыль на самых верхних дисках.
Может, эти книги в шкафу? В два ряда…
Философия, психология…
Двадцать лет собирал. Азартно. Жадно. Бегал, менял, отказывал себе в чем-то.
Я их больше никогда не открою. Ни-ког-да. Все что надо — в голове. Что не надо — забылось и не вспомнится. И дети их не прочтут. Не потому, что глупы. Как раз наоборот. Потому, что им это не нужно. Они не сделали счастливым меня. А их и подавно. Зачем сейчас философия? Если ты такой умный — покажи свои деньги. Что я покажу? То-то.
Но книги стоят. На узкой полосочке у самых корешков примостились какие-то коробочки, рамочки и футлярчики, какая-то неизбежная и разрастающаяся как стихийное бедствие армия предметов. Жизнь не оставляет без пользы ни сантиметра свободного пространства. И книги стоят. Ненужные. Но неприкосновенные. Смотрите, какой я умный! Вон сколько мудрости!
М-да.
Мудрость не моя. Чужую не принял, а своей… то ли Бог не дал, то ли сам не нажил.
Зачем этот дипломат, битком набитый рукописями, записными книжками, черновиками? Он стоит уже пятнадцать, нет, двадцать лет он уже стоит. Раз в год извлекаемый из-под стола, чтоб вытереть сантиметровую пыль. Все, что в нем хранится, уже тысячу раз проверено перепроверено. Нет там ничего, что может пригодиться. Разве что образец почерка двадцатилетней давности. Его собрат, набитый вариантами диссертации и распечатками стихов, двенадцать лет назад горел за домом на помойке, а я, пьяный в хлам, кричал что-то звездам и кидал в огонь листок за листком. А потом жег журналы и альманахи, которые остались единственным вещественным напоминанием о четырех самых счастливых годах жизни в середине 90-х, когда посреди бандитского безумия мы, нищие и сумасшедшие, пахали сутками, пили ночами и не могли жить без этого творчества, без этой нервной трясучки подготовки к печати каждого нового номера.
Где это все?
Помню, как мама, через пять лет после крушения издательства, не в силах смотреть, как я спиваюсь, не находя в бесконечных скоротечных новых работах даже жалкого подобия погибшего, сказала: «Нельзя жить одними воспоминаниями. Ты себя сожрешь. Надо идти дальше».
Вот и полетели в костер воспоминания листок за листком. А я пошел дальше. Вперед? Все последующие годы я летел вниз, все безнадежней отдаляясь от остатков того, к чему стремился в молодости.
Зачем этот складной нож с вилкой и ложкой? Ты никогда им не воспользуешься. Две недели назад я сидел в шалмане у своего дома, пьяный и добрый, как все сорвавшиеся алкаши, и готов был целоваться с земным шаром. Они нарисовались из ниоткуда. Один – уменьшенная карикатура на Владимира Бегунова из «Чайф», в затертой кожаной косухе, с такой же козлиной бородкой. Второй — эпилептически выплясывающий шест под два метра с выпученными безумными дурашливыми глазами, в очках а-ля Леннон. Наверное, я был единственным идиотом в округе, готовым поить кого угодно, и их профессиональная токсикозная интуиция безошибочно выбрала меня. Кто они были? Забухавшие музыканты? Почему-то хочется верить именно в это. Так приятнее. Веселей вспоминать. С ними ушли два сборника стихов, подписанные пьяным скачущим почерком. А от них остался этот нож. Смешной. С ложкой и вилкой. Значит бывалые.
Зачем он?
И нож летит в мусорное ведро.
Я зачем-то переношу на бумагу эти воспоминания. Новые, старые, совсем дремучие, извлекаемые из глубин памяти, выплевываемые подсознанием.
Я зачем-то пишу эти слова. Зачем-то складываю из них конструкции, в смысл которых и самому верится с трудом. Зачем это? Рефлексия. Я же не законченный кретин, чтоб не отличить зудящую идею от неряшливого неуправляемого потока сознания.
Это же тщеславие. Это болезненная и разрастающаяся как опухоль паранойя. И ты, уподобляя себя бесстрастному эскулапу (наивный), пытаешься извлечь пользу из этого вшивого бьеннале семантической помойки.
Текст. Что такое текст? Правила. Зачем они нужны? Они нужны, потому что все должно быть классифицировано, спозиционировано, идентифицировано, упаковано, проштамповано и доставлено целевой аудитории. Так построен этот мир. И тот, кто нарушает эти правила, может катиться ко всем чертям собачьим и доказывать на помойке драным котам и крысам свою шизанутую литературную значимость.
Я закурил. Почему-то страшно захотелось к драным котам на помойку. Захотелось моря водки и пьяной свободы. Захотелось брести под дождем в какие-то горизонты и кричать что-то важное и страшно глубокое звездам и Богу.
Я понял. Я захотел вернуться в молодость, в тот мир, где все житейское и бытовое не имело никакого значения, а беззаботное сердце то танцевало и рвалось от любви, то захлебывалось от космической боли. Я понял, что устал идти. Устал, потому что не то что бы потерял из виду цели. Хуже. Я разуверился в том, что они, цели эти, вообще есть.
Ну вот, выкрутился. Многолетняя привычка расплетать узлы и вставлять нитку в самое узкое ушко самой тонкой иголки сработала рефлексом. Я где-то читал, что врачи болеют особенно тяжело. Потому, что знают о болезни всё и не могут заставить себя верить в чудо.
А чуда и не произошло.
Текст.
Он оказался сильней.
Он вывернулся ужом и сам себя привел к концовке, которую вывел из ему одному ведомых законов.
Буквы устали складываться в слова. Словам надоели предложения.
Мысль посмотрела на все это и тоже решила сдаться.
Еще один восходитель покатился по склону горы, так и не успев разглядеть за облаками мистификаций вершину. Некоторые утверждают, что ее, вершины этой, и нет вовсе. Что этот подъем бесконечен.
Кто их знает? И чего только не утверждали.
— «Закольцевать! Закольцевать!»
Мозг выплевывает штампы, которые в приличном обществе принято считать правилами хорошего тона. А хороший тон требует закольцованности сюжетной линии.
Что там у нас? Ах да. У нас ручка с логотипом банка.
Значит, я должен написать: «Я смотрю на ручку с логотипом банка. Ее вручили в качестве презента вместе с картой.
Почему она?»
Я смотрю на ручку с логотипом банка.
Она больше не вызывает у меня ничего, кроме отвращения.
Ручка летит в форточку.
Хочется напиться.
Хочется разбить клавиатуру о монитор. Хочется хлопнуть дверью и уйти в поля.
Текст победил, но это не значит уже ничего.
Я нервно курю. Настоящее будущее и прошедшее время переругались и заблудились в словах. Большая литература заходится в гомерическом хохоте и грозит обрушить полки.
А старенький Бог, кряхтя, спускается по раздолбанной лестнице вниз, понимая, что этот случай особенно тяжелый, и без него уже не обойтись. Пока я сплю, он, улыбаясь и покачивая головой, достает из мусорного ведра смешной складной нож с вилкой и ложкой и бережно кладет на полку с книгами.
Black velvet
Он и родился сразу старичком. Эдаким изначальным мизантропом, пришибленным космическим тупиком. Даже приблатненные дворовые пацаны на родовой отрицаловке охренели от его нутряной социопатии и, на всякий пожарный, не связывались – хуй его знает, что у этой чёрной дыры на уме. А она так и прокатилась по жизням других пугающей подвальной сыростью и каким-то гробовым пьянством. Глядела-глядела в себя, да в себя же и провалилась. С тех пор место это даже вороны облетали стороной, а миновав, каркали как-то особенно замогильно, и эхо не отвечало – только заткнувшись, пучилось жутью смертельного испуга.
картина: http://finbahn.com/сергей-баленок-беларусь/
ДОМ НА ГОРЕ
Едем молча. Всю дорогу жена держит за руку. Словно боится. Что передумаю. Как на Балтийском вокзале мимо ларьков протащила, так руку и не отпускает. Да я и не рыпаюсь. Куда уж? Вилы. За спиной рюкзак, набитый хфилософьей всякой. Антидот? А кто его знает? Вот – решил проверить на вшивость. Заумь книжную? Себя? Нарколог в 99-ом по блату выписал последний билет – в «Дом надежды на горе». Со словами: ну, если и это не поможет – тогда я не знаю… А кто знает? Я что ль? Два года убил на его гребаную АА. На чушь эту собачью. Час пиздежа в кружке полоумных. Зато после чекушкой закинешься – и музыка в голове, а не этот свист нехудожественный. И – до следующего сходняка блажащих. Под конец уже о.5 брал. До того богодельня эта опостылела. После очередного потерянного главредства (пятого или шестого за эти годы), после 98-го, похоронившего моё собственное издательство – в глазах, в мозгах сплошной туман. Какая-то не жизнь, а канава скользкая и вонючая. На водку денег уже нет. В ход пошел технический спирт из хозмага. Даже разбавлять было в лом. Выйдешь на лестницу, полпузыря шила подозрительного из горла вмажешь – пар из глаз – папироску всосёшь – вроде отпускает. Мысли от такого эфира гибнут. А то нет мочи с мыслями этими. А надо. Что надо? Думать? Жить? Что?
Вот и платформа Тайцы. Как по заказу – холодно, ветрено. Сырость какая-то в морду. Дрянь на душе – дрянь за душой.
И тихим шагом. Вот и гора эта лысая. Вот и дом на этой лысой горе. Дура кирпичная на семи ветрах. Надежды, говорите?
Ну они тазом сразу и накрылись.
– Это что у вас?
– Книги… – преподаватель я… и редактор и…
– Неееееее. Не положено. У нас режим. Методики. Хуё-моё.
Короче – книги нельзя.
И как-то сразу все эти развешанные на стенах благодарственные мульки от завязавшего рок-н-ролла словно соплями пошли. Жена только глянула на меня – в миг просекла.
Ни там, ни всю дорогу обратно не проронила ни слова. Так и спустились с горы. На станции, когда обернулся на ларёк – молча протянула деньги. И тихо ждала. Пока… пока отпускало. Потом взяла молча за руку и повела.
фото: http://finbahn.com/
КУКУШКА
Их было два. Два совершенно разных опыта. Два пугающе разных пути. В первой жизни — маменькиного сынка, ботаника на институтской кафедре и главреда у бандитов — он преуспел в виртуозном изыскивании денег на всё, что горит. В этом сивушном мареве, сожравшем 80-е и 90-е, было море несчастной любви и удушающей жалости к себе. Что удивительно, у этого ходячего самогонного аппарата случилась семья, родились дочери. Было еще что-то: какие-то стихи, льющиеся сопливым потоком; диссертация о любви. А еще уголовный кумар, едва не загнавший на Северное кладбище, где остался лежать порезанный на куски прибандиченный универовский друг. Опыта этого вполне было на жизнь. Целую. Ни короткую, ни длинную. Так – к сорокету. И точка. Вышло многоточие реанимаций.
И случился опыт второй. Реваншистский. Растянувшийся на 15 лет нулевых и пост-нулевых. И в этой второй жизни всё было с точностью до наоборот. Жесточайший профессиональный цинизм обозленного волка-фрилансера, доводившего до истерики рекламный Питер нагло-заоблачным чеком, порванными в клочья тендерами, когда нахуй шли не только топовые агентства двух столиц, но и залетные бриты и даже в дугу забуревшие янки из Landor. На физкультуре Тимченко и Ротенбергов, на всемирном чемпионате по мордобою под крылом «Росатома» эти прыжки с разбега в ширину прекратились. Истребитель чихнул соплами и пошел на вынужденную. Домовой бился в истерике от хохота: квартира под потолок забита люксовыми кишками и тапками, а этот сраный ас валяется с перебитым нахрен позвоночником и полетевшими ко всем чертям коленями. И это небо закрылось. Теперь из этих двух жизней, из двух взаимоисключающих опытов предстояло скроить нечто третье. Какое? На кой? Вот это и навалилось.
***
Когда времени не вагон, а уходящий за горизонты состав, поговорка «лучше мучительный конец, чем мучение без конца» дятлом мозг долбит. Гибельный опыт выживания на хлебе и воде, вперемешку с подсаженной на «Рояль» жалостью к себе – та еще вешалка. И та, первая, жизнь тянет в омут сопливого экзистенциального самообмана. Ежель б не глухая завязка, всё можно было и сейчас легко спалить в водке. Таких спасающихся он насмотрелся. Кто-то уже отчалил, кто-то стоял в очереди, кто-то бревном инсультным догорал. Да и сам-то, давно ли еле отполз?
А что вторая? Вторая жизнь, это уже не воронка, а цельный Бермудский тругольник понтов охуевших нуворишей, заёбов офисных зомби – гонки на веществах и за веществами. Когда вселенную потребительских компенсаций неумолимо затягивает в черную дыру, эдакую психотронную галактическую жопу. Ну и прогрессирующий идиотизм. Куда ж без этого в мире весёлых картинок.
Но ведь было и другое. Риск и азарт вольного стрелка – стремный и незабываемый. Это кайф. Кайф отрицаловки. Нет, это не истинная свобода. Но охуенно дорогая реплика. Охуенная настолько, что миллионы именно её и принимают за рай. Он был в этом «раю». Самосшитом под себя. Был хозяином. Потому и знал – это наебалово. Но послевкусие – феерическое и бесконечное.
В сухом остатке от второй жизни валялась простая как кирпич максима – как угодно, но не в наморднике.
***
В двух этих разных жизнях, которые неслись галопом, где мозг свистел, и вылетали в дыру в башке бином за биномом – в этих жизнях всё полегло на кладбище вопросов, ответы на которые откладывались на потом. И вот это ПОТОМ случилось и пучилось из каждого угла тысячеглазо на замурованного в четырех стенах стареющего плейбоя, и душило бесконечностью застывшего времени. За те пять лет, что прошли с момента аварийной посадки, бывший мастер воздушного абордажного боя жадно сожрал несколько мегатонн ядерного фоносемантического дерьма; того самого, коее раньше считал философией и настоящей литературой. В реальный зачет пошел только Александр Чудаков и, хочется верить, бессмертное «Ложится мгла на старые ступени». Прочие мейнстримные новинки не тянули даже на макулатуру.
Бесконечный состав времени пронесся чрез это препарирование двух рубежей и ехидно прогудел: «Да, мил человек. С хуйней ты разобрался лихо. В манной каше не утопишь». И из под колес проносящегося состава к будке кобыздоха полетела устрашающих размеров мостолыга. Мол, на-ка, обломай гнилые зубы о настоящие загадки.
***
… и «Бабье лето Джонсона Сухого Лога» не фигня для ностальгирующих мухоморов, и Фицджеральд силён не Великим Гэтсби, а пошло замыленной Ночью, которая нежна, как Сван в «АССЕ». Даже звенящая фляга Мозеса Герцога в нобелевском шедевре Сола Беллоу – про это. Трагедия стареющих интеллектуальных кобелей – хуйня в сравнении с пыточными камерами моралистов-камикадзе верхом на неугомонном либидо. Это уже Кабаков, падающий из тончайшего, почти Казаковского, трагического лиризма в чан с кипящей спермой. И это не от Буковски. Это гинекологическая отрыжка «Русской красавицы» Виктора Ерофеева, пошло пытающегося гешефствовать на однофамильстве с гениальным Веней. А Веня… Ну как объяснить внезапный ливень? Поэтому и о пользах теоретических из Вениных амурных заплывов не станем. Дабы не смешить умных людей. Это как с ехидствами нависающего над ним Розанова. Ну не нравилось Василь Василичу, как выглядит справляющая нужду женщина. Это о понимании, а не «О понимании». Два берега.
Сколько их? Сломавших шею, сколько? Раньше казалось – спасительный круг. От чего? От ебливого волюнтаризма несчастного Шопенгауэра? Бился с ним Соловьев, бился – да сам в космогоническую теософскую еблю и угодил. И уволок за собой весь Серебряный век. И еще полвека круги по воде шли. Без Пастернака так и не узнали бы, как шикарна моющая полы Зинаида Нейгауз.
Разборки с прошлым, с диссером полоумного, уронившего в обморок гомерического хохота философский факультет универа (Смотрите, этот клоун взял темой «Смысл любви»!) закончились полной победой любви, которая смеялась ему в лицо, прыгала по лысому черепу, дергала за несуразно растущую бороду и показывала язык. В этом гигантском пляшущем уравнении с тьмой неизвестных оказалось решительно невозможно пренебречь ни одним элементом. Решения уравнения не было. Потому что все эти элементы решениями сами для себя и были. И творили, что бог на душу положит.
Тонуть в этой космогонии мозг отказывался. И только где-то глубоко внутри невидимый старенький часовщик лукаво подмигивал, терпеливо смазывал шестеренки ходиков и что-то шептал кукушке.
картина: Алекс Вознесенский «пенсионный возраст»
http://finbahn.com/алексей-вознесенский-россия/
КЛАДБИЩЕ
— Ну здравствуйте! Вот я до вас и доплелся. Все здесь. Как один. Могилка к могилке. Крестик к крестику. А оградка одна. На всех. Как и жизнь одна. На всех. Даты только разные. Но с годами, с долгими этими годами, — все ближе. Уже и сейчас почти слились. Как же вас всех… Вроде и поодиночке каждого. А вышло очередью. Наповал. Всех ведь наповал. Я вот выпить нам принес. Много принес. Очень. Как тогда. Я разного нам принес. И шила, и водки из ларька, и конины, и портвейна того нашел, и квадрат, и пива в трехлитровой банке… Всего. А закуски мало. Тоже как тогда. Что градус-то красть. Так-то я и не пью. Почти. Давно. В завязке. Но с вами, как без этого? Это и не встреча будет. Вы не говорите ничего. Наливайте. Я за вас все скажу. Я все скажу. Всё, всё. Наливайте. Я всегда тогда говорил. Я ведь один и говорил тогда. Без умолку. Говорил и говорил. Это сейчас я молчу. Уже 15 лет. Молчу. И с каждым годом все глуше. А помните?..
И старая шарманка несет по 70-м, 80-м, 90-м. Несет и обрывается. Она всегда обрывается в конце 90-х. И я долго еще ползаю один. Пьяный в жопу. Обнимаю ваши холмики. Пою в обнимку с крестами. Кричу что-то. Дерусь. Доказываю.
— Ты пришла за мной. Зачем ты опять пришла?
Она всегда знает, где меня искать. Всегда. Она привычно вытирает платком мою опухшую от бухла и слез морду, отрывает от крестов, от оградки и укладывает на диван.
— Отдай телефон. Отдай. Зачем ты опять звонил? Ну зачем? Не будут они отвечать. Не хотят они с тобой говорить. Забудь. Развела вас жизнь. Навсегда. Спи… Вот же беда-то. Вот беда.
картина: https://finbahn.com/михаил-павлюкевич-арт/
СМЫСЛ ЛЮБВИ
— Мыть руки — и за стол! Завязывай свою писанину.
— Угу. Пять минут. Страницу добью.
Мыть руки это у нас святое.
— Хлеб только в нарезке. Я в твой магазин не заходила.
— Сойдет. Нет, ты представляешь, что Соловьев… Куда там Экхарту и Бёме. Не мелочился. У вас Троица? Будет Четверица. Отец, Сын, Дух Святой и Любовь- София.
— Ты прожуй сначала. А София-то к чему? Он вообще крещеный был, твой Соловьев?
— Крещеный, крещеный. У него свои расклады были. Сколько раз пихал Таньке «Смысл любви». Бестолку. Хоть бы содержание прочла. Глядишь, и зацепило бы. Куда там.
— Всё. Давай тарелку. Говори сколько, я обратно на сковородку выкладывать не буду.
— София? Как тебе сказать… Он с Шопенгауэром воевал. Всю жизнь.
— Прожуй, а потом говори.
— Шопенгауэр считал, что любовь — обман.
— О как! А он вообще нормальный был, Шопенгауэр твой?
— Ну, все они с приветом. Обман… В смысле… Знаешь, у него сильный образ был: слепой гигант, а на плечах карлик.
— Я же говорю, больной. Хлеб — в пакет. И не надо так масло уродовать. Я сама заверну. Карлик, говоришь?
— Хорошо, по-другому.
— Только короче. Мне еще в магазин и к Ольге забежать.
— Короче так… Всё глухо и примитивно. Продолжение рода. Размножение. Ну, а чтоб с гарантией — нужна разводка. Крючок. Вот тут, типа, и любовь. Помнишь, я тебе про одного шизанутого психолога рассказывал? Как его?.. А, вспомнил — Козлов. Ну тот, что доказывал, будто любовь — заболевание? Типа помешательства временного?
— Не помню я твоего Козлова.
— Ну и бог с ним. У Шопенгауэра любовь тоже — разводка природы. Идет себе парень мимо девки и тут, бац — заболел. А то и оба сразу. Всё. Попались. Раз, и мы уже залетели. А дальше не важно. Дело сделано.
— Я и говорю, больной твой Шопенгауэр. А про «залетели», куда ж без этого. Тоже мне новость.
— Вот Соловьев с ним и сражался. Не просто в любовь верил, а к Троице ее привинтил.
— Правильно и сражался. Только Троицу-то зачем? И так все ясно. Посуда за тобой. Я побежала. Да, и Катю из сада не заберешь?
— Так зять же обещал.
— Таня позвонила, он не сможет, аврал на работе. И у нее. В общем, как всегда. Можешь курить на кухне. Только форточку открой.
***
— Ваше величество чай пить изволят?
— Давай через полчасика. Мне тут добить страничку.
— Я уже заварила. Иди мой руки.
— А курить можно?
— Потерпишь. Сходишь на лестницу.
***
— А Карсавин взял и бахнул «Петербургские ночи». Весь Петербург в 21-м поставил на уши. Как тебе, медиевист — и поэму о любви? Да в прозе! Да богословскую!
— Тебе в какую чашку?
— В синюю. Ага. Стоп. Хватит.
— А нормально кто-нибудь из них любил? Ну, по-человечески? Или только философствовал?
— Не то слово. Кьеркегор так вообще из-за своей Регины на уши пол-Дании поставил. Такие письма писал — сердце навылет. Правда, не женился. Дела мол. Я создан для философии.
— Ну и дурак твой Кьеркегор. Любишь — женись. Еще чаю налить?
— Всем бы такими дураками. Хотя, ты права… наверное. Он ведь так и написал, что самый счастливый тот, кто не родился.
— Что я говорила? Сначала надо было девке сердце разбить, потом не жениться, а дальше понятно — хоть в петлю. Тогда лучше и не родиться. Всё, иди кури на лестницу и нарисуй Кате что-нибудь. Ребенок уже полчаса ждет. От мультиков ошизела. Банку возьми у дверей. На лестнице окурков уже через край.
***
— Деда! А лису?
— Катя, лиса вчера была. Давай, зайца нарисую?
— И собачку. Деда, собачку нарисуешь?
— Хорошо. Будет тебе собачка. Мультики я выключаю. Ты их без конца смотришь.
— Деда, а ежика нарисуешь?
— Катя. Сейчас. Пять минут. Деда только допечатает.
— Вооооот у ежика носик. Вот лапки.
— А еще лапки? Здесь только две.
— Вот тебе еще лапки. И яблоко. Ежики яблоки любят.
— А грибочки любят?
— Любят, Катя, любят.
2012
фото: мама, мы, дочки, зять, старшая внучка и мелкие внуки.
SOS
Конечно опоздал. Давно надо было забирать. Да что уж там… Всё ясно. Он качал седой головой и клял себя на чём свет… И ведь как просила! И слышал. Как такое не услышать? Через все радиопомехи, через свистопляску эту солнечную и метеоритную чехарду крик её прорывался. А он всё откладывал. Списывал на… М-м-м-д-а-а-а. Косяк. Тут и говорить не о чем. И теперь он осторожней обычного, бережно так, что даже Отец удивленно поднимал галактические брови, вел её по коридору. Я отмолю, – повторял и повторял он. – Уж прости меня, старого. Не углядел. А сам опускал глаза. Потому что смотреть на неё было страшно. Кровавая, узлами перекрученная колючая проволока это была – душа, висящая на волоске опоздавшей любви его.
картина: http://finbahn.com/евгений-кравцов-россия/
БИНОМ
Зачем ты со мной живешь? Любовь? Даже Соловьев исчерпал все ее виды и ушел за своей недостижимой Софией. И заодно увел за собой в «Noctes Petropolitanae» медиевиста Карсавина, чтоб тот сгинул в лагере Абези… Кьеркегор ведь все сказал, отказав своей Регине.
Зачем ты со мной живешь? Зачем я с тобой живу?
Любовь? Даже Соловьев исчерпал все ее виды и ушел за своей недостижимой Софией… (повторяю и повторяю).
А мы живем во всех этих классифицированных им видах ее Смысла. Где смысла нет. А есть невозможность жить врозь. Потому что проросли друг в друга.
Даже совершенно разные физиономически супруги на склоне лет становятся похожими.
Мы не нужны себе. И лишь в совместном проживании прячем от себя то очевидное, что пугает смертельно. За заботой друг о друге мы бежим от своего несчастного одинокого я. Того, без которого мы невозможны. Но и которое само по себе нам противно уже после 30-ти.
Зачем ты со мною живешь? Быть может, ты веришь, что я таки обману замысел создателя и посрамлю прах Шопенгауэра? Но ты о нем ничего не знаешь. Да и кто знает? Не книгам же верить.
Словно два хомячка в коробке, мы прижимаемся друг к дружке и, закрыв глаза, гоним мысль о смерти по одиночке. Мужество прожить жизнь одному – высший идиотизм. И мы будем тесней и тесней прижиматься друг к другу. Все искусней и нежней предупреждать любое желание друг друга. Потому что мы верим в любовь — к себе. Которая в одиночку невозможна.
Будучи самой совершенной формой несвободы, любовь присвоила себе издевательски противоположный символ крыльев.
«Я пойду на железный базар и куплю железные цепи для тебя, о моя любовь».
Только Солоухин и смог перевести Превера. Потому что не перевел, а понял.
– Зачем ты со мною живешь?
– Ты же знаешь: я лучше всех завариваю тебе чай и ухожу из кухни, чтоб ты мог спокойно покурить. Ведь ты не можешь без сигареты.
картина — https://finbahn.com/бабенков-михаил/

РАЙ
Молоко у жены пропало почти сразу. Это в Ленинграде еще трепыхались детские молочные кухни. А в пригороде… 1986-ой мог предложить только детскую сухую смесь «Малыш», наполовину состоящую из сахарного песка. И — о, чудо! – кто-то сказал, что в городе можно найти финское детское молочко Tutteli. Раньше самую большую очередь я видел за югославскими сапогами. Сам же и стоял в ней целый день, отмечаясь каждый час. За Tutteli мало было стоять часами. Надо было стоять постоянно. Ребенок должен есть каждый день. А дома… А дома ждет дежурная огромная чугунная ванна, доверху полная пелёнок-распашонок. Стиральной машины не было (роскошь невиданная). Как не было и стирального порошка. Хозяйственное мыло – и вперед. Если б тогда нам показали памперсы, мы б умом повредились от такой ненаучной фантастики.
***
Какая же крутая вещь – трамвайная печка. Если положить на неё рядком сигареты и не лениться переворачивать – через 5 минут из пачки сырого кислого «Космоса» вы получите целых 20 штук прекрасного “Винстона». Строительные вагончики-бытовки в промзонах – самое райское место на Земле. Кипятильник, пачка грузинского чая, пяток вареных яиц, буханка хлеба и радиоприемник. Кайф. Иногда таскал и печатную машинку. Вот же дурацкая страсть была – перепечатывать стихи на листки записных книжек, для чего книжка разбиралась и заново сшивалась. Эдакий шик – карманный самиздат. Дипломат, битком набитый этими томиками, до сих пор под письменным столом. В 91-ом вагончики закончились. Смерть страны я застал уже в бункере братвы на Московском проспекте за игрой в Prince. И точку в истории огромной империи поставил Стинг. Mad about you – мой 91-ый, мои поминки по СССР.
***
Почему-то именно сейчас, через 30 лет, начали сниться эти вагончики из 80-х. Долго ковырялся в башке лысой: что это? к чему? почему именно они? почему 80-е? И правда, почему? Ведь в 90-е было стрёмней, горше и страшней. Впрочем, страшней валютных мажоров с Выборгской трассы в начале 80-х я не встречал. За валюту к стенке ставили. И ребята были конкретные. Может потому на чичи-гага, на быков и торпед 90-х я смотрел уже без придыхания…
А вагончики? Бытовки-вагончики с родными трамвайными печками снова меня куда-то везут. В одном из них в глухой ленинградской промзоне за бесконечной паутиной железнодорожных путей-стрелок, забитой составами, весной 87-го под высушенный душистый «Космос» и написалось:
А дальше, как и раньше – пустота.
Измученную насморком природу
Покинула былая красота
И, ветками шурша, упала в воду.
Все краски, всю живую акварель,
Все с грязью размешал паршивый ветер.
И моросил сентябрьский апрель.
Большая осень на весеннем свете.
Зима девчонкой плакала навзрыд,
Как сахар грустно таяла в стакане.
Пристыжена, поставлена на вид.
И без надежд и без гроша в кармане.
Так без надежд с душой на сквозняке
Ловил как воздух в сером небе просинь.
Весна осточертевшая уже,
Давила грустью, как дождями осень.
…..
Теперь так не пишется. Закрылся Рай.
картина: http://finbahn.com/
ЛУК И ЛИРА
Вот, собственно, и всё.
– Я ведь эту книгу на стуле всю жизнь помнить буду.
Она смотрит на меня в упор, и я понимаю – действительно будет. Раз за восемь лет не забыла.
***
… Откуда она тогда пришла за полночь? С какой пьянки-гулянки через два дня? Я сейчас и не вспомню. Зато четко помню ощущение полнейшей беспомощности. Говоренные-переговоренные слова натыкались на броню.
– Это все твое из нее лезет. И что? Чего ты добился этим своим «Ты не наша вещь! Мы за тебя твою жизнь не проживем!» О! Вот она и живет. Полюбуйся. Вся в папочку.
Помню, что ни сил, ни желания на очередной скандал не осталось. Уже глубокой ночью, высадив пачку сигарет, снял с полки том, вошел в дочкину комнату, где топор можно было вешать от перегара, и положил книгу на стул у изголовья дивана. Обложкой вверх: Фридрих Перлз «Внутри и вне помойного ведра».
***
Технари на лекциях по философии – та еще картина. Зато азарт какой. Почти как партию в шахматы выиграть. С ними экзистенциально можно. Но только после полного поражения их формальной логики. А этого еще дождаться надо. Это минимум первая половина пары.
Особенно если тема «Свобода».
– … вы ведь не сами. Это родители вас спланировали. Но вы то тут при чем? Это не вы родились. Это вас родили. И с этого момента в вас заливается информация. Вы ее, информацию эту, источники ее, характер, выбирали? То-то. Но ее в вас закладывали. И вы ее впитывали. Из того окружающего мира, который опять же не выбирали. А там уже и новый круг: ясли, сад. С кем, кто, как? А в вас накачивают и накачивают. Дрессируют. Учат правилам общежития. В саду, дома, в гостях, на прогулке. Мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, няни и воспитатели. Плюс во дворе – правила жизни в лесу. А потом школа, где информацию грузят вагонами. А хочешь спросить – подними руку. А не согласен – дневник на стол. А в вас начинает просыпаться Голос. А ему по башке. А вы уже и привыкли. А вы уже и так с пеленок приучены по правилам. И множатся и множатся эти правила. И вы начинаете эти правила изучать, систематизировать, анализировать. Правила, придуманные не вами. Вы начинаете при-спо-саб-ли-вать-ся к эшелонам правил. То-то. А впереди работа, офисный фашизм, «компания – мой дом» и прочий цивилизованный фэн-шуй.
Главное, говорить то, что они и так прекрасно знают. Придумывать ничего не надо. Только складывать пирамидку. Они слушают не перебивая. Их глаза все грустнее. Тема держит. Держит жесткой правдой. Важно только не заплетать им мозги всякой эквилибристикой. До осознанной необходимости их доведет жизнь. На лекции об этом бессмысленно.
– …и природа наша – зависимость. Тотальная. Любая естественная потребность – зависимость. А живем на автомате, значения не придаем. Привычки, привычки. Все, что противоположного пола – тревожит. А свет выключить и принять на грудь – накрывает. И никуда от этого. Вы в этом по уши. Про любовь и говорить нечего.
– А что про любовь? Да, а что про любовь?
На этом месте предсказуемое оживление. Сбоев не бывало.
– Да, а что про любовь?
Это и есть крючок. И они его заглатывают с размаху. Вот теперь самое время на перекур. За перерыв они сами себя доведут до белого каления. А на второй половине пары…
***
Ну вот и всё. Последние обнимания перед контролем, и жена покатила чемодан на таможенный досмотр. Очередной отпуск врозь. Двадцать один день. Самолет взмывает в небо.
Дорога домой кривая и неспешная. Торопиться некуда. Никто не ждет. Воображение рисует планы, которые по мере приближения к дому улетучиваются.
Сижу на кухне и, уставившись в настенный календарь, курю сигарету за сигаретой. И смешно и грустно. Как прожить одному три недели? Огромный черный норвежский кот печально пучится на меня из прихожей. Он со вчерашнего вечера все просек и отказывается есть.
– Что, Мика? Вот мы с тобой и осиротели.
***
– Ну уж дудки. У меня муж будет не такой. Этого еще не хватало!
Когда она заводится, щеки ее наливаются краской.
– Ага, прямо в магазин пойдешь и как холодильник по характеристикам выберешь.
– И нечего меня пугать и воспитывать. Я за идиота не пойду. И за голодранца не пойду. И вообще, я свободный человек и сама буду выбирать.
Я смотрю на нее и мне хочется смеяться и плакать. Дурочка. Кто ж тебя спросит? Когда ошпарит – мозги первыми и откажут. А уж кто? где? и как? – одному богу и ведомо. Может быть.
***
До конца пары остается минут десять. После тридцатиминутной анатомии любви они на издохе. Я знаю, что «Смысл любви» Соловьева они запомнят на всю жизнь. Но последний вопрос еще не задан.
– …ну и кто мне теперь, только одной фразой, это опишет?
Тишина. Хотя ответ всем ясен и он висит в воздухе.
– Хорошо, давайте так: «Я без него не могу». «Я без нее не могу». Без возражений?
Эту парочку я приглядел еще в начале лекции. Теперь они сидят, крепко взявшись за руки.
– И самое последнее. Кто мне напомнит тему лекции?
Глаза надо видеть. Эти глаза. Много много пар глаз в гробовой тишине.
Я беру мел и крупно вывожу на доске: СВОБОДА.
***
В вечернем вагоне метро каждый в своем. Кто в книжке, кто в телефоне, кто во сне, кто в себе. Наши взгляды как-то смешно пересеклись и… Боковым зрением вижу, как она меня изучает. Обстоятельно, по-женски. Потом моя очередь. Она делает вид, будто что-то ее отвлекло, давая спокойно себя разглядеть. Видно, что переживает. А минут через пять уже смотрим друг на друга почти не отрываясь. И с каждой минутой грусть накрывает обоих все больше и больше. Вот и глаза через паузы в пол. И в глазах этих… И ясно все без слов. И ясно, что слов этих и не будет. И ничего не будет. Потому что все, что могло бы быть, и все что могло бы быть после этого могло – пролетело, родилось и погибло за эти минуты пути. Она выходит из вагона потерянная и прекрасная. И только резко оборачивается на набирающий скорость вагон. Наши взгляды пересекаются в последний раз. А в моей голове ни к селу ни к городу крутится название старой старой литовской ленты «Никто не хотел умирать».
Photo by Emmet Gowin
http://finbahn.com/emmet-gowin-usa/
ШИЛО
Дрянь на душе была такая, что… В почти прибитом организме за день набежавший дежурный литр (6 по 150) даже не болтался, а хлюпал гибельной трясиной. Я сидел на платформе «Девяткино» в ожидании последней электрички. Домой? Домой меня такого уже несколько лет если и ждали, то радости там точно не было. Как не было радости в этом 91-ом. Ни у них. Ни у всей поставленной раком страны. Рядом на скамейке два мужика приговаривали литровый пузырь «Рояля». Предлагали и мне. Да я сам был уже сплошной «Рояль». И они понимающе и с чистой совестью приканчивали в два горла. Третье вынырнуло ну совершенно невероятным образом. После выстрела-щелчка по платформе поплыл вышибающий слезу кошачий Булановский сироп «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой».
https://www.youtube.com/watch?v=nFqDXZGj4yk
У выхода из метро курил и плакал пьяненький дежурный мент. А по платформе брела худая ярко накрашенная пацанка с магнитофоном в руках. Мужики рядом сглотнули и протянули мне пластиковый стакан. Домой я уже не приехал.
фото: http://finbahn.com/олег-виденин-фото/
ОНО
Из последних сил утюжишь мордой мятую-перемятую подушку. Бестолку. ОНО нависает и буравит мозг. Делать нечего. Пугая кота хрустом суставов, ползешь на кухню. Вот он, твой аналой – затертый рисунок выцветшей клеёнки с сизым кругом пепельницы. И от него уже никуда. Ты в него. ОНО в тебя. Вот же сука.
Вот потому и сидит Шефнер своей «Круглой тайной» в башке все эти десятилетия. Рюмочку на полочке извольте. Мы ж понимаем. И чеши долг возвертать.
Ну… тут рюмочки не видать. И помощников нема. Скрипи извилинами сам.
Господи, как же я ненавижу всю эту литературу. Как же ненавидит меня она. Это намертво и взаимно. Нахрен писать, когда всё написано? Нахрен читать, когда всё прочитанное из башни фаршем набекрень? Ну не в коня корм.
«Вселенная сама тонко настроила законы в соответствии с соображениями о ценности. Когда это произошло? В первые 10 в минус 43-ей степени секунд, известных как планковская эпоха. Космопсихист может предположить, что на этой ранней стадии космологической истории сама Вселенная «выбрала» тонко настроенные величины, чтобы сделать возможной ценную вселенную». Вот же, как завёрнуто. Ни проверить, ни нахуй послать. И только ОНО пялится на тебя. Ржёт в лицо. Беззвучно. И от того невыносимо.
По-молодости да в пьяном угаре сделать всем ручкой как-то духу хватало. Довозили, блядь, до реанимации. После весь мозг выклевали. Грех, грех. А что сейчас? А сейчас глаза. Кругом глаза. Ох, сколько бы написал. Сколько бы рассказал. Да только приговор это будет. Всем кого. Всем, про кого. Даже вывел максиму: «Если написать всё, что в голове, бог первым спустится на Землю и сделает контрольный в голову. Это будет онтологическое самоубийство». И название подобрал – Zugzwang.
Вон нонче и умным быть не надо. Жамкай на кнопку, гугл быстро накидает мудрил. Типа, таких: «Если вы говорите с богом, это молитва; а если бог говорит с вами, это шизофрения». О как! Мощно. Прочел и пиздуй по компасу. После таких максим желание умничать улетучивается в миг. А желание писать? А тут так: или всё, или нехер бумагу переводить. Да только всё это – неотвратимое приближение к той самой границе, за которой все эти глаза в тебя иглами и вопьются. В гениальной «Схватке» Майкла Манна есть поразительный диалог героев Аль Пачино и Де Ниро. Вот кусочек, сидящий занозой с 95-го года – это сон героя Аль Пачино: «Я сижу за большим банкетным столом, а вокруг покойники из дел, которые я вёл. Они таращатся на меня затекшими глазницами. И молчат. Молчат и таращатся». Вот и у меня начинает выстраиваться такой стол. И цугцванг давно. Потому что молчат и таращатся. Да еще это – ОНО. В первые 10 в минус 43-ей степени секунд, известных как планковская эпоха.
***
обожрешься собой
захлебнешься словами
пой рефлексия
ной
бог привет
между нами
за тобою собой
наблюдает оно
дно проекции той
о моё сатанó
человеко за веко
бревно во всю зенку
тем бревном
я пожизненно вмазанный в стенку
припечатан
за лужей большой напечатан
и надежно в ряды
запечатанных спрятан
рвется вон из себя
охреневшее эго
в микроскопе творец
наблюдает как мега
среди прочих
микробом корячится мег
задыхается
бедный
смешной
человек
АХМАТОВСКИЕ КОТЫ
………………………………..Исанне Лурье с любовью
Настоящая слава всегда внезапна. Всегда оглушительна. Это потом ты понимаешь, что бох тя берег и подводил к ней исподволь. Но это всё слова. Умничанье задним числом. Подвёрстка это. Одним словом – фуфло. Главное одно: для переживших – слава всегда обухом по голове. И ты вслушиваешься в себя, всматриваешься. В себя нового. Извещённого. Мол: получите-распишитесь – СПРАВКА: вы гений, мир у ваших ног, подпись, печать, исх №.
***
О том, что приглашен в Музей Анны Ахматовой на Литейном провести авторский вечер узнал через вторые руки из фейсбука. Старейший сотрудник музея, Исанна Лурье, оставила приглашение после моего коммента к посту писателя Мины Полянской. А мне откуда знать, кто там и что оставил? Я с фейсбуком на вы. Сигналов его не ловлю. Впрочем, надо полагать, это так принято у них на Парнасе. Все ж знают. Мышей ловят. Тока я, лапоть сельский, не в темах. Мина в своих Германиях улучила минуту и кинула мне, убогому, в личку: мил-сударь, Алехандро, тебе там приглашение, ноги в руки и чеши на Литейный к Исанне. Это слава. Признание это. А что накоротке и не в твою форточку извещение – делов-то… В горнем мире и не такие кренделя пекут.
Но я не поверил. Набрал рабочий номер музея, представился Исанне Михайловне. Всё чин-чинарем. Осторожно поинтересовался – не наёбка ль, али шутка юмару какая? Оказалось, нет. Давно, дескать, следят за творчеством. Более того, хотят и о моём альманахе «Финбан» поподробней. Питер, мол, на ушах. Исанна Михайловна пригласила обсудить детали Вечера.
Мать честная. Аж задохнулся. Но один ехать боюсь. Зову на помощь самого близкого человека, Антонину. Это мой Резерв Ставки. Пушкинский дом, лит-Петербурх, филологическая обойма. Вся моя убогая писанина в NY через её редактуру. Короче – прикрыт по полной. Уже и не так страшно. Исанна Михайловна радушна и приветлива. Напоила нас чаем с конфетами, показала зал, где пройдёт ЭТО. По такому большому случаю затребовала ведущих и экспертов. И прям на месте они с Тоней всё и порешили: Павел Крусанов и Илья Бояшов (раз они писали рецензии на мои книги в Штатах). Ну и Антонина, само собой.
И тут Исанна Михайловна озадачила:
– Да, Александр, и сами книги, собственно. Надобны и много. Столько читателей-почитателей. Да и такой случай. Город ждёт. Грех не потратиться.
А вот это уже беда. Все книги там, за большой лужей. Их надо заказывать в издательстве. А это хренова гора денег. Но и тут бох улыбнулся в усы, и еще один ближний друг подставил плечо. А сумма-то ого-го. Доставочка кусается. Да и сами книги при нашем-то курсе рубля – золотые.
***
В означенный день я был чисто вымыт, гладко выбрит. В каждое бедро засадил по уколу диклофенака. На двойную дозу кайфа перебитая спина удовлетворённо крякнула: «Яволь майн фюрер. Буду держацц, аки гитлерюгенд на штрассе Берлина. До последнего фаустпатрона». У входа в Музей Антонина сообщила, что Крусанов срочно вылетел в Москву, и его заменит Вадим Левенталь, главред «Лимбус Пресс». Но, мол, не ссы. И так обойма – будь здоров: два топовых писателя и мега редактор. Выдохнул. Прошелся вдоль рядов стульев. Подумал, хватило б на всех. Потрепал спящих знаменитых ахматовских рыжих котов. Вот же сейчас перепугаются. Такая толпа ввалит.
Последние полчаса до начала я был как в тумане. Я мысленно отвечал на записки гостей, видел себя смущенным в охапках цветов и подписывающим книги.
В час икс я выдохнул и распахнул двери.
***
Закрывая пустой зал, Исанна Михайловна прервала мой ступор:
– Александр. Тут такое дело. С вас причитается некоторая сумма. Билетов-то не продано вовсе. А чем аренду покрывать? У нас хозрасчет.
Про то, что весь этот мутень не я заварил – ни слова. Мне и так — хоть сквозь землю провалиться. А тут еще это. А язык отсох. И в карманах шиш. Стою, как обосранный. Выручает Тоня.
– Я вам завтра завезу. Не смейте беспокоиться, дорогая Исанна Михайловна.
Тоня взяла меня под руку и повела. Бредем по Литейному из Ахматовского музея.
И тут уже настоящий контрольный в голову. Уже от неё.
– Левенталь уходя сказал, что случись такое с ним, напился б да удавился.

ФИО
– Ты только обязательно найди этот фильм.
Мама так просто ничего не советует. Ночью, не отрываясь, смотрю «Рудольф Баршай. Нота» Дормана.
На следующий день за чаем обсуждаем. Доходим до 10 симфонии Малера, которую Баршай дописал.
– А знаешь, ведь твой отец Малера любил. Я ему однажды пластинку подарила. Ты не представляешь, что такое в 60-е было найти пластинку Малера… А у нас и проигрывателя-то даже не было в доме.
Как же он его любил…
***
– Посмотри, какие у тебя пальцы. Как у отца. И что ты их жрешь-то? Ведь до мяса искусал. Горчицей, что ли, намазать.
Грызть не ногти даже, а руки я начал в семь лет в больнице, где валялся после аварии. На перевязках врачи вечно торопились, отдирали бинты… Упрашивал, чтоб разрешали самому. Отгрызал. Так и пошло… и не отпускает. «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой…» И стал криворуким. Дразнили все детство. Бабой-ягой – костяной рукой. Чтоб сразу и за фамилию. Дети – самый безжалостный народ. А когда в музыкальной школе, поглядев на мою клешню, вместо вожделенной гитары всучили гигантскую балалайку размером со шкаф и страшенным железным шипом, который нужно было втыкать в пол для устойчивости этой бандурины с тремя струнами, комплекс неполноценности вырос до размеров катастрофы… И я в хор попросился. «Что тебе снится крейсер Аврора…» Во втором ряду не страшно. Из зала видят только твою голову. И вроде как все…
***
Отчество есть. Фамилия есть. А отца нет. И не было. В моей памяти не было.
Нет. Есть одно воспоминание. Высокая фигура в коридоре коммуналки. И я стою задравши голову. Сколько мне лет тогда было? Одиннадцать. Мама говорит, что пришла с работы, а я в коридоре ее встречаю испуганный и веду в комнату. А там он.
А какой он был, не помню. Нет. По фотографии помню. Белая рубашка, бабочка. Профиль гордый. Консерватория… А в жизни не помню.
– А он откуда тогда приезжал?
– С отсидки… очередной. И стал рассказывать, что, мол, договорился с директором музыкального училища, чтоб тебя взяли… Куда взяли? С такой рукой… Он что, не соображал?
***
– А Сашей почему?
– Я Вадимом очень хотела. А отец твой ни в какую… Пока спорили, бабушка приходит и говорит: «Всё. Записала мальца Александром». И маленькую на стол, мол, вопрос закрыт.
– А это твой прадед. Вот тут с двумя георгиями. А ту фотографию, что с тремя, это уже после Первой мировой, сестра не отдает. Сколько лет прошу: «Дай хоть переснять». Ни в какую. А так да – полный георгиевский.
– А дед?
– Я немного помню. Мама, бабушка твоя, рассказывала, что когда немцы Луцк начали бомбить, отец примчался. Мама спрашивает: «Война?» А он: «Маня, это артподготовка». Нельзя было тогда слово «война» произносить… А когда все стало ясно, он приказал во двор пушку закатить и роту автоматчиков поставил. Комсостав.
– Комсостав?
– Звания я не помню. Главный санитарный врач Ковельской железной дороги. Конечно – комсостав. Они семьи спасали. Поляки же начали резать евреев и русских до прихода немцев. Резали страшно. А немцы сразу разбомбили наш аэродром. Отец прибегает: «Маня, бегите к реке!» Мать со мной и побежала. Все бежали. А «мессеры» на бреющем нас расстреливали. Я до сих пор лица летчиков, как сейчас, вижу. Так низко летели… И паника началась. И тогда спешно состав сформировали, и все побежали к вокзалу. Нас с мамой автоматчики сажали в теплушку – иначе не пробиться было. И только сели, крик: «Маааааняааа!» Смотрим, а отец стоит за огромной толпой… с чайником. И не проститься ведь. Так меня по рукам отцу передали. Он меня поцеловал и так же по рукам обратно в вагон… И мы в том вагоне прямо до Ленинграда. И прямо в блокаду… А от отца потом только два письма пришло. Последнее из госпиталя под Киевом. С датой. А ведь через три дня после этой даты немцы Киев взяли. И всё… Немцы командиров расстреливали на месте.
***
– …А ты взял и заплакал на весь зал филармонии. Маленький же был совсем. Три года. Пришлось тебя срочно уводить. Потом консерваторские друзья отца смеялись: «Не, Иван, не быть Сашке музыкантом». А отец твой упирался: «Вот увидите. Я из него музыканта сделаю». Помню, когда Ростроповича совсем стали зажимать, ему филармонический оркестр уже не давали. И Большой зал не давали. И вот он в Малом зале дал концерт с консерваторскими. Я его, как тебя видела. Отец в первый ряд посадил. И его, конечно, видела.
– А отец на чем играл?
– На контрабасе. Класс Курбатова. Может, и сделал бы.
– Что сделал бы?
– Да музыканта из тебя. Помню, спрашиваю у него: «Вань, а чего он язык жует?» Ростропович во время игры язык жевал. А он: «Так гений. Они все со странностями. Когда играют, отключаются».
***
– Я ведь только два раза сорвалась. Один раз, когда вместо денег за несколько месяцев… понеслось вранье. И потом еще какой-то поношенный костюм мне из сумки стал пихать. Вот я и начала молча бить посуду. Всю… Он тогда испугался. Но ненадолго. Все эти загулы и вранье продолжились. Потом он деньги какие-то консерваторские опять прогулял. Карты, девки… А последнее… Да не было больше сил. В общем, когда он в очередной раз…, я эту пластинку Малера об пол и шарахнула. Вдребезги.
ФАБРИКА
Фабрика в нашем подъезде размещается на 3-ем этаже в квартире 55. Большая. Станков 1000 – не меньше. Марья Андреевна как раз под ней, этажом ниже живёт. В 51-ой. Когда станки на фабрике включаются, Марья Андреевна стучит палкой в потолок. Собственно, когда по всему подъезду начинается стук её палки, мы и определяем – фабрика заработала. На дверях фабрики Марья Андреевна ежедневно вывешивает Заявления с угрозами. Вся дверь фабрики – увешанная в пять слоёв разномастными листками доска объявлений. Заходящим в подъезд её демонстрируют как достопримечательность. Раз в год наша местная жандармерия, дабы закрыть сотни жалоб на Марью Андреевну, приходит на фабрику. Обходя зияющую тишину нежилой нехорошей квартиры, Марья Андреевна победно демонстрирует органам правопорядка уходящие за горизонт ряды гремящих станков. Убитая, столь впечатляющим железобетонным аргументом сокрушительной индустриализации на площади в 30 квадратных метров пустой квартиры, власть ретируется, отсылая воющих жильцов подъезда к другому департаменту.
Марья Андреевна очень любит детей. Да всех любит. Летом и зимой, в неизменных резиновых шлёпках на артрозных синюшных ногах и плаще поверх неизвестно чего, она бредет к магазину, улыбаясь детям и профессионально перехватывая взгляды взрослых.
У Борьки фабрика заработала в начале 90-х. Мы с ним до 8-го учились. Богатырского сложения и с руками золотыми. Краснодеревщик. Всё хотел стеллажи книжные маме у него заказать. Но для него это – мусорная работа. Что-то у него стряслось с женой (сам не говорил – а знакомые вглухую), и как-то пропал он из виду на время. И встречи с ним возобновились в электричках. Он просил милостыню по вагонам. Запах мочи и помойки шел фронтом метров за 5 до его приближения. Глаза безумные. Умер где-то в канаве у поселка. В несколько этапов жена выселила его сначала из его же квартиры, потом из комнаты, сарая, и…
У отчима фабрика стартовала в 2002-ом. Я пристраивал его на работу к школьным «друзьям»-бандитам – но он ото всех сбегал (категорически не мог ничего мутить). Мы пытались его переагитировать, ругались. И фабрика заработала. Сгорающий от рака мозг оставил только имена внуков. Им он и улыбался до последних дней.
Лёхина фабрика застучала в Приднестровье. Тоже до 8-го класса вместе. Когда спускаюсь во двор курить, часто встречаю. Леха мне рассказывает о том, какие части его братишек-ВДВэшников сейчас на Украине, в Сирии, Ливии, Афгане. Называет позывные и численный состав бригад и групп и обещает, что скоро всех бизнес-упырей они повесят на деревьях по всей России. Леха, как и я, подшитый. Когда он расшивается – и без того гудящая в три смены фабрика начинает выдавать пятилетку в три года, и наступает Кандагар и Курская дуга в одном флаконе. В эти дни даже самые отмороженные наши престарелые бандюки и чичи гага обходят Лёху стороной – прилететь может каждому.
Первая (на моей памяти) фабрика открылась еще в 70-е. В школе на доске золотых медалистов фотографию Френкеля знали все. Гений. Мама его заведовала нашим ДК. К ней его и приводили все, когда работающие станки совсем сбивали его навигацию. Когда она умерла – он вскорости пропал. Сейчас из окна кухни часто наблюдаю, как в помойке роется еще один наш золотой медалист. На год младше – 83-го года выпуск.
Как-то в середине нулевых в электричке встретил Сашку – одноклассника. Он (спортсмен) в начале 80-х после службы в Монголии билет на журфак Универа получил. В последние годы видел его только в НТВ-эшных репортажах. И тут вагон электрички. Сидим-болтаем. Мимо бомж по проходу. Задел его. Ну и фон…Сашка что-то левое ему ляпнул. Наша станция. На выходе я Сашке бросил дежурное про суму и тюрьму. Он мгновенно подобрался весь. А потом долго говорил – как заебала вся эта медийная помойка и проч. В следующий раз мы встретились через много лет на кладбище. У Женьки-одноклассника фабрика заработала еще в середине 90-х. Игровые автоматы, прочее казино. Семья в штопор. Из Штатов однокашка наш выкупил его у братвы. И продолжал все годы после развода как-то поддерживать. А тут фабрика решила дать план на гора.
— Алё! Марья Андреевна! Доброй ночи. Это ваши соседи. Мы уже ложимся. …. И вам спокойной ночи!
И зачем орать и колотить ей в дверь? А ведь сколько лет и орал и колотил. Когда нехорошую квартиру сняли для старшей дочери – чтоб с внучкой было близко прибегать сидеть. Шум фабрики всё равно не перебить. А на «Спокойной ночи!» стук иногда прекращается. Хотя фабрику не остановить. Мою точно. В 90-е вот хотели закрыть. И закрывали. А куда я рабочих дену? А план? Руки на себя накладывал. Вот и плюнули. Все. Сказали: пусть работает. И, слава богу. Если фабрику остановить – как жить? На что?
РОДИНА В БИДЕ
Сталкер…
А какие еще ассоциации могут возникнуть, когда видишь болты с человеческий рост и тяжелые железнодорожные составы, словно детские игрушки исчезающие в воротах цехов размером с ударные авианосцы? Колпино. Ижорский завод.
Для того чтоб дойти до здания ФАЭМ (Факультет атомного энергомашиностроения), нужно пересечь заводскую территорию по диагонали. Это минимум полчаса быстрого хода и полного охуения от увиденного. Именно охуения. Слово «офигение» ощущения своей ничтожности на фоне этого индустриального циклопизма ну никак не передает. После всех этих научно-фантастических пейзажей как-то забываешь, что встал в 5 утра и из своего карельского пригорода пилил на электричке до Ленинграда, потом через весь город на метро до «Звездной», а после на автобусе в другой пригород-город Колпино. Чтоб дальше полчаса пути вспоминать Стругацких и Тарковского при виде каждой многотонной гайки, боясь опоздать на первую пару, на которой будущим инженерам-атомщикам будешь доказывать неочевидность физики супротив очевидности философии. И все это с неизбывной горечью – а выпить после лекций где? Это тебе не город, в котором все рюмочные под рукой… И каждый раз, вернувшись из таких культпоходов, ловишь себя на мысли, что это не день прошел – жизнь прошла. Бестолку… В конце 80-х это ощущение было разлито в воздухе.
***
– Мужики, пить будете?
Сосед, Сашка, заговорщицки подмигивает.
Сидим у Вадима, друга и коллеги по кафедре. Его комната в коммуналке на улице Чайковского, в доме с известной всему Ленинграду пирожковой «Колобок», в середине-конце 80-х была для нас чем-то вроде центра реабилитации от пугающей действительности. Мераб Мамардашвили и Rolling Stones, Алексей Лосев и Joan Baez, Эвальд Ильенков и БГ, Тейяр де Шарден и Курехин. Под три семерки. Под все, на что были деньги. А вот когда денег нет, порой выручает Сашка – сосед.
– Саня, до получки?
– Не, денег не надо. У меня сегодня «чемергес».
«Чемергесом» Сашка называет дремучее пойло сумасшедшей крепости, которое он варганит из нитрокраски на ЛМЗ, где работает токарем. Сашке до фонаря Мамардашвили и Rolling Stones, Лосев и Joan Baez, Ильенков и БГ, Тейяр де Шарден и Курехин. Надо сказать, что после Сашкиного «чемергеса»… и нам.
***
– Саня, для тебя халтура есть. ЛМЗ работу подкидывает на 60 рэ в месяц. Короче, вот тебе телефон хмыря профкомовского. Ты с кафедры ему позвони, он объяснит, что и как. С тебя пиво. И… ни гу-гу.
Это хоть какое-то спасение. На сторублевую зарплату тяжко. Но итээровцам и преподавателям в сэсэсэре официально подрабатывать запрещено. Выход – вторая трудовая. Поколение дворников и сторожей отсюда.
Впрочем, поскольку наш институт готовит кадры для завода, завод как-то там химичит и редко, но подбрасывает левые халтуры вшивым интеллигентам. Это покрыто страшным конспирологическим туманом.
К слову, сами работники ЛМЗ и Ижорского упакованы так, что им завидуют даже ленинградские мажоры. Импортные джинсы, пуховики, обувь, магнитофоны, наборы с тушенкой, сгущенкой, чаем и кофе. На фоне тотально пустых прилавков в конце 80-х это шокировало. Все это счастье шло бартером за… турбины для зарубежных АЭС.
Звоню профкомовскому хмырю, и через час он уже инструктирует меня в своем кабинете, увешанном бодрыми вэцээспээсовскими плакатами. Суть халтуры примитивна – инвентаризация санузлов в цехах завода. Профсоюзный босс краток и афористичен:
– Сосчитаешь все пиздомойки и сральники. Идешь по второй трудовой. Дуй в кадры. Я позвоню. Там оформят. Потом в пропускной. С завтрашнего дня вперед. Вот телефоны начальников цехов. О том, что у нас в институте преподаешь, не пизди.
Кстати, что?
– Что что?
– Что преподаешь?
– Философию.
– Мозги, значит, ебешь? Ну вперед, коллега…
https://finbahn.com/андрей-чепакин/
«ВАШ МАГНИТОФОН»
В конце 70-х я ждал этого мгновения так, как, наверное, не ждет ортодоксальный мусульманин встречи с Черным камнем Каабы. Каждую субботу в 23.15 я как штык уже сидел у радиоприемника. Это была передача ленинградского радио «Ваш магнитофон». Нет, не сама передача меня так будоражила. Хотя мало где (кроме перебиваемых глушилками вражеских голосов) можно было услышать хоть что-то из Западной музыки. Я ждал заставки. Ждал грудных виолончельных переборов, ждал мелодии, от которой цепенел. Что это? Кто играл? Странно, но я даже не задавался вопросами. Просто ждал встречи с непостижимым.
***
Через уйму лет в 90-ом, будучи глубоко и безнадежно женатым, я попал под паровой каток. Влюбленность. Убийственная. Парализующая. Притом, что я любил свою жену гибельно. На каком-то клеточном уровне. Это уже и не любовь была, а обмен веществ. И тут… Sturm und Drang. На охоту вышла амазонка. Разведенная. С маленькой дочкой. Филфак. Уроки французского… Что тут объяснять?
У отчаянья нет союзников. И советчиков нет. Человек гибнет одиноко. Именно тогда (нет, не в первый раз, но сокрушительно однозначно) прибило прозрением – любовь это смерть. Нет в любви никакого триумфа «я». Есть гибель этого трепыхающегося «я». Его сокрушительное поражение от силы, которую так пронзительно понял Шопенгауэр. Когда воля парализована смертельной лихорадкой вселенского представления. Когда всё рациональное в человеке буквально кричит об опасности, а всё метафизическое бредит самоубийством.
***
Потом, через месяцы комы, хлынут стихи. Каких раньше не было. Это будет очень короткий и грустный период (с 1991 по 94 год) практически стоической отстраненности и отрешенности от всего. Какой-то философско-поэтический постфактум. Прощание это будет. Со сказкой. После которого – ни строчки за 17 лет.
А в 90-ом, в самом эпицентре этой трясины меня держала та далекая мелодия из «Вашего магнитофона». Я крутил и крутил её в голове.
***
В начале нулевых что-то кольнуло. Словно летаргический сон прервался. Буквально за год до смерти отчима вдруг (и это через четверть-то века!) решил у него, всезнающего, спросить, что это за мелодия? Он попросил хоть как-то изобразить. Наверное, это было чудовищно. Но прошитое тоской безголосое и, напрочь лишенное слуха, существо выдавило то, на что отчим, грустно и мудро прищурившись, молниеносно выдал слова-заклинания.
Как же я бежал в музыкальный салон на Малой Морской. Я протянул трясущимися руками листок с магическими символами с такой мольбой в глазах, что благороднейшей красоты музыкальная дама, сверкнув бесовскими искорками, едва не утопила меня ответными токами… Каблучки постучали вдоль рядов стеллажей, и через считанные мгновения я держал в руках квадратик компакт-диска.
***
Откуда она могла знать? Сейчас в моей коллекции все мыслимые и немыслимые варианты исполнения этой вещи. Но мне был дан… нет, даже не аутентичный, звучащий в «Вашем магнитофоне». Мне было дано больше. Голос.
Villa Lobos: Bachianas Brasileira n.5. ARIA — Anna Moffo
Все эти долгие долгие годы, накрываемый грудным виолончельным, я искал именно этот Голос.
Голос далекого неотпускающего прошлого.
Слёзы мальчишки.
ЧЕЛОВЕЧИНА
… и так увлекся, рисуя гребаную эту теодицею, что не сразу увидел. А увидев, осекся резко. И заткнулся. По щекам дочери текли слезы.
***
Где-то по весне она заявила, что отныне вегетарианка. Жене чуть плохо не стало. Схватилась за голову. Было от чего. 18 лет ребенку, организм трясет какой год уже – перестройка за перестройкой. А еще выпускной класс, ЕГЭ на носу, завалы по предметам. Дочь в истерике. Срыв за срывом. Силы на нуле. А тут еще ЭТО. ЭТО не лезло ну ни в какие ворота. Жена была научена крепко-накрепко еще отцом: дети должны много гулять, хорошо есть и спать. База! Фундамент! И работало же. Старшую подняли. Внуки выросли. Младшая дочь поводов не давала… И, на тебе!
Великая китайская стена материнских представлений о порядке вещей рухнула. Дочь явила на айпаде такой душераздирающий гринписовский калейдоскоп варварства прямоходящих с взрывающими мозг кадрами всемирной индустриальной живодёрни, что жена – нет, не сдалась (и не такое видали…) – просто отступила.
Оставалась моя мама. Но и её железобетонная аргументация с убийственными примерами из органики и физиологии разлетелась в пыль. Забитые садистами бельки перешибали всю формальную логику.
Семья смотрела на меня. Последняя надежда. Типа – филосóф. Должóн.
И я начал. Неспешно. Обстоятельно. Мощно. Я живописал теодицею такого галактического размаха, что сам дьявол должен был немедленно брать меня своим адвокатом. На кону стояло здоровье ребенка. Я жёг. Наверное, круче, чем Фидель в своей знаменитой речи в ООН в 60-ом. Я едва сам не поверил в ту космическую ахинею с оправданием смерти ради правильного обмена веществ.
… я не сразу увидел. А увидев, осекся резко. И заткнулся. По щекам дочери текли слезы.
***
Лет пять тому сразу после Нового года поехали мы с ней фотоаппарат покупать. На обратном пути предложил перекусить. Вышли из троллейбуса, шли по пустынному Невскому. У Владимирского зашли в испанский ресторан Las Torres. Мы были единственными посетителями. Только этим можно объяснить то, что к нам вышел сам шеф-повар. Видимо, это было наградой за наш Новогодний подвиг. Дочь ковырялась в диковинном салате. А я… Я ел лучший стейк в Питере. Это был не просто рибай. Сотрясение мозга это было.
Дочь попросила кусочек. Взяв в рот, удивленно спросила:
– Что это, пап?
– Мраморная говядина.
– Корова?
Я чуть не подавился.
– Бычок…
…
***
Я всегда знал, что теодицея – ложь. Возможно, именно это отталкивает меня от церкви. Мешает верить.
картина — The Figure with Meat by Francis Bacon (1954).
ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ
А помнишь в 82-ом ты попросила у меня на кухне сигаретку? Мол, свои кончились. Как я вспыхнул тогда от стыда. Спалился. И протянул тебе пачку.
Ты рассказывала, что закурила с голодухи послевоенной. «Беломор». Я слабо понимаю, как ты вообще выжила в Блокаду. Как представлю тебя четырехлетнюю, бредущую по Охтинскому мосту к маме на завод – мурашки по коже. Я тоже с «Беломора» стартовал. Когда на первом курсе универа загнали под Выборг в колхоз то ли «Ильича», то ли «Октябрьской Революции». Холод собачий, дожди, поля в жиже склизкой до горизонта и жрать нечего. Так и закурил. Уже в Ленинграде по возвращении перешел на цивильные.
А помнишь, как мы сушили сигареты над плитой? Вместе с грибами. И запах стоял сумасшедший смешанный – белых грибов и душистого сухого табака. Я тогда «Родопи» курил болгарские. И ты их любила. А тесть «Опал» смолил. Горький, зараза. Когда свои кончались, жена мне порой потихоньку у него тырила.
А потом я на «Космос» перескочил. И сушил его по промзонам в строительных вагончиках на трамвайных печках.
А как смешно курить бросали. Мы с тобой «за», а отчим «против». Потом комбинации менялись. И курить мы так и не бросили.
А как хабарики собирали, когда в конце 80-х курево по талонам стало. И всю страну подсадили на сено турецкое вонючее копеечное – «Truva» за которым стояли километровые очереди.
А как пожилой глухонемой сосед-моряк чуть не повесился без курева… И когда отчим принес ему коробку не весть как попавших к нам сигаретных обрезков-некондиции, заплакал. А потом приволок ответку – настоящую флотскую тельняшку и в слезах мычал-благодарил за никотиновое спасение.
Жена моя так за десятилетия и не поняла, что мы на этой кухне день за днем, год за годом всё треплемся и треплемся часами, и дым слоями над чайными чашками, над книгами, о которых всю жизнь.
И нет уж за тем столом ни бабушки, ни отчима, ни брата твоего непутевого, ни подруги любимой со своими неизменными «Столичными». Страшная кислятина. Как она их курила? Отвратительней только этот сушеный навоз белорусский гродненский контрабандный, который на излете второго десятка нового тысячелетия ты с пенсии покупаешь своему нищему сыну недопенсионеру.
Разные случаются жизни. Вся моя – с тобой на нашей кухне за чаем, за этим бесконечным курением-говорением. Здесь в умирающем СССР с первых листочков юношеской писанины она началась и докатилась через десятилетия до «Радио Свобода» и Нью-Йорка. Здесь с последней затяжкой она, только тебе и нужная, и закончится.
Есть на самом отшибе видимого мироздания Туманность Андромеды. Многое про неё пишут и говорят, но всё это ерунда. На самом деле это мы с тобой. Это мы умерли. Умерли так давно, когда даже еще и не жили. И этот далекий галактический туман – наша любимая кухня. Семафорит нам грядущим прокуренным Раем. Время и пространство и не такие фортели выкидывает. Да и Богу всё заранее известно. Это людям, чтоб понять, нужно прожить жизнь.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Вдоха нет. Был выдох. И давно был. А вдохнуть никак. И черно в голове после глаз расклеившихся. Пульсирующая действительность страшней сонно-бредового кошмара на мокрой от вонючего пота подушке.
«Скорей!».
Рука шарит на полу у дивана.
«Не дай бог!»…
«Ну слава те!, на месте».
Надо перевалиться на бок и отвинтить крышку. Три огромных глотка с полным напряжением нёба (контррвотное) и навзничь на несколько минут. Горячая волна пошла к желудку – пар полетел в мозг. И ужас фрагмент за фрагментом растворяется в дурманящем мареве. Такие минуты надо ловить не думая. Коротки и драгоценны они. Тень-человец выплывает в действительность кухни. Первая затяжка сигаретой – вершина прихода. Где уж вам, звездам южных ночей. И оргазм отдыхает. Кто летал – знает. Теперь можно и из стакана. Финальные 200. Остается буквально одна-две минуты. На несколько быстрых и глубоких затяжек. Накрывает стремительно. И авральное погружение в берлогу-комнату – уже почти на ощупь. Чтоб провалиться в сокрушительную пустоту героинового беспамятства.
«Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно».
картина: http://finbahn.com/валерий-лукка/
КОГДА Я УМРУ
«Я пойду на железный базар и куплю железные цепи для тебя, о моя любовь» Жак Превер
Знаешь, как это больно?! как невыносимо это больно?! узнать..?! И… вот они стены. На месте. И потолок. Не падает. И все вещи – привычные и неизменные. Только всё это уже не имеет значения. Ни-ка-ко-го. Это всё – уже за границей. Онтологической. Всего этого уже нет. А есть только разрастающаяся черная дыра – страшная новая реальность смерти. Тебя предали. То, что принадлежало лишь вам двоим – выломано, вырвано с кровью и мясом. И ты раздет. Холодно и страшно тебе на пронизывающем ветру новой ледяной реальности. И ты забиваешься в угол, закапываешься в какое-то тряпье, зажмуриваешься, стиснув голову руками. А бесполезно. Глаза закрывать бесполезно. Бесполезно прятаться от света. Бесполезно затыкать уши. ОНО, жуткое и всепроникающее, обмороком наваливается на тебя, кошмаром липким обволакивает.
***
Бедные. Бедные люди. Бедные наивные взрослые, дети, старики. Бедный род человеческий. Приговорённый. Обреченный на вечные приступы сердечные. На пожизненные железные оковы нравственных пыточных камер.
Вот она, боль. Боль сдавшегося и убегающего в горы Шопенгауэра. Вот его отчаянно рациональное – «Не стремитесь к счастью. Старайтесь избегать несчастий».
Вот он, вопль Цветаевой – «Мой милый, что тебе я сделала?!»
***
А Осенью, этой всемирной дождливой Осенью они загипнотизировано смотрят на заливаемые слезами стекла.
А Весной, этой всемирной просыпающейся Весной они ощупывают свои полумертвые выстуженные тела и тянут к небу окоченевшие лапы, щурятся полуслепыми глазами на пьянящее солнце.
***
Когда я умру – когда все мы умрем – мы побежим друг к другу. Счастливые свободные и все-про-щен-ные. Побежим к своей Любви. Которой уже ни что не способно будет помешать.
Ведь это ты, Боже?
фото: http://finbahn.com/яша-крайний/
НИЧЕГО
— Вот это. Да-да — это. И ту коробку с фотографиями…
— Ты посмотри! А это знаешь кто?… А вот еще… Помнишь?!
Их было несметное количество. Коробок с открытками, с письмами, с фотографиями. Самой мебели как раз и не было толком никакой почти. Да и вообще вещей. А вот этих неисчислимых альбомов с вырезками, с какими-то заметками, картинками… И еще… И еще…
А потом все кончилось. После бутылки водки. И слез. А потом второй. Уже без слез.
А к ночи они уехали, оставив его одного посреди этого развала. Посреди этого совсем чужого ему мертвого дома. Уехали, не выдержав. Хотя еще утром отчим грозился неделю все пересматривать. Что б ни одна вещь… Уехали, забрав лишь письма и фотографии. Все, что осталось от трех старых женщин. От их жизни.
До помойки нужно было идти через весь огромный двор вдоль дома-корабля. Идти по морозу. В руки много за раз не возьмешь. И ходок вышло столько, что он и со счета сбился. А потом долго, не пьянея, сидел и курил в большой комнате пустой квартиры. Квартиры, из которой он вынес то, что страшно вспоминать. Огромное количество мешочков, пакетиков, свертков, узелков, кульков с сухарями, солью и бог знает с чем еще, с какими-то комочками, тряпочками, обмылками, обрывками и… И все время, пока он носил и носил этот грустный груз, он думал только об одном — как он сам будет умирать? Что после него останется? Неужто так же вот?..
В квартире больше никто не жил. Ни сестра, которой бабушки квартиру завещали. Ни он с семьей, когда сестра квартиру ему подарила. Это и в голову не шло. Квартира простояла запущенной все те три года, что подыскивались покупатели. Она словно умерла для них. Как умерли три женщины, для которых она долгие годы была домом. Умерли. Ушли. И унесли дух этого дома с собой. Передать не вышло. Некому.
картина: http://finbahn.com/евгений-ухналёв/
 ФЕЯ
ФЕЯ
Смотри, уже у поребрика. Опа…
Это альбом памяти из 80-х. Сейчас такого тоннами в You tube. Крохотный щенок боксёр, пытаясь спуститься с поребрика… В общем, мы увидели лапы вверх. Задние. Фея стояла на носу. На мордочке своей стояла. Кроха. Она сама была не выше того поребрика у подъезда нашего дома и помещалась в ладонь. А улица рыдала от смеха.
Меня без всякого обрезания можно записывать в евреи. Потому что на всю оставшуюся жизнь я влюблен в эти печальные, как арамейский плач, глаза-маслины самой любимой в моей жизни собаки. Ну да, вечно всё в слюнях. Но что это в сравнении с душераздирающими вздохами боксёра? Человеческими же вздохами. А имя, Фея..? Черт его знает, почему. До этого была красавица-доберман, Клея. Видимо рефреном.
***
Говорят, у животных инстинкты врожденные. Ну да – как-то шланг в душе менял, старый бросил на пол комнаты. И… все в доме увидели шоу. Наш норвежский лесной кот нарисовался молниеносно и стал выписывать вокруг скрученного гофрированного металлического – ну конечно, змéя – феерические круги, периодически нанося убийственной резкости и силы удары. Мы для него не существовали. Был только смертельный враг. И была битва за жизнь.
А вот Фея… Как-то сестра притащила из школы песчаного удавчика. В кабинете биологии его «списали» – мол, не жилец. Какой-то урод повредил шею несчастному ползуну – удавчик не мог глотать. Жить ему оставалось до истощения внутренних батареек. Сестра и сжалилась, приволокла болезного домой – типа в хоспис. Мы спустили удавчика на грешную, и тот пополз к стене, где сидел наш огромный налитой мышцами боксёр. Реакция Феи нас прибила. Она буквально обмякла и стала как-то нелепо заваливаться. Пасть её при этом… – да какое там? – у неё челюсть отвисла. А в глазах застыло «Это пиздец».
***
Поколение дворников и сторожей. Все мы оттуда. Только в 80-е это был уход вверх. Первые свои самопальные книжки я набирал на портативной печатной машинке в вагончике охранника. На одном из объектов достали вороны. Устроили перед вагончиком (как сейчас бы сказали) форменную Болотную площадь (пишу… и смеюсь. Уже мем. Если свальный пиздёж – значит Болотная. Значит болото. Большего наша сраная тиллихенция и не заслуживает). Решил взять с собой Фею. Думаю – щазз она вам, падлы, покажет. Ну-ну. Фиаско мало того, что было полным. Оно еще было грандиозно театральным. Эх, нет у меня дара Гржимека и Даррелла передать всю палитру. А в общих чертах… Вороны методично изводили Фею маршами по крыше вагончика. Периодически одна из них свешивалась и заглядывала в проём двери. Собака заходилась в бешенстве и пулей вылетала на воздух. И тут начиналась «Хроника пикирующего бомбардировщика». Вороны, аки эскадрилья «юнкерсов», начинали кружить над заходящейся уже даже не в лае, а в хрипе собакой, поочередно пикируя и сбрасывая на неё всякую дрянь. Поражение было унизительным и разгромным.
***
Урбанизированный житель среднестатистического поселка городского типа (я в таком всю жизнь) и не подозревает, что и кто бродит ночами по улицам. Ну, кошки-собаки – дело привычное. Как и мыши-крысы. Но вот толпы ежей? Только сторожем и дворником (а мёл я, стесняясь глаз сверстников, ранними утренними часами) и обнаружил этих партизан. А ночные вояжи с Феей явили душераздирающий размах этого переселения малых лесных народов в наши урбанизмы. Мгновенно срываясь на лишь ей одной слышимый шорох, собака возвращалась с мордой, сплошь утыканной иголками. С тех еще глухих советских пор я твердо убежден – ежи везде. Может, потому и не удивили меня в начале 90-х стаи кроликов во дворах Гамбурга.
***
Как сейчас объяснить внукам, да ладно внукам – как дочкам объяснить, что в Союзе диплом вышки автоматически закрывал возможность второй и третьей работы. Официально. Доп. заработок государство победившего социализма дозволяло токмо гегемонам. Так и появились липовые трудовые книжки. И старший преподаватель кафедры философии (по своей второй скрываясь и таясь) мёл улицы, грузил в порту, сторожил хрен знает что хрен знает от кого. И был до поры времени счастлив, как и миллионы таких же преподавателей, журналюг, ИТР-овцев и проч высоколобых, коии на бескрайней всесоюзной кухне бездонными русскими ночами высосали до капли этот кромешный пузырь под названием «смысл жизни».
***
Последний наш с Феей строительный вагончик стал прям пророческим локальным апокалипсисом. Был он недалеко от дома – я охранял очистные сооружения посёлка. Рай. Я стучал по клавишам машинки. Собака тихо сопела на продавленном засаленном строительном диванчике. И только, блять, мухи… Сначала отмахивался. Да Фея клацкала на пролетающих. Потом вдруг достало. Ну, думаю, я вам щазз устрою Западный фронт под Ипром. Метнулся до дому и обратно, Фею выгнал за порог, а сам распылил в вагончике цельный баллон дихлофоса. И пулей на воздух. Обошли мы с псиной всю территорию охраняемого объекта раз пять. Решил, пора проветрить нашу конуру и жить дальше. И я вошел в вагончик. Картина, которая мне открылась, стоит перед глазами уже всю жизнь. С ней и помру. Пол был сплошной, толщиной в несколько сантиметров, черный бархатный ковер мушиных трупов. Тысячи и тысячи дохлых мух. Откуда столько? Из каких таких щелей и..? Страшное зрелище. Полное дежавю я испытал за просмотром балабановского «Груза 200». А тогда я лишь схватил пишущую машинку и… И 80-е закончились. Вся ТА жизнь закончилась.
А Фея умерла.
ПРО ЭТО
Это только по молодости. Этот священный трепет убегания. Когда балдеешь от скрипа старого паркета в коридорах Публичной библиотеки, когда запах слежавшихся книг в нищих комнатах спецхрана словно запах конопли для наркомана. Ну и на кладбище еще. Только обязательно чтоб дождь, грязь, чтоб промозгло всё, сẻро и, как некоторые любят, пронзительно чтоб. А там и «Ледяные вершины человечества» Солоухина сами постучатся. А за ними и «Смерть Ивана Ильича» подоспеет. И последнее Розанова про пяток печеных яиц в голодуху 18-го года. И еще это – в монастырь! Сколько их, в мыслях ушедших. Как у Василь Макарыча – «Выбираю деревню на жительство». А в городе мимо храма, как в метро мимо остановки – не моя.
***
Утро. А с утра серьезно пить влом. 150 уже внутри, и похмелье отпускает. Пиво цедится. Сигарета тянется. Время течет. В углу шалмана два ветерана-алика режутся в шашки. В стаканах по 50. Им на час – тертые. Пьянство – тяжелый труд. Кто хочет до глубокой быстро не бежит. И эти – бывалые. Предложи им бутылку – пошлют.
Этот мужик нарисовался через час. Сотку махнул прямо у стойки и с прицепом присел.
– Можно за компанию?
Ну, значит, поговорить…
– Да сел уже.
И с ходу вдруг, видать, давно наболело:
– Ты вот веришь?
– Тебе?
– Да понял ты. Не ерничай.
Что ему ответить?
– Давно мучаешься?
Смотрит удивленно. А это хуже всего. Значит, из тех, что внушаемы. А мне это надо? Но додумать не дает.
– А ты?
Опа. Ладно, дружище. Повезло тебе. Не бухать же одному. Встаю, закидываю у стойки сотку – раз пошла такая тема – и возвращаюсь к нежданному собеседнику.
***
До чего интересно с технарями. Для них лекции по философии сродни знаменитому Маяковского:
Крошка-сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
– Что такое
хорошо
и что такое
плохо?
В начало 90-х все были на таком внутреннем взводе, что если пургу начать мести, посылали с ходу. Рухнуло всё. И парить мозги, ей-богу, не стоило. На мои лекции ходили как на разбор полетов. А может, потому, что время такое наступило. Вопросов. Ответов-то нет. Одни вопросы. У всех. В начале 90-х.
У меня
секретов нет, –
слушайте детишки, –
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
А тема сегодняшней лекции… Нет, тему они узнают чуть позже. Пока надо начать с того, что они, будущие специалисты по турбинам для ядерных реакторов, хорошо знают. И вообще, пусть они и начинают.
– Ну кто мне в двух словах про теорию Большого взрыва?
Через 10-15 минут коллективного «Что? Где? Когда?» запускаю пробный шар.
– А что было до?
– В смысле? – доносится из аудитории.
– В смысле вот каком: тема лекции – Бог.
Собственно, лекцию можно сворачивать. Они просекли, что я их переиграл.
Поэтому сразу заявляю:
– Давайте только без фигни. Я вам скажу, что думаю. А вы уж сами дальше как-нибудь. Оценку-то кто поставит за ответ? И вам и мне? Такая вот философия. А из аргументов? Ну вот вам первый:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит…
А дальше идут вбросы: про часть, которая не может познать целое; про природу, думающую самою себя (дойдя до этого сам, позже нашел у Эриха Фромма в одной из его работ и рассмеялся); про Вернадского, Шардена и абиогенез; про Бехтереву и ее очарование загадкой мышления; про Кьеркегора и его «к Богу можно прийти только через смертельный ужас».
Поразительная вещь: формальная логика хорошо работает на разрушение. На разрушение иллюзий особенно. Например, неверия. А вот на созидание – увы. От того и заявляю им честно:
– Знаете, что мы сейчас делаем? Мы пытаемся родить гомункула. Верующего атеиста. А это хуже неверящего священника. Ведь чего жаждет верующий атеист? А он жаждет факта. Факта, который он увидит, потрогает руками и поверит. Вот и носится человечество в поисках фактов. То, видишь ли, огонь сходит, и его по телеку на весь мир, то икона мироточит, то тарелки полетели… А всё проще. И мы с этого лекцию и начали: «Нет, весь я не умру». И тогда что ключевое? Главное что?
Они сидят в гробовой тишине. Они всегда так сидят в конце лекций. Привыкли. Шутки-то кончились.
– А ключевое – только верою. Верою вот в это переложенное Пушкиным из Горация «весь я не умру». Но заплетать вам мозг Апостолом Павлом, Реформацией, Львом Шестовым и прочим я не буду. Вы уже и так понимаете, где точка соприкосновения. Точка соприкосновения – надежда. Если она в человеке живет. Если не живет – бог с ней. Если живет, то не унижайте ее идеей Бога, помогающего вам лично.
***
Эти мысли настолько давно в голове, что… И на бумагу просились давно. Пока однажды, в пылу какого-то спора с очередным блаженным истуканом, не взялся и не написал одним махом. Так в сеть и улетело:
Все просят Бога о помощи. Все люди Земли (даже неверующие) просят его о помощи. То есть люди просят Бога защитить их от людей, а значит – от самих себя. Просят Бога всего сущего защитить их от всего сущего. В этом трагедия понимания.
Люди придумали добро и зло и придумали, что Бог есть добро и борется со злом. Если хотите, то злом мы называем кратчайший путь, путь наименьшего сопротивления, право сильного и т. д. Мы привнесли оценочные суждения в диалектику природы. Но будучи сами не в силах победить в себе природу, взываем к Богу как судье и защитнику. Трагедия человека – конфликт чистого разума и природы внутри нас. И Бог предлагает не совершенствовать природу, а отказаться от нее вообще. Бог призывает разум покинуть этот бренный мир ради мира вечного, ради чистой идеи, ради СЛОВА, которое было в начале.
Кто есть нищий духом? Усмиривший в себе природу и гордыню. Что есть гордыня? Чувство превосходства. То есть интеллектуализация права сильного. Больной ум. Ум, порабощенный природой. Не Бог есть нравственный императив. Это человечество, придумав нравственный императив, сделало первый шаг от природы, ибо природа без нравственности, без оценок и суждений. Но ошибка полагать, что Бог и есть нравственность. Об этом Ницше. Бог выше добра и зла. Добро и зло – пограничное состояние между МИРОМ и тем, что мы называем НЕ ОТ МИРА СЕГО. Второй шаг после прихода к нравственности – уход от нее. Не нравственность перевоспитает природу, а человек должен осознать бесполезность нравственности для природы, должен прийти к преодолению природы в себе, выходу из нее. Не менять мир, а уйти от мира. Только поняв это, можно понять смирение и правило второй подставленной щеки, то, как можно возлюбить врага своего.
Бог предлагает нам сделать выбор, против которого восстает все природное в нас, наше природное чувство самосохранения. Это и есть страшный выбор. Мы воспринимаем его как самоубийство. Но Бог просит от нас не самоубийства как акта последнего отчаянья. Бог просит нас жить только одним чистым сознанием, сверх-сознанием, верой в жизнь другую, жизнь вечную.
Беспомощность природы в человеке ярче всего проявляется в религиозных войнах. Как это ни парадоксально, но именно чувство собственности самое природное в человеке. Сделать же собственностью религию самое природное в сознании. За добычу зверь бьется. За себя, как за сверхсобственность, он готов умереть. Когда готов умереть религиозный фанатик, он готов умереть за своего собственного Бога, за Бога в себе и себя как Бога. И он готов не просто умереть, а умереть, убив как можно большее число неверных, то есть тех, кто посягает на его Бога-собственность. Это – звериное в вере. И оно ни чего общего с истинной верой не имеет.
Пограничные состояния: любовь и смерть. Они же – самые родственные состояния. Только в любви нам становится безразличен мир и мы сами себе в этом мире без любви. Человек ближе всего к смерти в состоянии любви. В этом божественность любви. В этом понимание того, почему Владимир Соловьев хотел видеть в Любви четвертый элемент божественного единства. Это – его учение о Софии. Но, Бог и есть любовь. Неземная любовь. Любовь как невозможность существования без самого ничтожного человека, самой ничтожной частицы мироздания. Бог любит нас ВСЕХ. Ни кого-то и ни что-то, а всех в себе. Именно поэтому бессмысленно просить у него защиты от людей, от мира. Он любит всех и всё. Не получая помощи, мы склонны обвинить Бога в безразличии и даже отказаться от веры в него. Именно это и есть непонимание любви. Ее смысла.
Когда Кьеркегор пишет о том, что к Богу можно прийти только через смертельный ужас, он упрощает вопрос. Через смертельный ужас человек может прийти к осознанию ничтожности и мира, и себя в этом мире. И тогда это смертельный страх. И тогда это не Бог, а космический господин. Прийти к Богу можно только через понимание того, что есть любовь, смертельная любовь.
Вот так написалось, и решил не исправлять. Как думалось. Тогда. Постоянно ведь что-то думается.
***
Часто ловил себя на вопросе: почему философы под конец жизни за этику брались? Когда понял, рассмеялся: гроша ломаного их философия не стоила. И ужас от того, что все написанное – в топку, гнал их к перу и бумаге. Да поздно. Ни одна этика Этикой так и не стала. И не станет. Все ведь просто. Мораль и совесть. Мораль бессильна против природных страстей в человеке, от того добро и зло меняются в ней местами по ситуации: то институт благородных девиц, то любовник в шкафу из анекдота. И бесполезно с этим бороться – бремя страстей человеческих. А осознание того, что подошел к черте, которую переходить нельзя, оно есть, но есть только у человека сформировавшегося. И это СО-ВЕСТЬ. Именно так. Нет ее у зверя. Нет у ребенка. Кто столкнулся с детской звериной жестокостью, знает, что ребенок – человек до совести. Зверек. Что до взрослых зверей – опустим. Пока.
***
Лекция подходит к концу. И подарок за откровенность уже приготовлен.
– Я вам обещал, что дальше вы сами как-нибудь. А сами вы вот что сделаете.
Экзамен буду принимать по письменным работам. Прочтете «Смерть Ивана Ильича», «Легенду о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» и «Книгу Екклесиаста». Своими словами на паре листов по каждой книге.
Буду читать. А потом беседовать с каждым. Так что без фигни. Кто спишет – завалю. Обещаю. Пишите своими словами. Не парьтесь со стилем. Как умеете. Я разберусь.
В аудитории вялое сопротивление. Надо гасить.
– Ерунды не заставил бы читать. Честное пионерское. Обещаю, при прочтении крышу снесет каждому. И на всю жизнь. Но именно при прочтении. Не пожалеете.
***
Давно заметил: градус не только закуска крадет. Мой навязанный собеседник никак не меньше трех раз бегал к стойке за соткой. Я больше. А пивных кружек полный стол. И пачки сигарет как не бывало. Финал каждого такого спонтанного разговора мне известен – у меня портится настроение. На долгие дни. Пропедевтика достала еще в годы преподавания в 80 – 90-е. От того и сбежал из института. А посему – пропедевтику долой! Даешь галимую правду.
– Знаешь, я тебе так скажу напоследок. Верить можно именно хотеть. И это – убеждение. А можно не хотеть. Но она, вера, все равно есть. Подсознательно.
– Что значит хотеть?
– Ну ты же не веришь.
– То есть?
– Ну что ты прикидываешься? Не веришь же. А поговорить хочешь. Вот и я не верю. Говорить, правда, хочу не очень. Но втихаря одному пить скучно. Так что я за компанию не верю.
– Как это ты не веришь? Ты же мне (он бросает взгляд на часы)… ты же мне уже третий час мозги вправляешь. И все о Боге.
– Слушай, это ты ко мне подсел с вопросами. И оставим Бога. Он есть. Ну не может его не быть. Три часа я об этом с тобой. Но ты-то меня о вере!
– Не понял. А разница где?
– В пизде. Я уже нарываюсь. Есть вера-убеждение. Но ты же не хочешь через смертельный ужас. И никто не хочет. То-то. Но только так можно окончательно. А есть вера-надежда. Это как безопасный секс. Ну или смерть, но только по телевизору. То есть не твоя. Сказка это. Про добро и зло. Про Бога на небе или еще где. Когда верят, уже не спрашивают. И не слушают. Нечего уже слушать. Ясно всё. Слушают, когда сомневаются. А те, кто знает, бегут от разговоров. А еще есть эти… В общем, если на горох в угол поставить на пару дней, ну или в пустыню выгнать, то может и явиться. Но об этом я не хочу.
– Ну наплел.
– А ты чего хотел? Что я вот сейчас так скажу, так скажу, что у тебя третий глаз вырастет? И ты просветлеешь прям тут не протрезвев? Ты лучше, когда проспишься и проснешься, спроси себя, чего тебе хочется больше: разговор наш вспомнить или за пивом сбегать? Вот тебе и весь ответ.
***
В конце 90-х всегда было грустно и смешно на занятиях в группе анонимных алкоголиков. Как только начиналось это: «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого».
Я отличить ну никак не мог. А посему, выходя из здания ЛОНД (Ленинградский областной наркологический диспансер), где занятия эти шли, сразу закидывался чекушкой, что грела сердце за пазухой. И мудрость отличать сразу приходила. На Пяти углах, где Митьки организовали АА и под сушки и чай начинали эту же интернациональную песню, для обретения мудрости чекушки мне уже не хватало и приходилось брать 0.5.
2012
____________
***
Не жизнь присутствует во мне,
а я присутствую при жизни.
И мысли…
И такие мысли
являются по временам,
приходят,
и сидят у ног,
и, преданные как собаки,
всё ждут чего-то от меня,
каких-то неземных ответов
на тот вопрос,
который мной
себе же задал
Бог?
Природа?
Бог весть, кто задал,
на беду.
И вот все ждет,
когда умру,
чтоб снова
этим же вопросом
себя безумно изводить.
И до пришествия второго
плодить, плодить,
плодить, плодить
несчастий радости и смехи.
Я засыпаю,
и на веки
садится ангел той любви,
которая свела с ума
такие сонмища поэтов,
что гнались
за летучим светом
кошмарных
дивных миражей.
И кто ответы находил,
ответ немедля приводил
во исполненье
в исполненье…
Так, чтоб поверили, зачем
так горько плакали во сне,
об мостовую Саша Гликберг
стучался шалой головой,
и ехали домой цыгане,
и Гоголь хохотал в ночи
безумным,
страшным,
жутким Вием,
и шла немытая Россия
из «Бани» пиво пить к ларьку.
Приятель,
дай-ка огоньку.
Не эти ли во сне Саврасов
земные хляби разглядел?
В них тонет смысл
всех здравых смыслов.
С ума сошедший, пьет Паскаль
свои смертельные сарказмы,
а вечный мальчик Гегель
спит
и видит сон про вечный синтез.
В канализации глубин,
в болотах Стикса и Харона,
в высоких черных сапогах
бредет понуро Бог любви
за словом Третьего Завета.
Но к нам
он больше не придет:
и так весьма всё хорошо.
Он нас накажет вечной жизнью
сменяющих себя родов,
как то предвидел Соловьев.
И бесконечная Земля
одна останется на свете.
И по орбитам будут дети
играть в пятнашки
в быстрых люльках.
На темной стороне Луны
устроят кладбище придуркам.
Я буду сторожем при нем.
Бессменным,
потому что умер
и занял место самым первым.
Еще первей,
чем понял Ницше,
что Достоевский был правей,
левее Ленин.
Клара Цеткин
нам будет доставать табак,
Платонов будет из земли
ругаться матом «Чевенгура»,
и, смердный запах разнося,
нас будет навещать Зосима,
а мы с Алешей будем пить
тысячелетнюю поллитру.
1991, Ленинград
картина: http://finbahn.com/xevi-sola-serra-spain/
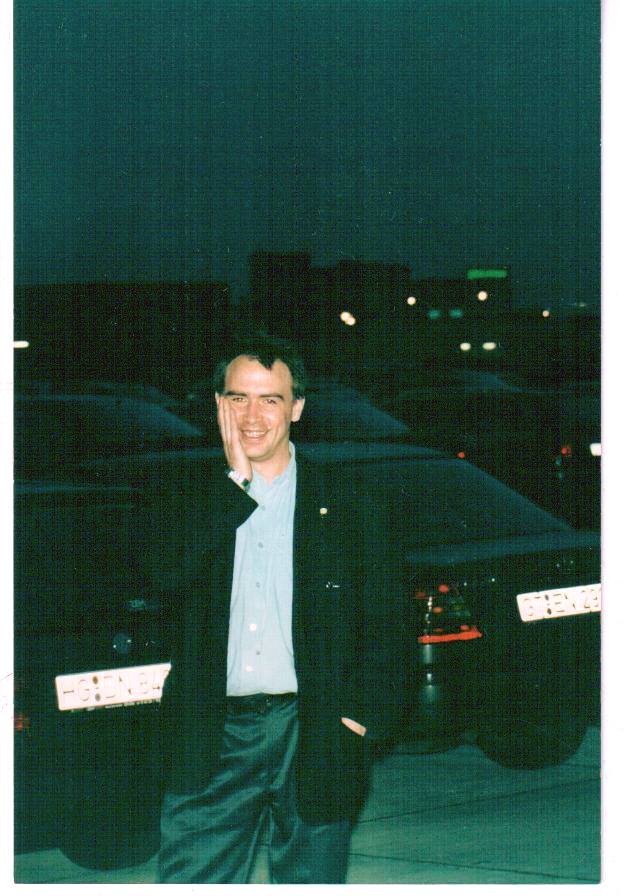 ШАНС
ШАНС
Воспоминания о дошкольном детстве подобны полузабытой сказке. Время выветрило все больное и грустное. И жизнь в сэсэсэровской коммуналке 60-х вспоминается как сладкий сон. Котел на угле в ванной, соседский кот, живущий у нас, страшные газовые баллоны на кухне, к которым нас, детей, не подпускают, а оставляют горячую кашу в кастрюле, укутанной байковым одеялом, ключ на веревке на шее, домики, которые мы с двумя девчонками-соседками устраиваем под столом, накрыв его со всех сторон одеялами, и в которых пропадаем часами. А еще бабушка одной из девочек. В их комнату часто убегаю сидеть на диване и слушать радио. Бабушка тихая и добрая. Она все время что-то бормочет себе под нос на белорусском и меня не выгоняет. Странно. Я отчетливо помню ее и почти не помню ее внучку, ту самую соседскую девчонку, одну из двух. Вторую помню. Да и не мудрено – вместе в школу пошли. И дальше как-то на виду оставались. А эту нет. Помню, что была, что играли. А образ растворился. Наверное, потому, что их семья уехала и воспоминания почти стерлись.
***
Хоть мне и не платят, желание зацепиться за это издательство запредельно. В институте, где преподаю философию, гроши. Преподавательский энтузиазм давно испарился. После челночных рейсов в Стамбул спина сорвана, да и спекулянт из меня некудышный. Два года распихиваю по городу кожаные куртки, а сам как оборванец. Рейсы в Чухляшку за машинами да по кирпуториям дел тоже не поправили. Пацаны в плюсе, я в перманентном алкогольном токсикозе. Гуманитар хренов. И вот издательство! Искандер, приятель по аспирантуре, как-то обмолвился: мол, такая тема – америкос, из наших, замутил журнал, завязки на бизнес… Он сам, как экономист из универа и с академическими связями, консультантом вписался и теперь – зам. главного редактора. Главред из «Коммерсанта». То да се. Крыша бандитская. Но перспективы – мама дорогая. В общем, я запал и через какое-то время завалился к ним в офис. Они тогда, в 94-м, у музея Суворова обитали. Я как Андрея, главреда, увидел, голову потерял – Остап Бендер отдыхает. Понял сразу – шанс. Да черт с тем, что глянцевый журнал, что под бандосами. Знаем – летали. Люди как люди. Настоящие звери – в пиджаках. А торпеды? У них срок годности короткий. Вот и бычат. Мозгов-то нет, а кровь кипит. Опять же – понты дешевые. Если голову включить и высшим образованием их не раздражать – вполне и выпить можно, и побазарить. Я вписался на пару-тройку статей, и Андрей сразу всё взял. Ну а когда пообещал в штат редактором, решил – сдохну, но зацеплюсь. Для начала на меня повесили рассылку журналов. Цельными днями клею этикетки на коробки. Раз в месяц вожу тираж на почту. Мне выдают наличку на отправку, грузят коробки в микроавтобус под завязку и мы пилим на Загородный. В этот день на почте столпотворение. Откуда пенсионеры заранее узнают день моего прибытия – загадка. Но я привожу нал. А значит, на почте появляются деньги для выдачи пенсий. Разгружая коробки, братки смеются: «Пацаны стариков не бросят. Ща капусты на пенсии навалим!» Я долго химичу с начальницей почты в ее закутке. В результате в кармане остается на выпивку. Жить можно. Главное – закрепиться в штате. Пусть уже восьмой месяц без зарплаты. Я терпеливый. Другого шанса не будет.
***
– Саня, нельзя сюда!
Глаза у Игоря, нашего сисадмина, по плошке.
– Папу вроде завалили.
Любопытство пересиливает, и я пробираюсь к арке двора на Фонтанке, 50, где расположен головной офис нашего издательства. Вся стена у парадной посечена пулями. Асфальт в крови и осколках. Куча ментов. Опер машет на меня рукой, мол, проваливай.
Игорь сбивчиво делится:
– Телохранителя наповал. Прикрывал. Сам вроде жив, но плохой. Увезли. Братва сказала: «Два дня всем сидеть и не рыпаться. На работе не появляться пока они тему разрулят». В общем, не до нас, убогих, им сейчас. Ищут, кто заказал.
Ну что, отдыхаем, значит, бухаем.
– Игореха! Что у нас с бабками?
Игорь заговорщиски улыбается:
– На пузырь есть. Только давай не водяру? Жарко. Дуем к Инженерному.
Сюда, на Фонтанку 50, мы приходим только на летучки. Дверь в обычную квартиру, а внутри… А внутри – огромные залы, сводчатые потолки, шкуры медведей на стенах, мраморные полы и все, что нужно для разврата. Сюда мы ходим к боссу, когда он из Штатов прилетает. Здесь тусуются Андрей и Искандер. Здесь же трется братва. А так наш рабочий офис на Фонтанке, 20. И у Инженерного замка мы почти каждый день ищем тень для обеденных возлияний и бесед. Жара страшенная. К Играм доброй воли власть, видно, и взаправду разогнала тучи, и печет так, что асфальт плавится. Лишь у воды да в тени спасение.
***
Эту девушку на своей загородной платформе не первый раз вижу. В беретике. Тургеневская. Порой встречаю, когда на работу еду. Взгляды пересекутся и пролетят. Жизнь бежит дальше. Мало ли кто на кого смотрит. На бегу-то в суете. Видимо, приезжая. К кому-то. В поселке всех знаю в лицо. Точно не наша. Поезд подъезжает к станции метро, и толпа привычно вносит меня в вестибюль. Метро – уже цивилизация. Все знакомые мгновенно перемешиваются с другими пассажирами, и вот уже равномерно анонимная масса несется по тоннелю и выплевывается в пункты назначения великого города с областной судьбой. Города, который через 6 лет захватит и столицу, и всю страну. Питер, он такой. Реваншистский. Петровский вирус. Громче выстрела «Авроры» грохнет легендарное «Я устал», и…
Стою, уткнувшись носом в стекло вагонной двери. «Не прислоняться». Что это? В стекле ее лицо. Интересно…
На площади Восстания выхожу. Надо к друзьям-бандитам на Черняховского. Там охранником три года оттрубил. Договорился обсудить дальнейшую жизнь. В издательстве что-то мутное творится. Денег, видимо, я не увижу. Да и все идет к тому, что надо из него валить. До работы время есть. Вчера отправлял журналы. В кармане что-то шуршит. Трубы горят. Голова с разбегу включает таймер и план на день. И, не успеваю отойти от вагона и десяти метров, легкое касание за руку. Еще не обернувшись, все понимаю – она.
От судьбы не уйдешь. Судьба догнала, чтоб рассмеяться. Мы доходим по Лиговке до Сангальского сада. Через 10 минут дежурных вопросов-ответов впору смеяться и плакать: рядом со мной сидит соседка по коммуналке, та самая забытая девочка из детства.
***
– Саня. Беги на Фонтанку, 50. Папик прилетел. Есть шанс получить расчет.
Ой, спасибо, дорогая. Света – чудо. Инфа на вес золота. Я пролетаю 30 домов быстрее ветра. В логове полупусто. Только быки на диванах что-то по огромным трубам трут.
Босс добродушен и шутлив.
– Что, пронюхал? Далеко пойдешь. За сколько мы тебе должны?
– За восемь месяцев.
– Ого! Ну ты терпила.
Он с любопытством глядит прямо в глаза.
– Знаешь, через час у тебя не было бы ни шанса. А так… Я за фарт. Он отсчитывает баксы.
– Держи.
Набираюсь наглости и выпаливаю:
– А за знак?
Две недели назад в офис ввалился ошалевший Костя, менеджер по рекламе:
– Всё. Горю. Клиент заказал Александру Васильеву, нашему художнику, логотип. Тот сделал. Клиент не берет. «Всё не в кассу, говорит». Если они логотип не получат, рекламный контракт не состоится. А там ого-го. Меня Свердлов с говном сожрет. Такие деньги!
Я попросил посмотреть эскизы. Не впечатлило. Логотипами занимался всего пару-тройку лет из баловства. Но несколько штук уже пристроил. И тут меня осенило. У меня остались черновики знака для моих друзей. Их фирма на ту же букву. А что если?.. Показываю Косте. Тот молниеносно звонит заказчику: мол, то да се, еще одному художнику параллельно заказали, а он только что из Москвы прилетел с набросками… Через 10 минут мы уже несемся в его Ford Scorpio по городу. А еще через 30 минут счастливый и сияющий генеральный жмет нам руки. Костя на седьмом небе – контракт подписан.
– А за знак?
Душа в пятках. И тут Свердлов произносит спич:
– Саня. Вся эта журналистика – хуйня. Деньги дает реклама. Ты спас для нас ключевого клиента. За это хорошая баба полагается. Но, я думаю, тебе деньги нужней. Вот это я и называю – заработал сам и дал подняться другим. Уважуха.
И он начал считать купюры.
Вышел из офиса как в тумане. С одной стороны, только что расстался с издательством. Расстался с мечтой на новую жизнь. В издательстве раскол. Я – микроб в этих процессах. Этот расчет был первым и последним. В общем – вольная. С другой – первый раз за несколько месяцев держу в руках хоть какие-то деньги. Впереди маячит привычная преподавательская нищета. Но сегодня можно честно надраться на свои. По дороге к дому уже на серьезном градусе в кооперативном магазине был куплен совершенно чумовой коллекционный баскетбольный Reebok. Глаз на него положил давно. И не я один. На фантастический тапок смотрели все, и купили бы давно. Но только у меня был 46-й. И вот – деньги. Жизнь подбросила сладкую пилюлю.
***
– Ты кто? Кто ты вообще? Ты никто? Рассыльный. Я член Союза художников.
Александр Васильев рвет и мечет. Он только что узнал, что клиент принял мой логотип, что я получил за него деньги. Он вне себя от ярости. Застал меня совершенно случайно. Собираю вещи. Он со своей женой, Татьяной, и разнос грандиозный. Выслушав все его эскапады, ответил так, как может ответить прибандиченный преподаватель философии охуевшему и зарвавшемуся ваятелю. Тогда я не знал, что послал на три буквы будущего основателя знаменитого журнала «Ружье». А он не знал, что вскоре мы помиримся, подружимся и даже поработаем вместе. Пусть и недолго.
В 2012-м Александра Александровича не станет. Но это через 18 лет, которые еще прожить надо.
***
– Папа, ты же обещал на Новый год Барби!
Восьмилетняя дочь с надеждой смотрит в глаза.
Да, обещал. Когда шли в школу 1 сентября. Директриса позвала на торжественную линейку батюшку. Когда его 12-метровый белоснежный Lincoln Town Car Limousine въезжал во двор школы, местные бандиты, чьи Grand Cherokee гордо стояли поперек дороги, убрались с видом побитых дворняг. Оскорбленная братва дала по газам и свинтила от позора. Батюшка в белых с золотом одеждах и пузом почище Демиса Руссоса заставил всех на время забыть о назначении праздника. Он плыл ко входу, держа за руку ангельского вида девочку с куклой Барби. Малыши, мимо которых они проплывали, сгорали от зависти.
– Папа, ты мне купишь Барби? Папа, купишь?
Папа складывал в душе восьмиэтажные конструкции…
– Конечно, доча. На Новый год. Обещаю.
…
Запомнила, а я и забыл.
– Детей обманывать – грех. Вон, на водку у тебя всегда деньги есть…
Прижали к стенке. Против жены и дочери – без шансов. Собираемся в город.
Предновогодний Питер хорош. Полупьяный Невский щебечет. Витрины сверкают. Недалеко от Маяковской вожделенная Барби куплена, и мы с дочкой плетемся к метро.
– Сашка, ты!
Оборачиваюсь. Мать честная, Андрей. С моего ухода из издательства прошло 5 месяцев. Я и забывать стал, нырнув в преподавательские будни. Все казалось сном, сказкой, которой поманили и обманули.
– Андрей?
Андрей необычайно возбужден.
– Твоя? Красавица!
Дочка внимательно смотрит на незнакомого мужчину, которому предстоит кометой пронестись по моей жизни и перевернуть ее с ног на голову.
– Давай в «Художественный». Там бар неплохой.
В баре картина проясняется.
– … Искандер тоже захотел быть главредом. Сам понимаешь – два волка в одной лодке. Он со Свердловым остался. У меня новая крыша. Есть один насос, Аркаша. В Россию спирт гонит из Германии и прочую хрень. Он вписался. Издателем быть хочет. У нас новый журнал теперь. И это все под Костей Могилой. Его проект. Издательско-рекламное агентство «РиМ».
– Рим?
– «Россия и мир». Офис на Савушкина, 71. Полздания налоговая, пол – мы. Сразу после Нового года стартуем. Планов до неба. Денег до жопы. Саня, мне нужен зам. Ты пишешь. Остальному научу. И еще: у тебя есть команда? Редакторы, корректоры? Все надо быстро решать… Будет издательский дом. Журналов пять. Мы это город на уши поставим.
(И поставили ведь).
Алкоголь не брал. Я допивал вторые 200 водки, – и ни в одном глазу. Дочь потягивала «Кока-колу» и пожирала глазами заветную Барби, не подозревая, что папу она видеть в ближайшие 2-3 года практически не будет. В голове нейроны сошли с ума и танцевали такую джигу, что Кавказ отдыхает. Я чувствовал себя ракетой «Союз», отрывающейся от стартового щита Байконура. Я уходил в звезды.
***
Полы в Пушкинском Доме скрипучие. Пахнет как в Публичной библиотеке. В каждом книжнике этот запах в памяти навсегда. Не дыша, иду по коридору. А навстречу, мать честная! Я обмираю и, машинально кивнув головой, вжимаюсь в стену. Высокая фигура в длинном пальто приближается. Дмитрий Сергеевич, кивнув в ответ, горой проходит мимо и удаляется.
Соседка удивлена и звонку и стремительному визиту на ее работу.
– Я Лихачева только что встретил, представляешь?!
Реакции никакой.
– Что стряслось?
– Ты сколько получаешь?
И классический филолог на несколько лет нырнет в мир, который войдет во все учебники под названием «Бандитский Петербург».
***
– Геннадий Петрович! Всё. Не могу больше. Я ухожу.
– Саш. Ну хотя бы семестр доведи. Ты же любишь эту работу. Это твое. Сам подумай – у тебя же полный карт-бланш, свой авторский курс… Где ты еще такое получишь? А? Вон, замдекана тебе предлагают. Саш?
– Геннадий Петрович! Все правда. Но на эти гроши… И… Я же мотаюсь из издательства на лекции на такси. Два года. Туда и обратно. Домой уже и забываю когда приезжаю. Сил действительно больше нет. Никаких.
***
Soon. Скоро. Эта гениальная реклама стартапа глазастых мерседесов E-серии 1995 года останется в памяти навсегда. В Питере тогда лупоглазый «Мерин» был один. А на выходе из терминала аэропорта во Франкфурте я тупо глядел на ряды такси до горизонта. Все «мерсы» и все глазастые нулёвые. Всего через несколько лет все будет с точностью до наоборот. Количество премьерных люксовых тачек в России затмит и Штаты и Эмираты. А пока… А пока моя сказка подходила к концу. Издательство посыпалось. Пути смотрящего за Питером и смотрящих в текст разошлись, оставив на память зарубку.
***
Даню, ведущего менеджера по рекламе, волокли словно коровью тушу на скотобойне. Кровавый след тянулся по центральному коридору издательства. Талантливый как бог, обрушивший на всех нас ливень из рекламных контрактов, он, конечно же, был небескорыстен. И неизбежно прокололся. Изуродованный, с отбитыми внутренностями, он поймал один счастливый билет из миллиона – его оставили в живых, заставив родных продать все, что можно и что нельзя.
И всё. Лондон, Дюссельдорф, Франкфурт, Стокгольм. Выставки, презентации во Дворце Юнеско. Поставленный на уши Питер. Праздник кончился. Наступило тяжелое похмелье на годы.
***
Оставшаяся до миллениума пара-тройка лет сохранились в памяти меняющимися ценами на технический спирт, который пил неразбавленным, и огромным костром, который однажды, не выдержав, устроил на помойке перед домом из горы журналов и альманахов. Как же красиво горели глянцевые обложки, на которых яркими буквами сияло Russia & World.
фото. аффтар на каторжных работах, Кёльн, 1995
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Система натяжек и грузов у «спинальников» (перелом позвоночника) устроена хитро. Я долго ее разглядывал, пытаясь постичь устройство. Все лирики втайне любят физику. Метафизически. Понять не могут — ищут душу в непостижимых механизмах.
Они лежат на своих инженерных кроватях, как космонавты в межзвездном полете. Глаза вверх. Весь мир — белый потолок. Загипсованы по подбородок. Все в веревках-растяжках. Дышат, как минеры, — бесшумно и ровно.
И тут она. Еще неделю назад стоя на коленках ела. И уже на ногах. Наташа. Самая красивая на свете. Потому что я ее люблю. Потому что я не могу без нее жить. Потому что это — судьба. И мы в институте им. Г. И. Турнера на Лахтинской, 3. Это наш дом. Наш храм. И наша любовь живет здесь.
* * *
Наташа — гимнастка. Чемпионка. Прекрасна как богиня. Позвоночник на части после падения на бревне. Теперь, когда смотрю по телевизору выступления гимнасток, матерюсь: это придумали эсэсовцы.
Наташу собрали. В Турнера — асы. Несколько месяцев «горизонта» в растяжках. Потом недели передвижений на коленках с прямой, как линейка, спиной. И вот она стоит. Моя. Самая прекрасная на свете. Наташа. Стоит и сияет ярче солнца. А вместе с ней сияю я.
* * *
Я лежу в соседнем отделении. Меня переделывают. Четыре года назад я попал под армейский «Урал», влетел под него и, зацепившись одеждой за что-то под рамой, волочился за ним, оставляя на асфальте кровавый след. “Урал” тормознул, когда офицер в кабине увидел и услышал орущих людей. Молоденький солдатик-водитель даже не заметил.
В нищей районной больнице, подсчитав пробоины (три открытых перелома руки, осколки, скальпированные раны, газовая гангрена), решили ампутировать, но заезжие ленинградские из Раухфуса забрали к себе и гениально меня починили. Вышел кривенький и страшненький, но живой.
Через четыре года капремонт руки: кожа вросла в кости, клешня дугой, никакой эстетики. Девки смеются. Парень комплексует. Решили хлопцу сделать глубокий тюнинг.
Меня водят на показы светилам. Я сияю: я знаменитость, меня выбрали в качестве самого сложного экземпляра. На мне отрабатывается то, за чем — будущее. В общем — Юрий Гагарин. Профессора выбирают японскую пластику. Во всю грудь делается разрез в виде буквы «п», этот кусок кожи отдирается и напяливается на скальпированное предплечье — и рука оказывается в этом куске, как в повязке, через шею. Только повязка из собственной кожи. Последний разрез сделают, если не будет отторжения. Я пришит кожей сам к себе…
Как только отходит послеоперационный наркоз и мне позволяют встать, я мчусь в соседнее отделение. Там Наташа. Измученные разлукой, наши сердца бьются часто и счастливо. Ей можно ходить все больше, она скоро затанцует. Мне осталось дождаться последнего разреза — уже мелочь. Все будет отлично. Ведь мы вместе. Красивые, сильные и почти здоровые. Мы не можем друг без друга. И впереди огромная счастливая жизнь.
* * *
Мама решилась на разговор. В палате никого.
— У вас все так серьезно?
Я не отвечаю. Она все видит по моим глазам. Сердце матери рвется. Она знает то, чего не знаю я. Но молчит.
Я показываю ей картину, которую пишу здоровой рукой уже месяц. Это вид на больничный двор из окна. Красиво до безумия. Я вложил в картину всю свою душу. Душа сама легла на полотно — она поняла. Это великая картина. Она достойна самых знаменитых музеев. Но у них нет шансов. Потому что эта картина — подарок Наташе.
* * *
Именно так и бывает. Неожиданно. Стремительно. Бесповоротно. Убийственно.
Я мечусь по больнице и ничего не в силах изменить. Наташа вся в слезах. Мои губы побелели, скулы ходят желваками. Есть силы, которые больше нас. И они нас разводят, разлучают навсегда. Наташа прижимает трясущимися руками картину. Ночь прощания в коридоре на больничном диване чудовищна предстоящей обреченностью. Мы сидим в гробовой тишине. Мы просто парализованы предстоящей разлукой. Мы всё уже друг другу сказали и попрощались навеки. Мы уже умерли.
* * *
Утром я даже не подхожу к окну посмотреть, как ее увозят. Я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и прошу сердце остановиться. Храм нашей любви, институт им. Г. И. Турнера на Лахтинской, 3… стал нашим гробом. Два сердца, бившихся как одно целое, разорвали. А ведь мы, такие молодые и прекрасные, созданы для любви, созданы друг для друга.
Мне тринадцать. Наташе — двенадцать.
Мир рухнул в Ленинграде весной 1977 года.
картина: http://finbahn.com/алексей-вознесенский-россия/
ЗА ФЁДОРОВА
Наташа в белоснежном халате, словно модель на подиуме. Шпильки на изящных ножках. Пояс стягивает осиную талию. Главврач.
Я заехал к ней в больницу на Моховую в конце 90-х узнать результаты обследования. Десять лет не просыхаю. Начал побаиваться. Решил, для профилактики не помешает…
Она рада. Племяш. Светлая голова.
Я дергаюсь. Видимся редко. В общем-то, чужие.
– Выпьешь?
Наташа хитро смотрит в упор. Чувствует – не смогу устоять.
Правильно чувствует.
– А что?
Будто мне не все равно что. Да все, что горит.
Наташа наливает грамм сто мне и полтинник себе в какие-то мензурки.
– Чистый. Кофе сам насыпай.
Кофе после спирта в кайф.
Наташа держит пинцетом тонкую сигарету и красиво пускает дым.
– Как ты?
– Не спрашивай. Как издательство рухнуло…
– А я, видимо, уезжаю.
– Куда?
– В Англию.
Из недоступной Наташа мгновенно превращается в совершенно недосягаемую.
Мне и сказать нечего. Англия.
– Совсем?
– Да. Замуж выхожу. Он англичанин. Шпион.
– Как шпион?
– Да так. Просто. Зовет вот.
Чувствуя, что эффект от сказанного меня не удивил, а добил, Наташа реагирует мгновенно… В моей мензурке снова сто. У нее опять полтинник.
– Ну, Саш, чтоб у тебя все было хорошо.
Я бреду по Моховой, и чувство ненужности, не отпускающее все последние годы, разрастается до космических масштабов. Англия.
***
– Господи, помоги. Помоги, Господи. Помо…
К утру липкий ужас накрывает окончательно. Темнота давит и душит. Не… , так невозможно. Рядом отчаявшимся комочком полусонно прислушивается, вслушивается, вчувствывается… Помочь ничем не может. Уже. Да и как тут поможешь. Запутался мужик совсем.
Вот и тихо. Уснула. Для верности вытерпеть еще час и полуобморочное туловище поднимается с постели и уходит в ночь.
Заначка под стелькой. Там искать еще не догадались. Слава богу, на месте. Главное, открыть входную дверь бесшумно. Иначе начнется. По лестнице через боль вниз. Ноги подламываются на ступеньках. Уже все ясно – дальше станут отниматься. Не дай бог хлопнуть дверью подъезда. Тиииихо прислонить. Воздух.
Ларёк с алкашкой открывается в шесть утра. До шести дожить бы. А навстречу ранние пташки на первую электричку. Заводские. Лица серые, невыспавшиеся, как и одежды. Офисные встанут через полтора-два часа. Мои проснутся через час. Время есть. Только бы не…
Денег на малек и пиво. На сигареты уже не хватит. Да и черт с ним – дома банка с хабцами. Оп… чувак выходит из ларька с пакетом и деньги перекладывает из руки в руку, чтоб открыть дверь машины, и… в воздухе завертелась божья бабочка… За спину залетела. Только бы не увидел. Нет. Ловко закидывается внутрь. Хлоп дверью и по газам с места. Конкретный.
А бабочка на асфальте. За двадцать метров считываю влет – пятьсот рублей. С неба считай. Бог есть. Верить отказываюсь, пока не поднимаю. Она! Пятьсот! Это жизнь.
Продавщица ларька безучастна. Деньги есть – человек. Нет – и тебя нет. Здесь в долг не дают.
Двести и станет легче. Проверено. Только потерпеть. Две-три минуты потерпеть.
Раз такие дела, надо еще с собой.
В голове легкий туман. Дрожь ушла. Затяжка обретает вкус. Настоящий вкус. Не токсикозный. Жить можно.
Не дай бог хлопнуть дверью подъезда. Тиииихо прислонить. Вверх по лестнице легче. Ключом остороооожно. Входную – не дыша. В прихожей на цыпочках и тихонько в комнату. Бутылка привычно встает за мощный том Николая Федорова.
– Прости, дружище. Ты воскрешением всех усопших грезил. Вот я грядущее воскрешение себя еще живого за тебя и спрячу. Одно дело. Общее.
И на кухню. Теперь быстро кофе. Чтоб в мозг. Еще сто, кофе и сигарету. Две сигареты. Хрен ты поймешь, что я уже махнул.
Всё. Следы заметены. Видимые. А осязаемые? Так то – следы. И не разберешь: уже или еще. Всегда со следами. Один нескончаемый шлейф. Тоски, неудач, разочарований и нарастающей злобы.
Форточку настежь и в ванную. А что? А мы уже встали. Как всегда, раньше всех. Чуть-чуть раньше…
Домашние сонно задвигались по квартире. Утренний час у каждого расписан по минутам. Каждому отведено свое пространство. Главное – не задевать и выскочить на электричку первым. А там до ближайшего ларька…
***
– Андрей, здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Я хотел обсудить с вами книгу о бандитах в издательском бизнесе. Может, вместе напишем? Я в теме. Наше издательство под Костей Могилой стояло в 95-м. Я главредом там…
– Приезжайте.
В «Ажуре» все на удивление буднично. На стене кабинета Андрея Константинова какие-то мечи…
Он листает подаренную самиздатовскую книжицу стихов, смотрит на мою помятую морду и слушает рассказ… А потом долго смеется.
– Сань, да все они – люди. Я их всех лично знаю. Не стоит. Бизнес это. Большой бизнес. И ничего больше. Знаешь, раз ты пишешь, у меня в одном издательстве… Он быстро подписывает книгу и протягивает… «Агентство «Золотая пуля»…
– Поехали…
Через час мы уже на набережной Карповки, и моя трясущаяся рука в режиме буйной осциллограммы с чудовищного похмелья выводит заявление о приеме на должность завреда в отдел художественной литературы крупнейшего питерского издательства. Виталий, главный редактор, одобрительно-понимающе улыбается и со словами «наш человек» наливает стакан. Поработаешь на месте Игоря. Он тут политически невыверенный шаг сделал. В общем, входи в курс.
И я стал входить.
***
Дима Прияткин огромный, как политический обозреватель Бовин. Он заметно нервничает. Еще бы, решается его судьба.
– Дим. Прияткин не катит. Я не продам так ничего. Ну сам посуди: «Черный ворон» Дмитрий Прияткин… Ну не в кассу.
Дима теряет дар речи.
– В общем.., ээээ… Во! Вересов! Дмитрий Вересов!
Виталий возбужден. Он распаковывает блок Parliament и кидает всем редакторам по пачке. Все дружно убирают свои и начинают смолить Виталькины.
– И еще, Дим. Пять романов в год. Мне серия нужна.
Дима сдувается и становится похож на обиженного медвежонка.
– «Полет Ворона», «Крик Ворона», ну там еще «Завещание Ворона» и тэдэ.
– Виталий, я писатель, а не…
Всё. Дима понимает, что спорить бессмысленно.
– Серия, Дима. Се-ри-я. Это бизнес. Прошли времена, когда… Пять романов в год.
***
– Саш. Нужны темы. Новые. Спорт, например. Имена громкие.
– А давай систему? Легенды спорта? Бла-бла…
Виталий какое-то время думает, потом стремительно набирает номер.
– Света! Что там у нас с Пучковым? Ага. Вот и давай его завтра. Ко мне.
На следующий день в кабинете Виталия сидел сам Николай Пучков – легенда советского хоккея, вратарь от бога.
– Николай Георгиевич! Ну как вам идея? Золотая биография. Ведь это же… Молодые будут…
Пучков, не обращая на весь этот пафос никакого внимания, начал вытаскивать из внутреннего кармана пиджака листочки и раскладывать их на столе.
– Что это?
Виталий прекратил свой душераздирающий монолог и уставился на стол.
– Как что? Игровые схемы, – буркнул рассержено Пучков.
Все было просто, горько и поучительно. 2000 год. Мы только что космически просрали домашний питерский Чемпионат мира, заняв 11 место. 70-летний Пучков этим жил. Это было его поражение. Он водил ручкой по стрелочкам игровых схем, расстановкам игроков на поле, объяснял, в чем ошибки Буре, Яшина, Жданова и Каменского, где промахнулся штаб наших тренеров Якушева, Воробьева, Билялетдинова.
В итоге Пучков предложил издать «Рабочий дневник тренера» с приложением в виде его игровых схем и разослать по всем командам и сборным страны.
Надо было видеть лицо Виталия. Не было там лица.
Я проработал достаточно для того, чтобы понять: Пучков только что похоронил всю финансовую схему главреда. Виталий считал потерянные деньги, а я, сгорая от стыда, ушел курить. Надо было срочно выпить.
***
– Вы понимаете, с кем вы разговариваете?! – Голос Топильской гремит по всему издательству. Моя мама тихим голосом продолжает:
– … я поправила очевидные грамматические ошибки. Но это еще не всё. Здесь много надо переписывать. Стиль…
Топильская срывается на крик.
– Что вы себе позволяете?! Я… Это авторские знаки… Это… Кто вы вообще такая?
– Ну если это авторские знаки, давайте уволим всех корректоров и редакторов.
– Да вы!..
Она вырывает листы и…
Генеральный стоит чернее тучи. Он делает страшные глаза, берет Топильскую под руку и отводит от нас. Мама выходит на лестницу курить. Губы ее дрожат. Через час Генеральный подходит ко мне.
– Чтоб ноги ее больше в издательстве не было. Ты соображаешь? Топильская – звезда. Я не позволю, чтоб какая-то…
***
Через полгода я наберусь наглости и спрошу:
– Виталий, а что если мое издать? Ты же все читал.
– Сань, ты с ума сошел. Это же бизнес. Поэзия современная вообще не идет. Только классика. Да и то не вся. Омар Хайям катит. Остальное так… Даже Пушкин не в кассу. Слушай, какая в жопу поэзия? Вот ты знаешь, сколько отдел Неонилы нам на «Камасутре» приносит? И вообще, ты о чем думаешь? Тебе собрание сочинений Константинова сдавать. И Кивинов звонил, про новую книгу спрашивал. Иди-ка работай, поэт.
***
Меня накрывает уже во время концерта. Еще на входе хорошенько принял. В буфете ДК имени Горького дорого. Да и очередь. А мы привычные. И с собой есть.
БГ, как всегда, работает в нон-стопе. До конца концерта одна-две песни. Я знаю, что он уходит сразу. Никаких «на бис». Быстро начинаю пробираться к выходу. План сумасшедший. Да и я сумасшедший… уже. Главное – морду кирпичем. Смешиваюсь с какими-то работниками-сотрудниками и оказываюсь в служебках. Только не суетиться. Пара глотков из фляги, и я уже на автопилоте. Время не чувствуется. Да и я себя перестаю воспринимать кем-то реальным. Только вижу, как группа вместе с Борей направляется в какое-то помещение. Иду, шатаясь, следом.
Огромный стол. Шум, смех, какие-то обнимания-поздравления. Понимая, что еще немного и,.. решаюсь. Пру прямо к столу, за которым БГ уже поднимает бокал.
– Борис, вы меня не знаете. Хочу вам книгу своих стихов подарить.
И ему в руку. Он ничего не понимает, таращится на меня, по сторонам, но книгу берет. Протягивает мне бокал.
Несколько охранников-мордоворотов молниеносно устремляются ко мне.
Чей-то крик: Блядь, кто его пустил?!
– Ребятаааа, я сам… Только без рук…
Через несколько лет, когда Константинов привел меня в издательство, рассказываю эту историю Анне Черниговской. Я совершенно случайно ответственный за выпуск Дюшиной «Истории АКВАРИУМА. Книги Флейтиста». Аня взбалмошна и высокомерна. Я для нее никто. Какой-то там редактор. Но за работой разговорились. Услышав концертную историю, она смотрит на меня сквозь желтые стекла очков как на идиота.
***
На автобусной площадке вдоль платформы привычный городок из ларьков. Разномастных. Бухло, курево, консервы. Мой ларек светит иным, нежели остальные, светом. Теплым и родным. Там Мишка. А Мишка наливает в долг. Или просто так, за почитать стихи. Наливает спирт. Как и во всех ларьках по бескрайней России. Мишка прется от того, что к нему каждый день заваливает вузовский препод, журналист и редактор в одном флаконе, да еще читает стихи. Мы как зацепились как-то заполночь языками, так и закорешились. Я опоздал на последнюю электричку, и мы всю ночь проговорили и пробухали. Стихи всплыли случайно. Прочел наугад. Просто к слову. Он попросил прочесть еще. И понеслось.
Мишка учится и мечтает о своем бизнесе. В этом ларьке он бригадир продавцов. Но мечтает открыть свои и подняться. Для меня он – ангел-спаситель. После работы я дежурно зависаю у него на час, выпивая свои дежурные триста грамм.
***
– Господи, помоги. Помоги, Господи. Помо…
… Главное – открыть входную дверь бесшумно. Иначе начнется.
… Двести и станет легче. Проверено. Только потерпеть.
***
– Виталий, привет. Это я. У тебя в издательстве работал. Помнишь?
– Привет. Чем могу?
– Тут… В общем – жопа. Выручишь?
– Сколько?
– Да тут…
– Сань, говно вопрос. Через час успеешь, а то я улетаю? Только больше не бухай перед приездом, охрана не пустит.
Через час я в его приемной.
Виталий выскакивает пулей. Он опаздывает.
– Это тебе, Виталий…
– Что это? Твое?
– Да вот, вторая. Стихи. Самиздат.
Он протягивает конверт с деньгами и, словно предчувствуя, что мы больше не увидимся, бросает, рассмеявшись:
– Знаешь, Саня, а ведь, похоже, я только что купил самую дорогую книгу в своей жизни.
картина: http://finbahn.com/надежда-эверлинг-россия/
JARVINEN
В конце 80-х мы часто сталкивались с ней на пригородной платформе в ожидании электрички на Ленинград. Она была чуть старше. Мы не дружили. Но общее лыжное прошлое давало пищу для незамысловатых разговоров. Я преподавал в институте. Она… раз за разом делилась своими мечтами свалить из Совка. От безнадёги. Собственно ради этого и пошла в «Интурист». Когда узнал, что уже в Суоми – воспринял как само собой разумеющееся.
В 90-е ее приезды домой были сродни явлению Санта-Клауса в колымскую зону. Но уже тогда это её сверху-вниз перебивалось такими нашими уголовными и бандитскими откровениями, что… Впрочем, люди свои. Посмеялись и обнялись. А в нулевые русские полетели так, что Финляндия тихо сжалась при виде пролетающих косяками «поршей» с северо-западными российскими номерами. Страна тысячи озер иначе, чем экологическим огородом-пригородом Питера и не воспринималась. Да кишки еще евросоюзовские. Но это так – культмассовая забава.
Пять лет назад в 46… вдруг решила родить четвёртого. С нашего берега виделось это крепким подтверждением веры в себя, семью и скандинавскую социалку. Социалка тамошняя – это да.
За последние годы пересеклись пару-тройку раз. На похоронах… (куда она заявилась в ситцевом сарафане и высоких расшитых казаках – мода лихих девчонок середины нулевых) да на паре праздников у близких друзей. Что-то меня все эти годы после ее отъезда задевало. Снисходительное высокомерие её? Может быть. Ловил себя на мысли: вроде и знаешь ты нашу жизнь – и не знаешь совсем.
Только сейчас я начинаю понимать – это грустная примета жизни нашего поколения. Неизбежное сравнение судеб оставшихся и уехавших. Детское в этом что-то. Идиотское. Все хотят счастья. И кому оно там засветило, ни в чем перед нами не виноваты. Особенно когда знаешь цену.
А 1 января 2015-го её не стало. Не выдержала страшного инсульта. И хваленая чухонская медицина не спасла. Собиралась на лыжах – трасса прямо у дома. А вышло…
В 70-е в лыжной секции предметом гордости были деревянные финские Järvinen. Доставались исключительно мастерам. Еще многие годы спустя, когда встречал на пригородных платформах пожилых лыжников с Järvinen – долго смотрел им вслед. Хорошие были лыжи.
Беги, девочка.
Мы догоним.
КАНАДА, НЕ ПАХНУЩАЯ СМОЛОЙ
– Саня, надо валить.
– Валера? Охренел совсем?
– Да что здесь делать-то? Чекисты везде. Бизнеса нет. Саня, КПСС вернулась – посмотри на съезды единороссов.
– Да тебе ли жаловаться? Вон – коммерческим сколько лет уже. Два раза в год всей семьей в Австрии. Валера, не гони.
– Да разве это деньги? Я больше двух штук не получаю. А там…
Все мои доводы о том, что постоянно гуляющая по сети фишка «Пора валить» – пропагандистский вброс, не работают.
***
В 90-е Валере можно было дать на пиво, и он быстро отставал. Институт Лесгафта, тренер по горным лыжам, сборы, продажа экипировки, запои… всё линейно. Почти по Жванецкому. По улицам поселка бродила шатающаяся тень. Потом вдруг пропал. А в начале нулевых нарисовался. Гладко выбрит, прикинут, с кейсом в руке. Бывшие спортсмены вообще народ живучий и смышленый. В 70—80-е они первыми начали правильно считать. Даже мажоры завидовали. Поэтому я и не удивился этой метаморфозе. Мы часто пересекались. Однокашки. Жили в соседних домах. Общее алкогольное прошлое сближало особенно. Срывались тоже в шахматном порядке. Его из запоя выводил наш общий друг и тоже одноклассник – зав. отделения больницы. Меня вытаскивали из штопора на стороне. Пили по-разному. Причина была общая – как пробиться?
Весной 2012-го он неожиданно обратился ко мне с просьбой.
– Сань, сделай мне торговую марку.
– Тебе зачем?
– Да я в Бундесе фирму зарегистрирую и погоню товар из Китая. Как немецкий. Здесь на ура пойдет. Надоело на дядю пахать. Хочу сам.
– Что-то ты поздно спохватился. Фишка-то древняя. Только ленивый ее не крутит.
– Сань, ты просто сделай марку. Только охуенную. Ты же мастер. По деньгам сойдемся. Лады?
– Лады.
– Ок. Я к тебе на днях тогда подскочу.
Не подскочил. Исчез.
Через месяц в мае мы встречались классом. 30 лет выпуска. Валеры не было. Стал расспрашивать. И на тебе – уехал. В Канаду. Стремительно продал всё — и всей семьей.
***
– Валера, ты же там на хуй ни кому не нужен. Ладно бы программист, физик там или еще. Ну или бабла немерено. Тогда да – вэлкам. А с нуля… Ну не знаю.
– Сань. У этой страны нет будущего. Все куплено. Все схвачено. Не продохнуть.
– Но я-то живу.
– Да как ты живешь? Вверх-вниз? В долгах по уши. И это с твоей-то головой. Ты же сам этой стране не нужен.
– Валера, я в 91-м мог в Уппсале остаться. И в 93-м. Коллеги универовские уговаривали. Там питерских до жопы. И дело даже не в языке, которого я не знал и не знаю. Это фигня. Там иначе. И не в экономике дело. Они думают иначе. Совсем. Я это понял. Почувствовал. И в Германии в конце 90-х почувствовал. Чужие они нам. Это не объяснить. И потом – мы для них второго сорта. Даже хуже. Русские – это как клеймо. Если ты по политике, типа убежище, – тогда еще понятно. Вон – Лондон под завязку забит. Десять спизженных российских бюджетов жопы свои московские пристроили. А ты с чем? Кровавый путинский режим и шиш в кармане? Или ты за американской мечтой?
Да и деньги отношения к нам в целом не меняют. Это как «свой-чужой». Ты так хочешь?
– Ты усложняешь. Я же постоянно туда мотаюсь. Люди как люди. Только не озлоблены, как мы.
– Так ты турист. И с деньгами. Это же элементарно. Тебя же в Эстонии в задницу готовы целовать, когда ты бабки достаешь. А что сука русская, этого ты не слышишь. Они это тихо и в спину. И потом – ты же с тоски кони двинешь. Я же знаю. Как здесь, там не попиздишь. И соли у соседа не спросишь.
– А причем здесь соль?
***
Валеры не стало через год. Инфаркт. Не было в Канаде друга-врача, который бы вытянул из штопора. Друг рыдал в трубке телефона. В Питере. Я не рыдал. Не мог. Ругал себя последними словами и почему-то вспоминал любимую книгу покойного отчима – Аркадий Фидлер, «Канада, пахнущая смолой».
***
Валера по платформе не идет.
Валера под землей лежит в Канаде.
Валера как обычно не запьет,
Не сплюнет на асфальт,
не скажет: «Бляди!»
Валеру потянуло за бугор,
В страну индейцев,
есть такая фишка.
Валера думал – горя недобор,
а вышло слишком.
И на хера болотный Петербург
менять на эти вражеские клены?
Валера, ты ж не умер, ты уснул!
Зеленый
никого еще не спас.
Какого черта?
Бундес был же ближе?
Валера, ну кого теперь ебёт,
что были лыжи?
Что снег летел
быстрее мутных дел,
что жизнь летела?
Я б только одного теперь хотел:
верните тело!
ПЕРВАЯ
Эх, первая лекция. Начало семестра. 1988 год. Коллеги по кафедре еще бодры. До зимней сессии далеко. А до летней — вообще как до Луны. У меня, как всегда, винегрет из разновозрастных групп: есть и перваши, есть и старики-вечерники, 35-летние дядьки и тётьки, которым для получения инженерной бумажки на ихнем ЛМЗ и Ижорском турбинном нужóн диплом «вышки» — нашего атомноэнергомашиностроительного вуза. В общем — любви все возрасты покорны.
Ну, перекурили и в аудиторию.
Сидят. Много. Первую лекцию по философии не косят. Хрен его знает, этого препода, что он за крендель. По глазам вижу — разведка.
Первую лекцию я всем группам гнал одну и ту же. Знал — это как первая любовь да еще с первого взгляда. Иными словами, или я их сразу, или лучше и не думать — семестр мучений. Ставка, короче, выше чем жизнь. И была эта первая лекция все годы моего преподавания такой… Я расскажу про первашей. Эти же сразу после парты. По 17. Молодые, наглые. Ни черта не боятся. А тут еще и философия. Ну, типа, думают: мы его сейчас на тычинки с пестиками супротив морального кодексу и пробьем.
Поехали.
Уточняю у аудитории про возраст. С 17-тью гордо соглашаются.
А знаете ли вы, хлопцы и дивчины, что мужик в нашей стране живет до 65? Да и то по статистике.
Подвоха не чуют. Слово «мужик» парням нравится.
Предлагаю дам пожалеть и изучать психику будущих отцов.
Ржут и соглашаются.
Итак, ребята, сколько будет из 65 вычесть 17?
Правильно — 48.
Давайте до 45 округлим — считать проще.
Глаза зыркают. Еще не поняли, но напряглись.
А сколько времени в сутках?
24.
А спим мы 8 часов. Итого — треть дня. А значит, треть жизни.
И получается, что из 45 лет, тех, что до финиша, мы честно изымаем 15.
Так?
Так. И осталось 30.
В аудитории нарастает что-то, чего они еще не понимают.
Продолжаю.
А работаем-учимся мы 8 часов. Это тоже треть дня и треть жизни. И значит, из 30 долой пятнашку и осталось 15.
А денег не хватает. И надо еще подработать где-нибудь. В день хоть 3 часа. И минус пару-тройку лет из 15.
То есть осталось 12 лет.
А еще время на дорогу уходит — у кого сколько, но, туда и обратно плюс куда-нибудь забежать, купить чего, поболтать с кем и тэ дэ.
В итоге, имеем: из 12 минус пару лет, и остается 10.
А дома — поесть, что-то к чему-то прибить, привинтить, ведро вынести, машину помыть, с собакой погулять, носки погладить.
В остатке — лет 5, не больше.
Это, говорю им, ребята, то, что у вас, 17-тилетних, остается на ту самую насыщенную интересную жизнь, о которой вы всю жизнь мечтали, мечтаете и будете мечтать.
То есть вам 17. Умрете в 65. Но на ЖИЗНЬ у вас 5 лет. В 17 — всего 5!
В аудитории — оглушительная, злая тишина.
Кто-то быстро перепроверяет на листке, ища подвоха.
Кто-то вяло препирается на предмет того, что ему и 7 часов сна хватает (на этих смотрят с подозрением).
Кто-то, наоборот, заявляет, что работает еще и ночами и сейчас пойдет топиться, потому как у него и четырех не остается.
Находчивые девушки заявляют, что бабы живут дольше, после чего понимают, что их сейчас разлюбят арифметически.
В итоге, самый умный (который все перепроверил в уме, понял, что край, а прорываться надо) вопрошает за всех: «А что делать-то?»
Я всех сразу успокаиваю историей о том, что сосулька на голову может упасть и в 30, и в 20, и даже этой зимой. А значит, деление и вычитание произойдет совсем быстро.
Аудитория начинает выть.
Уже не до шуток.
Все просекли, что это не обман, а реальный кирдык.
И тут я им загоняю вопрос под дых.
А вы на лекцию по какому предмету заявились?
По философии.
И вы что, говорю им, наивно думаете, что мать-философия вас бросит, оставит одних супротив танков судьбы?!
Это главный момент. Момент истины.
Аудитория клянется, что жизни без моих лекций не мыслит, а косить готова «вышку», ядерную физику и всю остальную научную пургу. Жизнь дороже.
Предлагаю философствовать немедля, но математически. И щедро дарю треть жизни каждому. Нефиг, говорю, работать. Пусть трактор работает. Мы будем творить. В творчестве — едрит твою! — и есть спасение.
Приходится долго рассказывать о сжигающем огне страсти к делу всей жизни, когда часы летят незаметно (в этом месте осторожно надо — считать-то продолжают).
Еще предлагаю не заниматься фигней (ежедневно) и искать смысл во всем где ни попадя. В качестве вишенки на торте советую чаще смотреть на крыши и под ноги, обращать внимание не на светофор (он еще ни на кого не упал), а на машины и в глаза водителю. Ну, и самым бесстрашным — не бухать и не курить.
Последнее принимается в штыки, и все дружно заявляют, что после услышанного не напьется только мудак или незнакомый с арифметикой козел.
И вот тут я им заявляю, что и это не всё, и можно вообще к чертям собачьим отменить все эти мои высокоточные расчеты.
На меня начинают смотреть как на мага. Думаю, что если бы я в этот момент растворился в воздухе, никто бы даже не икнул.
Короче, я провозглашаю, что с нами — Бог! И что Он дарует нам жизнь вечную. И что эта так называемая жизнь — и не жизнь, а подготовка к выходу в открытый космос и тэ дэ и тэ пэ, — развернуто, мощно и тихим голосом. Тихий голос работает сильней нагана. Тишина режет уши.
«Гул затих, я вышел на подмостки…»
Вы когда-нибудь видели большую группу законченных материалистов 17-тилетнего возраста, готовых обратиться немедленно — не важно в какую веру, и не важно, что эти веры даже по-разному смотрят друг на друга???
Я это наблюдал на первой лекции все годы преподавания. Скажу больше: 25- и 35-тилетние готовы были это совершить прямо в аудитории.
Великая и сокрушительная сила инженерно-технических вузов в том, что там на слово не верят. Там верят железобетону. Там люди опыты ставят, что-то с чем-то смешивают, что-то к чему-то привинчивают и верят только в слово «заработало». Вселенная теорий там не стóит одной работающей микросхемы.
Бедные мальчишки и девчонки.
И через десятилетия я не продвинулся в вопросах веры дальше муравья.
Перелопатив стеллажи философских и богословских книг, я, крещеный, и по сей день задаюсь вопросами: «Где же ты, Боже? Кто ты? Кто мы? Что это вообще вокруг? И какого?..»
И порой мне так хочется вернуться на свою кафедру (я ушел в 95-м), снова войти в аудиторию и снова прочесть первую лекцию. Мне кажется, с тех давних пор ничего не изменилось.
RADIOHEAD
Каждый раз, проходя мимо Катькиного садика, бросаю взгляд на фасад Публичной библиотеки. Грустный это взгляд. Фигня это всё – что время лечит. Не лечит. Только больнее делает. В конце 80-х Спецхран Публички спас. Я чувствовал себя подводником. Люки задраены. Даже перископ не поднимал. В гробу я всё видел. Весь этот белый свет. Который на глазах окрашивался в черный, а вскоре и вовсе кровавым стал. Страна валилась, погребая под обломками всех. Я уходил на глубину. Ни видеть, ни слышать того, что твориться…
***
Димка, как всегда стремителен. Он прилетел ко мне загород, сгрёб в охапку, и тачка рванула в Ленинград. Через час я уже обживался на новой работе. МВД-эшный особняк на Роменской улице бандиты съели вместе c загородным ментовским пансионатом под Зеленогорском. Пансионат стал виллой босса. Офис братвы на Роменской. Я охранник.
– Саня! Тут в три больше, чем у тебя в институте. Нормальная прибавка? Держи подарок от бригады.
С Димкой 6 лет в Универе. После окончания он распределился в Текстильный. Тряпка – мечта моей юности. В 82-ом мои документы приняли на факультет дизайна со словами «экзамены мы за тебя сдадим сами»…А я струсил. Одни бабы. Молодой. Из области. В башке пуританская мораль. А тут… В общем, психанул и, минуя архитектурный факультет Инженерно-строительного (еще одна мечта) угодил на экономический в Универ. 1982. Старт похоронной эстафеты генсеков. Мальчика-ботаника из пригорода, из дома, где книг было больше, чем деревьев вокруг, очутился в Блатнограде. И новая волна накрыла. Как это у Юрия Шевчука? – «По улицам едут мальчики-мажоры». На шесть универовских лет. А после: Димка в Тряпку, я – лечить историей экономических учений инженеров ядерных реакторов. Он мотался с комсоставом блатного института по итальянским выставкам моды, я смотрел в злые глаза инженеров ЛМЗ и Ижорского завода. А в 90-м аспирантура. Уход на философский. Нищета наступила запредельная. Димка свалил из Тряпки к бандитам и подобрал студенческого кореша.
У входа на Роменской «бомбы» и «ауди». По коридорам офиса слоняются быки. У всех стволы. На столах в комнатах ваучеры горами. А я сидел за столом охранника и читал, читал, читал. Издательства лихорадочно выбрасывали на рынок всё, что десятилетиями советской власти было скрыто в спецхранах. Быки пялились на меня, как на дегенерата. Я еще бородищу отпустил, как у абрека – для пущей андеграундности. Быки пялились на меня. И я на них. Исподлобья. И уходил все глубже в подполье. Внутренняя империя (классно Линч свой финальный фильм через годы назовёт). Димка пытался меня оттуда выковырять. Таскал по баням с блядями, хвастался оружием (особенно мне нравился «Узи» – через год ствол точно такого же упрется мне в лоб в Стамбуле), уговаривал завязывать со всей этой нищей преподавательской хуйнёй. А что я? Мне и эти деньги, что платили за охрану, казались состоянием. На «Рояль», чай, курево, хлеб и книги хватало. Что еще надо человеку, который по уши завяз в религиозной философии? Я поймал волну. Голос. И голос этот был настолько силён, что происходящее вокруг казалось миражом. Я был в состоянии транса. Обрушившаяся на голову философия, спирт литрами, чифир и дешевое курево – ядерный антидот. По прошествии четверти века я с издевкой смотрю на повылазивших изо всех щелей тепличных либеральных пиздоболов, именующих себя философами. Моё сотрясение мозга растянулось на все 90-е и протащило и через эту малину на Роменской и через работу в структурах Малышевской и Тамбовской ОПГ, системе Кости Могилы. Бригады, бригады, бригады.
***
Это как радиоволна ушла. Вот только что был сильный чистый уверенный сигнал. И вдруг – хрип, треск. Ушла волна. Пропала. Ровно после кризиса 98-го. Я больше не верил. Ни во что. И ничему. За спиной осталась Димкина могила на Северном. И могилы тысяч и тысяч чичи гага, торпед, братков по всей стране. Я выжил. Волна хранила. Хранила до тех пор, пока мозг не превратился в проспиртованный фарш. Еще два года штопора, и на выходе совсем другая музыка. По всем офисам страны пронеслось «Харэ бухать!». Нулевые, это марш кокаиновых мальчиков из клубов BMW. Я подшился и решил начать новую жизнь. Философия ничего, кроме отвращения больше не вызывала. В голову неслось со всех сторон: ты нищий! ты ничем не можешь помочь семье! как ты смеешь смотреть в голодные глаза жены и детей? они разуты и раздеты! они не видели ничего, кроме твоего бездарного философско-алкогольного марша по улицам бандитского Петербурга!
***
Жалею ли я? О том, что в нулевые натворил, жалею? О том, что старший преподаватель кафедры философии и главред шести журналов надел маску клоуна-психопата и креативным директором пронёсся с грандиозным скандалом по офисам топовых компаний и рекламных агентств Питера? Теперь я не знаю.
В 70-е спасением был спорт. Мальчик-калека смог избавиться от мучительного комплекса урода и изгоя.
В 80-е проститутки и мажоры выбили из ботаника совок.
90-е превратили в прибандиченного циника.
А нулевые? Странное к ним отношение. Офисный фашизм победил во всей стране. И ничем он не отличался от партийной шизы умирающего СССР. А я словно сам обернулся мажором из далеких 80-х и панковским маршем шагая по этому зоопарку, ловил тот же адреналин, что валютчики, проститутки и бомбилы с выборгской трассы – понты, азартные деньги, кайф отрицаловки. На выходе – перевернутая страница. После «Четвероякого корня закона достаточного основания» жрать дешевые детективы можно долго, но не бесконечно. В конце концов, согласились на ничью: я так долго посылал систему нахуй, что система послала нахуй меня. Ушла и эта радиоволна.
***
Где-то далеко-далеко в кажущейся уже миражом прошлой жизни я до слёз доводил своих студентов штудиями «Смерти Ивана Ильича» и «Екклесиаста». Я ковырял и ковырял их мозг последними вопросами. Они отбивались, как могли, как умели. А я долбил и долбил. Есть старая преподавательская (советская еще) приблуда: первый раз объяснил – никто ничего не понял; второй раз объяснил – поняли студенты; третий – понял сам. Через четверть века до меня дошло – этот схрон я готовил себе. Готовил капитально и по всем правилам диверсионной науки. Ни одна вражина не должна была его обнаружить. Для чего, по тем же правилам войны, о его существовании должен был забыть и я. С тем, чтоб не выдать под пытками на допросах, не проговориться в бреду. Получилось. Наглухо спрятанный передатчик активизировался через 25 лет, а параллельно — вшитый в мозг чип стал принимать четкий уверенный сигнал. Глубокое внедрение агента состоялось.
2012 год. Осень. Пригород Санкт-Петербурга. Кухня 4,5 метра. За крошечным столом нищей квартиры сидит лысый безработный инвалид-ветеран 3-ей Великой отечественной войны. Фашисты вокруг страны. Фашисты внутри. Партизан-диверсант отхлебывает чифир, смолит дешевой сигаретой и рисует схемы подрыва мостов и глушилки сигналов вражеских радиостанций. ¡No pasarán!
***
карточки в публичке
фио и тп
галочки странички
точки зпт
ксероксов немае
вобчем от руки
с жадностью вникаем
мудрости тюки
засран катькин садик
капнем коньяку
где ты кореш вадик
плюнь в нева реку
91-ый
сэсэсэр отпет
где ты кореш верный
серый белый свет
ножевая рана
и рояль в стакан
мальчики спецхрана
вышли на таран
кожаные куртки
за вадул-сирет
челноки да урки
проходной билет
…
четверть века в топку
в черепушке фарш
100% хлопка
ю эс онли марш
всё аутентично
пыль а ю окей
боль сугубо лична
ты её залей
…
кожаные куртки
брошены в огонь
где вы братцы урки
сдох педальный конь
старики мажоры
пенсионных шлюх
пропитые шоры
юрай хип на слух
карточки в публичке
фио дурачка
жизнь на полстранички
прочерк
тчк
ПАУК
Вся подтянутая. Спина – хоть линейку прикладывай. Каблуки – шпильки. Уххх. Но мы ее не любили. Зося. Наша классная. 81-ый. Весна. О чем думается? Да о чем угодно, только не об уроках. В девятом-то классе. А тут:
– … и вы не можете не согласиться, что добрым и хорошим кроме всего, о чем я сказала раньше, быть еще и выгодно.
Верила ли сама? Хреново ей было. Вялотекущий антисемитизм не одну судьбу сломал. Зосей звали болонку ее сестры. Почему на нее перекинулось – уже и не вспомню. Зато слова о рационализме добра запали. И всю жизнь мучают. Что-то поганое в них. Какая-то неуловимая липкая зараза.
…
По окончании универа часто к ней заходил. Делился впечатлениями первого опыта преподавания. Ну и тщеславие. У нее школа, у меня вуз. Но этого, мучившего меня вопроса, не касались. И не успели. Умерла она страшно. И одиноко. Что-то тогда дернулось в душе, и довел я ее классы до выпуска. Хоть и не был историком. Да в начале 90-х и пофиг всем было. Преподавай что хочешь. Я и оторвался. О самом сокровенном да с 9-10-тиклассниками. Пожалел на всю жизнь. Бензин да в костер.
***
Как же меня раньше трясло от ее прямолинейности. С порога в лицо входящему могла такую правду-матку зарядить. Да и за столом праздничным – сколько раз. Любому гостю – такую шпильку. Вот что думает, то и… И тишина. И оглушительно кто-нибудь вилкой о тарелку. Сколько раз я мысленно залезал под стол. Сколько раз сквозь землю готов был провалиться. От стыда.
Мама.
Сейчас чаи гоняем-курим-смеемся. Над глупостью моей.
***
Когда теща умерла, представить не мог – как мы все соберемся, что говорить-то будем. Сложным была человеком. Трудным. Сказать, что я ее не любил – ничего не сказать. Но столько лет вместе. А когда на поминках повисла пауза, и надо было срочно первым тостом как-то все это напряжение снимать, вдруг не выдержал и выпалил всё, что долгие эти годы думал:
– А ведь я ей завидовать должен. Да и завидовал. Она прожила жизнь так, как хотела – ни у кого не спрашивая разрешения. И говорила то, что думала. А думала прямо и ясно. Не было в ее жизни двойного дна. И если кто-то из нас за что-то мог ее не любить, ему не надо было это что-то искать. Она ничего не прятала. И это тот урок, который мне еще предстоит усвоить. Если потяну.
***
–Ты меня любишь? Ну скажи…
И всю жизнь молчу. Как партизан на допросе. Выдавить из себя не могу. Всегда казалось и кажется до сих пор: скажу – рухнет всё. А вокруг льется и льется. «Я тебя люблю». Миллиардноголосо. Господи. Кто б еще знал, что это такое.
…
Зато как крепка веревка, связывающая двоих. Где один – смертельно зависим. Гвозди из него делать. На полосы резать. Он примет. Всё.
А любовь?
Когда научный руководитель в Универе прочел тему диссертации, которую я сам себе придумал – надо было видеть его глаза. Если б я сейчас такую у кого-то обнаружил, у меня б скулы от смеха свело. «Смысл любви в философии XIX-XX вв.». Вот и собрал он, копаясь в моей писанине, все подъёбки на сей амурный счет: от Шопенгауэра, Кькркегора и Ницше, до Вейнингера, Соловьева и Розанова. В конце лечить нас нужно было обоих. Он как-то мудро вырулил. Соскочил. Я ж пер аки танк – и повалился. А потом за три года повалил все свои группы в институте. Шесть семестров шизанутой гештальт-терапии и параноидальной интеллектуальной камасутры. На неокрепшие студенческие мозги. Бедные дети. Простите вы меня.
***
Наверное, хамство – во спасение. В нулевые репутация безбашенного переговорщика кормила исправно. Тут не было смелости. Только усталость от тотальной менеджерской дрессуры и повального прогиба перед сильными мира. Нет, ногой двери не открывал. Но со старта лепил генеральным, топам и собственникам такую бронебойную правду, что замы и пехота валили из кабинетов. А всё прокатывало. Хищники любят острое. Если не блефуешь. Я не блефовал. И это работало.
Жаль поздно понял…
***
Одна из любимых тем лекций в институте – мораль. Наверное, я издевался. Над собой. Студенты – просто попадали под раздачу. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха… А вот муж из командировки… И – тут из маминой из спальни кривоногий и хромой… И все смеются. Всем весело. Всем не страшно. Еще.
…
Тук-тук. Это паук. Нет, это не вибрация ниточек паутины в которую я попал. Это я паук. Это я ловлю вибрацию тех далеких слов про выгодное добро.
,,,,,,,,,,,
Ключ
У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
в эту комнату знакомых водил.
Мои товарищи жили с тещами
и с женами, похожими на этих тещ,–
слишком толстыми,
слишком тощими,
усталыми, привычными,
как дождь.
Каждый год старея на год,
рожая детей (сыновей, дочерей),
жены становились символами тягот,
статуями нехваток и очередей.
Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаше и чаще:
– Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?
Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми руками,
с глазами,
в которые, раз погружен, падаешь, падаешь, словно камень.
А я был брезглив (вы, конечно, помните),
но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я – давал.
Борис Слуцкий
картина: http://finbahn.com/ринат-волигамси-россия
ГДЕ-ТО ДАЛЕКО
Что сейчас задним числом из себя умного строить?
А тогда… Тогда, в 1985-ом, на фоне маразма похоронного марша генсеков и какого-то пьяного мажорского угара вдруг очень больно стегнула контрабандная новость о восстании наших военнопленных в Пакистане в крепости Бадабер под Пешаваром, где наши ребята захватили склад с оружием и дали бой регулярным частям Пакистанской армии и афганским моджахедам. Сталинград. В клочья всё и все. После расстрела из тяжелых орудий крепость на воздух, а фрагменты тел до горизонта.
Афган был спрятанной войной. Все знали и… делали вид, что не знают. Новостей ноль. Но эта… Помню, напился тогда… и стих выплеснулся. Наивный мальчишеский. Первые строчки остались в памяти: «О чем он думал перед сном, израильский сжимая «Узи»?». Почему «Узи»? С какого перепуга? Да какая теперь разница?
В конце 80-х в Морозовке на похоронах деда мама подвела к хмурому парню-ровеснику.
– Знакомься, это твой троюродный брат.
Пока то да сё – выяснил, что только что из Афгана. Мы тогда первый и последний раз с ним и увиделись. Вроде поминки, а я запал на его красавицу-жену, гибельной красоты девчонку. С психу перебрал. Потом стал к брату приставать: мол, расскажи, как там было? Ну и послал он меня нахуй. А дальше? Дальше… убрались уже вместе.
С афганцами близко столкнулся вначале 90-х в структурах Кости Могилы, тамбовских, малышевских. В том бандитском Петербурге спрашивать уже ничего не хотелось. Да и другое понеслось. В шалмане у дома психовал одноклассник, вернувшийся с контузией из Приднестровья; названивал второй, узуродованный двумя Чеченскими; заваливались ребята из Сербии. Каждый раз, когда встречались, вспоминал свои школьные мучительные вопросы-страхи: а если б меня немцы в плен взяли, да иголки под ногти: смог бы..?
А потом? А жизнь потом пролетела. Внуки выросли. Столько всего зажглось и потухло. Кожа воловья выросла на душе. Бум-бум новости. Одна страшней другой. Да всё мимо. И вдруг щёлкнуло. Когда сообщили подробности последнего боя нашего летчика, Романа Филипова, в Сирии: как сбили из ПЗРК его «Грач», как катапультировался, как отстреливался из «Стечкина» от талибов; а когда понял, что край, крикнул «Это вам за пацанов» и подорвал себя гранатой. И всё в YouTube.
Странная штука – память. Почему-то ей важен 1985-ый, Ленинград, блядство кромешное мажоров… А где-то за тридевять земель в Пакистане у ребят свой 41-ый.
Не вяжется. И тогда, в 80-е, не вязалось. И сейчас – в 2018-ом. У людей ипотека, шопинг, «Камеди клаб», «Голос», выборы, непотопляемый (как Пугачёва) Познер несёт очередную либеральную хуйню, Собчак в Штатах рейтинг на пизду наматывает. А у людей война – у людей «Сотников», «А зори здесь тихие» – бои местного значения от Донбасса до далёкой Сирии.
И школьные мысли-страхи молоточками в голове: а я смог бы? Наверное потому стих лосевский 30 лет всё не отпускает.
Валерик
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь.
А. С. Пушкин
Вот ручка, не пишет, холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там — даёшь трудодней?
Пока нас держали в Кабуле,
считай до конца января,
ребята на город тянули,
а я так считаю, что зря.
Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
стоят, как надрочены, эти…
ну, как их… минет, не минет…
трясутся на них «муэдзины»
не хуже твоих мандавох…
Зато шашлыки, магазины —
ну, нет, городишко не плох.
Отличные, кстати, базары.
Мы как с отделённым пойдём,
возьмём у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом;
и как они тянутся, тёзка,
кури хоть полпачки подряд.
Но тут началась переброска
дивизии нашей в Герат.
И надо же как не поперло —
с какой-то берданки, с говна,
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул — и хана.
Машина крутнулась направо,
я влево подался, в кювет,
а тут косорылых орава,
втащили в кусты — и привет.
Фуражку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка. Отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я сильно сначала блажил.
Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделённый кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.
Лев Лосев (США) 1980
https://finbahn.com/александр-бабушкин-проза/
«ВОЛЬНО»
Маменька-то на склоне лет совсем плохая уже была. Да и с чего иной-то? (знающие согласно кивают). А батя… А что батя? Пока мог, въябывал, аки конь педальный. Порой бухал не просыхая. С похмелья страшен был. Гонял маманю и детей (семья многодетная) всем, что под руку попадало. Дети, правда, все выучены были крепко. И хоть биты – но сыты, одеты и обуты.
Соседи их боялись, но уважали. Дом шумный большой. Всем гостям хлеб-соль (себе чаще отказывали). Порой таким упырям подавали – не приведи Господь… Жалели. За своих — в драку бросались первыми и не раздумывая. Но ежель и свои что не так – тоже в рыло сразу.
А как сдали предки – дети вразнос. Иные так и вообще отказались от родителей. Это которые выбились в начальники. С ними те, кто из писарей да потешных. Были и те, что из лихих. Стали тырить всё из дому (маманя с батей уже и не следили особо) да продавать, сплетни травить да плевать в родную сторону. Некоторые даже побежали жить к таким соседям, с которыми и в поле-то рядом не садились в добрые времена. В чужих домах таких хоть и не считали полноценными и плевались не скрывая, но принимали. Правда далеко не всех. Поначалу пускали только из жалости (уж больно страшное рассказывали). А остатне время — только в обмен за стыренное (благо, в родных стенах осталось, что брать).
Прочие же дети… Ну… это долгая история.
Картина — Вася Ложкин
ПРОЗА ЖИЗНИ
По большому счету писание проз – издевательство над собой. Вот именно проз, или как там называется то, что…
Стихи? Тут иное. Строчка прицепится и… Да все читали нобелевку Бродского. Именно так. А про не так – Пастернак Шаламову всё сказал. Исчерпывающе.
Стихи – короткое замыкание. Где ударило – там и хватайся за все, чем успеешь записать и на чем успеешь. А не успел – до следующего раза. Если случится.
А прозы…? Ну это онанизм. Ни дня без строчки – чистой воды мазохизм и мозговредительство. И не надо начинать про дисциплину ума. А уж все эти рулады про стиль, язык и прочие отточенности форм… Не, не то. Хоть и выпит залпом Казаков. И куда уж круче? Да, можно и в юродствующем панке планку на небо закинуть. Веня Ерофеев поднял – выше нельзя. Розанов потому что выше. Но это уже дьявольские штучки Бога. Иные миры.
А ушибленному стихами? У него и прозы – недоразумения. Это – ток пошел, а муза на толчке. Вот и забилась рука в конвульсиях писчебумажных. Нацарапалась жизнь. А кому она нужна? Каждому – со своей бы разобраться. А чужая – шла бы лесом.
Язык – он же меток. Все банальное – проза жизни.
А на небо смотрим.
С грустью.
картина — https://finbahn.com/шустов-андрей/